VI
Климатические условия Швейцарии, по причине гористого характера страны, разнообразны до бесконечности; каждая долина, каждый склон горы имеют свой особенный климат. Одно только можно сказать, в виде общего правила, что на Юре и на северном склоне Альп климат холоднее и суровее, чем следовало бы ожидать, судя по широте места, тогда как на южном скате гор города, защищенные от северного ветра, пользуются более высокою температурою, чем населенные места гладких равнин, лежащих в таком же расстоянии от экватора. Так, например, в то время, как в Локарно, на берегах Лаго-Маджиоре, средняя температура 13°Ц, температура Швейцарской равнины, между Женевским и Констанцским озерами, не превышает, средним числом, 8 или 9 градусов; каждая из метеорологических станций Швейцарии имеет свой особенный климат.
Средняя температура городов Швейцарской равнины:
Санкт-Галлен 7,7°Ц.; Берн 8,1°Ц.; Люцерн 8,6°Ц.; Цюрих 9,0°Ц.; Нефшатель 9,3°Ц.; Женева 9,7°Ц.; Лозанна 9,8°Ц.; Монтрё 10,5°Ц.
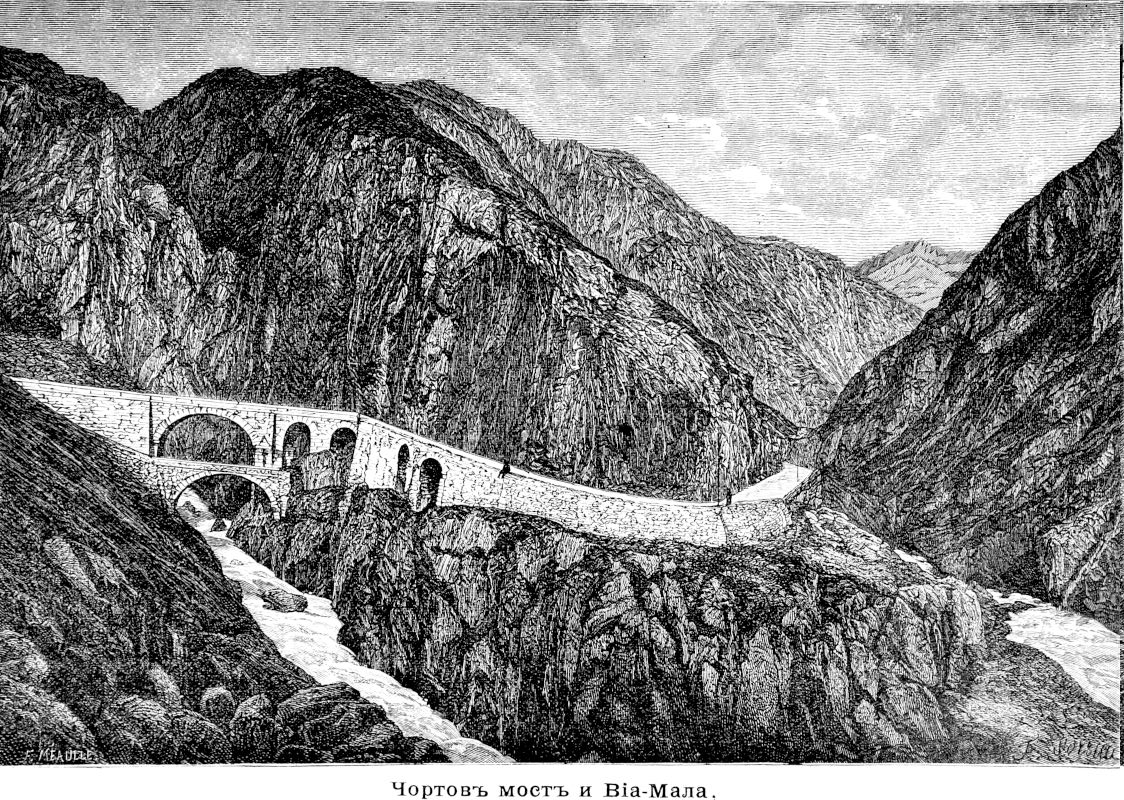
На склонах гор средняя температура постепенно уменьшается на один градус с увеличением высоты на 165 до 230 метров, смотря по различным условиям местного климата: в среднем выводе это уменьшение составляет 1 градус на каждые 186 метров высоты. На Сен-Готарде и Симплоне средняя температура года соответствует точке замерзания; на Сен-Бернарде она колеблется между 1 и 2 градусами ниже 0; на вершинах Монте-Розы и Оберланда средняя годовая температура, выведенная на основании имеющихся наблюдений, равна -15°: это уже климат Гренландии и полярных архипелагов. Нижняя граница постоянных снегов на горах Швейцарии лежит на высоте 2.800 метров над уровнем океана, но в исключительных случаях, при очень жарком лете, бывает, что вершины в 3.400 метров высоты, даже с широкими боками, совершенно обнажены от снегов, и на утесах Мишабеля, громоздящихся на высоте 4.300 метров, иногда не видно ни одного белого пятна.
Благодаря своим высоким горам, задерживающим воздушные течения и облака, Швейцария получает гораздо большее количество атмосферной влаги, чем окружающие ее страны. В болотистых раввинах, на озерах, в долинах, не имеющих выхода, часто стоят туманы; но, вообще говоря, на половине высоты гор небо менее чисто, чем внизу на равнинах и вверху на вершинах; на скатах гор, особенно около высоты 1.500 метров, облака ударяются о каменную стену и разрешаются проливным дождем; выше воздушная влага падает в виде кристаллов снега, но она менее обильна, чем на полусклоне гор, где находится главный пояс туч. В Швейцарской равнине среднее годовое падение дождя составляет от 800 миллиметров до 1 метра,—количество, которое уже превышает дождепад Франции на одну пятую или даже на целую четверть; но эта средняя величина атмосферной влаги, получаемой равнинами, еще далеко не достигает годового объема вод, падающих в виде ливней на высоких склонах гор. На Сен-Бернарде годовой слой дождевой воды, включая сюда и эквивалент снегов, имеет около 2 метров толщины. По наблюдениям Агассиза, на хребтах иногда в продолжение одной зимы выпадает слой снега до 17 метров толщиною. На южном склоне Альп, в долинах Тессина и его притоков, где теплые южные ветры, ударяясь о холодные горы, разрешаются ливнями, годовой слой атмосферной влаги еще значительнее; в дождливые годы он превышает 3 метра.
Пропорционально пространству территории, Швейцария из всех европейских стран получает наибольшее количество дождевой воды и отдает ее морю в наибольшем обилии, её реки, текущие на север, на запад и на юг, к Германии, Франции и Италии, представляют в совокупности массу воды, вчетверо большую, при равных поверхностях, чем та, какую изливает в море французская территория, которая, однако, пользуется очень обильным орошением. Кроме своих многоводных рек, разносящих плодородие по соседним странам, Швейцария обладает еще, как мы видели, огромным запасом озерных вод и не менее богатым запасом кристаллической воды в форме исполинских ледников и обширных фирновых и снежных полей, покрывающих вершины и склоны её высоких гор.
В Швейцарии так же, как во Франции и Германии, общее движение ветров совершается по направлению с юго-запада на северо-восток и с северо-востока на юго-запад. Полярное и экваториальное воздушные течения постоянно сталкиваются между собою, и то одно, то другое из них одерживает верх в этой борьбе. Но резкия неровности рельефа, пересекающие страну во всех направлениях цепи гор с их долинами, задерживающие или видоизменяющие правильный ход ветров, обусловливают бесчисленные уклонения атмосферных токов. На хребте или горном проходе может дуть сильный ветер, тогда как внизу, в долине, воздух спокоен или движется в противуположном направлении. Нередко случается, что северный ветер проникает в долину с юга, или западный с востока. Впрочем, во всякой долине, хорошо замкнутой, т.е. заключенной между двух высоких гор, движение воздуха возможно только по двум направлениям—снизу вверх или сверху вниз; так, например, Валлис не знает других ветров, кроме западного и восточного; долина Рейна, от Кура до Констанцского озера, и долина Тессина от Сен-Готарда до Лого-Маджиоре, доступны только воздушным волнам, идущим с севера и с юга.
Общий закон колебания воздушных частиц, по которому атмосферные токи днем движутся с раввин к вершинам гор, а ночью и утром наоборот, с гор в долины, замечен во всех частях Швейцарии, и особенности на озерах, где потребности судоходства заставляют наблюдать регулярно эти явления. Когда нормальный порядок местных бриз не нарушается общими воздушными течениями, ветер после полудня всегда дует с нижней части озера, потому что действием солнечных лучей в это время образуется сборный фокус на вершине гор; ночью же ветер опять спускается на озеро с быстро-охладившихся гор. Только этот поворот бриз не везде наступает в одно и же время: на одних озерах он замечается ранее, на других позднее, что, без сомнения, зависит от рельефа почвы, климата, положения в отношении солнечного освещения и нагревания, различных для каждого озерного бассейна. Так, например, в Тессинском кантоне, крутые горы которого обращены на юг, так что лучи полуденного солнца падают прямо на их склоны, breva, или веющая снизу бриза уже в одиннадцать часов утра начинает подниматься к высотам, а обратное, т.е. нисходящее воздушное течение, иногда образуется с самого вечера. Напротив того, на озерах Цюрихском и Боденском, долины которых идут на запад и которые окружены горами, менее высокими и менее подверженными действию солнечного жара, все атмосферные движения опаздывают на несколько часов сравнительно с наступлением их на южном склоне Альп.
Из ветров, свойственных Швейцарии, особенно замечателен знаменитый фён (Fohn), favonius древних римлян, производящий наиболее быстрые перемены в температуре и общем равновесии атмосферы. Это воздушное течение, в одно и то же время благодетельное и грозное, издавна составляет предмет изучения и спора для метеорологов. Одни из их, вместе с Дове и Мюри, считают его тропическим противо-течением пассатов; другие, вместе с Эшером Линтским и Дезором, видят в нем ветер Сахары, немного уклоняющийся от своего первоначального направления к северо-востоку под влиянием барометрического понижения, т.е. уменьшения атмосферного давления, в Западной Европе; достоверно то, что во время фёна 23 сентября 1866 г., как показали тщательные наблюдения Л. Дюфура, метеорологические условия Алжирии и Швейцарии были совершенно одинаковы, так что, очевидно, над обеими странами пронеслась одна и та же буря. Фён дует преимущественно зимою и в начале весны, когда средний пояс ветров находится еще близ экватора; характер его значительно разнится, смотря по свойству долин и времени года, но вообще это сухой, горячий, расслабляющий ветер; правда, проходя над высоким гребнем Альп, он охлаждается и часто орошает Монте-Розу и вершины Тессинских гор сильными дождями; однако, погружаясь в долины, он снова нагревается, вследствие сгущения воздуха, и дует теплым ветром; он-то главным образом способствует таянию снегов весною: иногда в несколько часов этот ветер очищает обширные склоны от снежного покрова, задерживающего рост трав. «Без фёна, говорят граубюнденцы, ни Бог, ни золотое солнце ничего не могут сделать». Но этот благодетельный воздушный поток по временам является в виде страшной бури. Горе судам, застигнутым тогда по середине озер, вдали от безопасной пристани. Волны, подхватываемые вихрем, сталкиваются в хаотическом беспорядке; ветер яростно рвет пену, которая несется над водой столбами, кружась как настоящие смерчи; бушующее озеро походит на громадный кратер, наполненный кипящею водою.
Вместе с понижением средней годовой температуры на склонах гор, по мере увеличения высоты, замечается постепенное исчезновение всего живущаго—растений, животных и людей. Почти все население Швейцарии сгруппировалось в равнине, на низких холмах и на дне долин, между высокими горными цепями; кривые, проведенные по скату гор, могли бы во многих областях Швейцарии обозначить точную границу человеческих жилищ. Из городов один только Шо-де-Фон (la Chaux-de-Fonds), в Нефшательской Юре, поднялся на высоту 1.000 метр., но и то, так сказать, наперекор климату. В возвышенных долинах есть несколько деревень, построенных на высоте от 1.200 до 1.500 метров, и даже в печальной Аверской долине, впадающей в долину Нижнего Рейна, в той области, где, как говорят в шутку,—«год состоит из девяти зимних и трех холодных месяцев», существует кучка хижин, приютившаяся на высоте 2.042 метр.: это сельцо Жюф, построенное колонистами германского происхождения, и которое можно считать высшим населенным пунктом нашей части света, так как во всей Европе нет другой деревни с постоянным населением, которая бы находилась на такой большой высоте. Еще выше лежит Сен-Бернардский странноприимный дом (на высоте 2.472 метров), который круглый год открыт для путешественников, совершающих переход через Большой Сен-Бернар. Наконец, есть много хижин, приютившихся в углублениях между скалами, выше линии вечного снега: это убежища, устроенные обществами любителей восхождения на высокие горы. Самое возвышенное из этих убежищ есть хижина на Мон-Сервене, или Маттергорне, построенная на высоте 3.900 метров.
Всем известно, какое могущественное влияние оказывает климат на жителей высоких долин. Вообще говоря, горцы имеют торс более сильный, ногу более твердую, чем обитатели равнины; благодаря чистоте и легкости воздуха, которым они дышат, горные жители менее подвержены различным болезням, в особенности чахотке, этому страшному недугу, который похищает так много жертв в Западной Европе. В этом отношении благотворное действие горного климата подтверждено опытом, и теперь каждый год сотни чахоточных с успехом для своего здоровья проводят зиму среди снегов и льдов, в деревнях Граубюнденской долины Давос, на высоте 1.550 метров. Напротив того, процент легочных и грудных болезней заметно возрастает с увеличением высоты; эти недуги развиваются между населением гор в заразительной и очень опасной форме: тогда их называют в Немецкой Швейцарии Alpenstich (альпийский удар). Одышка, золотуха, ревматизм тоже чаще встречаются в высоких долинах, чем на равнине. Наконец, на сыром дне узких долин, мало освещаемых солнцем, и особенно там, где воды текут по почве, содержащей горькозем, между жителями очень распространены зоб и кретинизм, которые, впрочем, постепенно ослабевают по мере увеличения опрятности и благосостояния, так что теперь число зобатых и кретинов с каждым годом уменьшается.
Вообще говоря, немощных телом или духом, исключая слепых, в Швейцарии более, чем в соседних государствах; более половины свидетельствуемых молодых людей признаются негодными к военной службе. Но, к счастью, эта страна, благодаря различному положению разных её частей над уровнем моря и зависящему от того бесконечному разнообразию климатов, имеет могущественное средство, при помощи которого можно успешно бороться с болезнями, увеличивая по произволу, посредством простого переселения из одной местности в другую, легкость или тяжесть воздуха, жар или холод, сухость или сырость климата. Уже Жан-Жак Руссо выражал удивление, что «ванны из живительного благотворного воздуха гор до сих пор не сделались одним из главных средств для врачевания плоти и духа» («Новая Элоиза»), Это желание великого писателя-реформатора теперь исполнилось, и каждый год тысячи городских жителей приезжают укреплять, если не «дух», то по крайней мере здоровье тела в обширных отелях, построенных на горах и в высоких долинах, каковы: Риги-Кальтбад, Риги-Фирст, Риги-Кульм, Зелисберг, Муверан, Бельальц и в множестве других дворцов, воздвигнутых в соседстве с царством вечного снега, откуда можно любоваться великолепным видом на Монте-Розу или на колоссальные вершины Бернского Оберланда. Знаменитейшие и наиболее посещаемые бальнеологические заведения Швейцарии, Шинцнах, Баден, Пфефферс, Луэш или Лейк (Loueche, Leuker Bad), Санкт-Мориц Поскиаво, без сомнения, обязаны наплывом больных столько же чистоте воздуха, сколько и целебному свойству их вод. Что касается самих горцев, то они во все времена имели привычку постоянно менять воздух или климат, хотя делают это не ради поправления или укрепления здоровья, а в силу требований своего хозяйства: для косьбы травы и уборки сена они поднимаются к лугам, покрывающим высшие части гор; для возделывания виноградников спускаются на самые нижние склоны; наконец, для жнитвы овса или для сбора картофеля располагаются на средней высоте. В Валлисе есть множество сельских общин, имеющих каждая по три деревни, поочередно обитаемые и покидаемые.
Обозначить точные границы распространения различных растений швейцарской флоры довольно трудно, так как человеческая промышленность, бесконечное разнообразие почв и местных климатов, более или менее благоприятное положение местности относительно действия солнца (экспозиция) производят значительные контрасты в этом отношении. Даже в упомянутом сельце Жюф, гораздо выше среднего пояса лесов, упорный труд горцев заставил почву родить некоторые овощи. На южном склоне Альп и в высоких долинах Граубюндена, защищенных от северных ветров, растительность достигает несравненно больших высот, чем на горах Немецкой Швейцарии. Так, например виноград растет на южной стороне Монте-Розы до высоты 900 метров, тогда как в кантоне С.-Галлен он нигде не поднимается выше 520 метров. Точно также верхняя граница хлебных злаков на севере Швейцарии лежит на высоте около 1.100 метров, между тем как в Граубюндене ячмень родится еще на высоте 1.800 метров, а на Монте-Розе на высоте почти 2.000 метров. Не принимая в рассчет этих исключительных случаев, можно сказать, что запашки прекращаются на высоте 1.200 метров. Из этого следует, что около половины Швейцарии находится выше пояса земледелия; но и ниже лежащие склоны гор далеко не все удобны к обраработке: леса, озера и скалы занимают большую часть территории; поля в собственном смысле составляют лишь одну-седьмую всего пространства республики, да и те постепенно уменьшаются, будучи частью превращаемы в луга. После Норвегии, Швейцария из всех европейских стран имеет наименьшее количество пахатных земель, вследствие чего собственное её производство далеко недостаточно для покрытия потребления, и почти половина хлеба, потребляемого её жителями, привозится из-за границы.
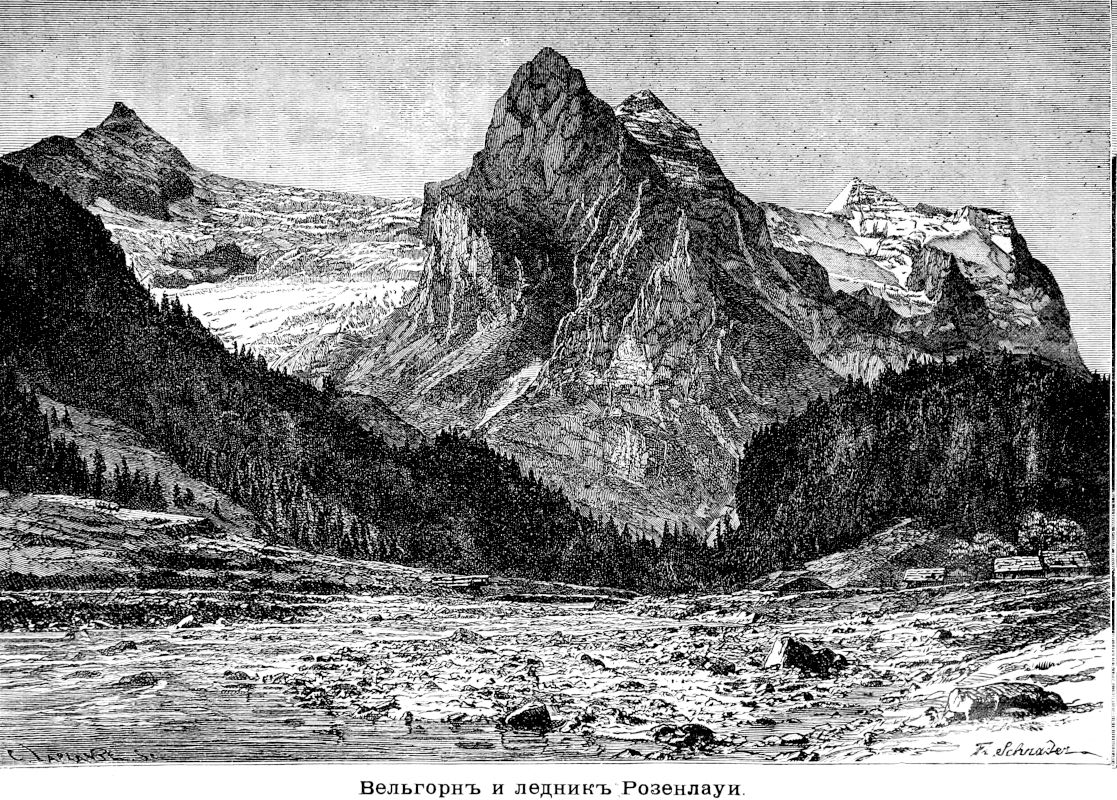
Главное естественное богатство края состоит в лесах, лугах и пажитях, ибо деревья покрывают здесь более одной-шестой, а травы более одной трети территории. Хотя многие высоты, преимущественно в Валлисе, Граубюндене, Тессине, лишены растительного покрова, но в целом горы Швейцарии принадлежат к наиболее зеленеющим, к самым богатым растительностью возвышенностям Европы; покрытые лесом на нижних склонах, опоясанные лугами на вершинах, эти горы производят приятное впечатление своею свежестью и красотою контуров, особенно если их сравнить с разрушающимися стенами Альп Дофине, с выжженными солнцем и поросшими чахлым кустарником утесами Апеннин, с печальными сиеррами Испании однообразного пепельно-серого или ярко-красного цвета. За исключением дуба, который довольно редок в Швейцарии, почти все породы дерев, свойственные равнинам Европы, украшают швейцарские долины и первые предгория Альп. В самом низу преобладает великолепный грецкий орешник, широко раскидывающий свои ветви; лежащие над ним склоны покрыты буковым или каштановым лесом; выше тянется чернолесье, сосна и пихта,—деревья по преимуществу швейцарские; еще выше, в холодном воздухе вершин, растут лиственница и сибирский кедр, дающие драгоценное дерево; наконец, выше всех царит ползучая альпийская сосна (pinus mugho), самое смелое из швейцарских деревьев, которое одно борется с морозом; правда, оно разростается более в корни, чем в ветви, и ветви его вьются по земле, между кустами рододендронов, чтобы укрыться от ярости бурь, часто бушующих на этих огромных высотах. В горах Швейцарии, так же. как на Альпах Дофине и Савойи, верхний фронт лесов в продолжение текущего геологического периода спустился ниже, или по причине понижения средней температуры, как полагают некоторые метеорологи, или, что гораздо вероятнее, вследствие истребления лесов рукою человека и меньшей силы сопротивления, которую могут противопоставить суровости зим отдельные кучки деревьев: известно, что одинокое дерево скоро погибает там, где еще без труда существовал бы целый лес. В прежнее время, как о том свидетельствуют древесные стволы, погребенные в торфяных болотах, леса покрывали склоны Валь-Пиора и Люкманьера, где теперь можно встретить только пажити. Верхняя граница лесной растительности проходила тогда, по меньшей мере, на высоте 2.200 метр., тогда как в наши дни она лежит 400 метрами ниже.
Подобно лесам разных пород, и травяная растительность на склонах гор представляет последовательные переходы, обусловливаемые постепенным понижением температуры, с увеличением высоты. Внизу перед нами расстилаются богатые, тучные луга, удобряемые искусственно и дающие обильный сбор сена; но по мере того, как мы поднимаемся в лощинах и нагорных равнинах, трава на полянах становится все мельче и ниже, и растения полярного пояса все более и более вытесняют виды, свойственные умеренной Европе. С наступлением весны стада коров покидают свои хлевы, где проведена длинная зима, и под предводительством коровы-матки, которая важно выступает впереди, украшенная венком и потрясая своим колокольчиком, караван отправляется на Альпы. Сначала он останавливается на нижних пастбищах, затем, когда верхние склоны освободятся от снежного покрова, поднимается на высокие Альпы, где растет та сочная душистая трава, которой швейцарские коровы обязаны своим чудесным молоком. Ни одна поляна, ни одна лужайка не пропадает здесь даром; куда не могут взобраться коровы, туда лазят козы и овцы; куда даже бараны не в состоянии вскарабкаться, туда горец переносит их на спине. Есть пажити, окруженные со всех сторон снегом и льдом, и где, при малейшем неосторожном движении, животное легко может свалиться в пропасть. Поэтому, с приближением зимнего времени, стада уходят с этих опасных высот и спускаются обратно в равнины к своим скотным двора
Животная жизнь прекращается на горах Швейцарии гораздо ниже того пояса, где еще прозябают мхи, лишаи и кое-какие другие растения. В области постоянных снегов, т.е. на высоте более 2.800 метр., единственными представителями животного царства являются насекомые и паукообразные, всего около тридцати видов; на высоте от 3.000 до 3.300 метр., остаются только пауки. Встречали также один вид полевой мыши (arvicola nivalis) на высоте почти 4.000 метр.; но еще не известно, живет ли этот маленький грызун, роющий себе норы под снегом, постоянно на этих высотах, или он только заходит туда летом. Подобно четвероногим и другим животным, рыбы альпийских озер тоже постепенно уменьшаются в числе и разнообразии видов вместе с понижением температуры на горах. Встречающиеся выше 2.100 метр., маленькия озера, скованные льдом в продолжение значительной части года, очень бедны рыбою.
В исторические времена многие растения исчезли, вытесненные культурою, преимущественно виды, росшие на песчаных пространствах по берегам озер и на болотах; точно также многие животные швейцарских лесов и гор были истреблены охотниками. Бизон и бобр, которые еще в средние века существовали в большом числе, теперь вывелись совершенно. Ланей в Швейцарии не видали уже лет сто, оленей—лет шестьдесят; козулю и кабана тоже, кажется, можно исключить из числа представителей швейцарской фауны; черепахи также, вероятно, исчезли, хотя и уверяют, что их видели еще недавно. Дикия кошки попадаются еще в лесах, но и они стали очень редки. Волки довольно обыкновенны, и все еще производят опустошения в стадах. Последний медведь в Аппенцелле был убит в 1673 г.; в настоящее время медведи еще водятся в Граубюндене, Альпах Тессина и Валлиса, но и там они, без сомнения, исчезнут в недалеком будущем; Берну скоро придется выписывать из дальних стран своих символических животных. Горам Швейцарии грозила опасность не иметь вскоре никаких гостей из больших животных, кроме пригоняемых на лето стад домашнего скота, но теперь стали охранять серн, и заботятся о разведении вновь каменного барана.
Хищные птицы, как например, страшный ягнятник (gypaetos barbatus), нападающий даже на детей, тоже уменьшаются в числе; но, на сколько известно, еще ни один вид не истреблен совершенно в исторические времена. Птицы втрое многочисленнее, чем все другия позвоночные животные швейцарской фауны; правда, три четверти встречаемых здесь видов этого класса—перелетные птицы, или птицы, прилетающие сюда только на лето или на зиму: для пернатых так же, как и для людей, Швейцария сделалась любимою целью путешествий. её географическое положение в середине умеренного пояса и рельеф её гор, поднимающихся за облака, делают понятным, почему её долины служат временными станциями для такого большего числа видов. Само собою разумеется, что птицы перелетают с одного склона альпийских цепей на другой через самые низкие впадины горных масс. В особенности Сен-Готардский проход служит главным трактом для крылатых эмигрантов, по причине прямого направления с севера на юг, которому следуют долины рек Рейсы и Тессина. Поэтому возвышенный бассейн Урзеренский и Андерматский, очень удобно расположенный как промежуточное место роздыха, есть одна из тех местностей Швейцарии, где орнитологи находят особенно богатую и важную добычу. Во все времена полет птиц ясно указывал человеку то место в цепи гор, где всего удобнее и естественнее проложить путь через систему Центральных Альп.