II. Континентальная Греция
Горы Пинда, образующие средний хребет южной Турции, продолжаются в Греции и придают ей подобный же орографический характер. По обеим сторонам условной границы те же скалы, та же растительность, одинаковые пейзажи, и население почти всюду одного и того же происхождения. Разделяя Эпир и отдавая Греции Фессалию, европейская дипломатия не заботилась о согласовании своего деления с указаниями природы. По трактату 1881 года восточная граница начинается от южной подошвы Олимпа, охватывает всю нижнюю долину Пенея, затем пересекает его приток Сарандапорос, или «Сорок бродов», линией водораздела, по гребню Хассионских гор до массива Пинда, доминируемого эоценовымп скалами горы Перистери. К западу от Пинда, политическая граница идет по глубокой долине Арты, оканчивающейся заливом того же имени. На востоке, турецкий Олимп отделен от Пинда Титаресскою долиною, но Осса и Пелион принадлежат Греции. Несмотря на свою меньшую высоту сравнительно с Олимпом, «остроконечная» Осса и «длинный» Пелион, известные ныне под именами Киссово и Цагора, производят впечатление величественных гор, благодаря дикости их долин, обрывистости и скалистости выступов. Эта цепь, заканчивающаяся на севере острова Эвбеи полуостровом Магнезией, имеющим форму крючка, была для древней Греции одним из вернейших оплотов. Варварские набеги останавливались пред нею и разбивались, как волны о крепкий утес. Они могли только проникнуть к западу от этой цепи, чрез долину Пенея, справедливо считаемую естественной границей Греции. Отсюда та чрезвычайная важность, которую имела в стратегическом отношении Фарсальская позиция,—она прикрывала, на юге Фессалии, доступ в проходы Отриса и в равнину Сперкиус. По той же причине заботливо охранялся и Петрасский проход, на северной оконечности Олимпа.
Перистери, или «Голубиная гора», этот угловой пограничный столб теперешней Греции, к высочайшим вершинам Пинда не принадлежит, но дает начало множеству рек: на северо-западе с него сбегает Виоза к Адриатическому морю, на северо-востоке спускается Вистрица к Салоникскому заливу, на юго-востоке Саламбрия—верхний приток Пенея, на юго-западе и юге две реки, Арта и Аспро-Потамос текут к Ионическому морю. Параллельно верхней долине «Белой реки» тянется главный хребет Пинда, фланкируемый на востоке, на фессалийском склоне, террасами из красноватого конгломерата, принадлежащими к миоценовому периоду и разрезанными действием вод на башни, пирамиды, призмы. Поселяне Фессалии прозвали эти причудливые образования «чудесами природы».
Одинокая вершина горы Тимфрест или Велухи, подымающаяся в том углу, где Отрис отделяется от главной цепи Пинда, хотя не самая высокая вершина в континентальной Греции, но составляет, так сказать, центр, из которого расходятся в разные стороны и реки, и горы. К югу и юго-востоку, её отроги, ограждающие собою прекрасную долину Карпенизи, соединяются посредством высокого хребта с самою значительною горною группою новой Греции, группою, увенчанною пирамидами почти всегда снежных вершин Вардуссии и Хионы, склоны которых покрыты еловым лесом, и с величественной Катавотрою, древней Этою, где возвышался костер Геркулеса. Горы Вардуссия и Хиона стоять прямо против живописных и также лесистых и снежных горных групп северной Мореи.
К западу от Велухи и Вардуссии, горы Этолии, хотя и не столь высокие, но обрывистые и непроходимые, представляют настоящий хаос хворостника, диких скал и ущелий, в которые отваживаются пускаться только валахские пастухи. В южной Этолии местность становится доступнее по берегам озер и рек, но там также возвышаются горы, которые посредством извилистых отрогов соединяются с системою Пинда. Горы Акарнанского побережья, против Ионических островов, обрывисты, покрыты деревьями и кустарниками; это—горы того «Черного материка», о котором говорит Улисс. К востоку от Ахелоя тянется другая береговая цепь, хорошо известная морякам,—Зигос,—южные склоны которого, суровые и голые, виднеются над Миссолунги; далее же к востоку, другая цепь выдвинулась в море и вместе с мысами Мореи образует узкое гирло Коринфского залива. У самого входа, между прибрежными горами Этолии, возвышается Варассова, с очень крутыми скатами, которая походит на громадную глыбу или чудовищный камень. Это та самая скала, которую, по местным сказаниям, древние титаны хотели бросить в середину пролива, чтобы она служила порогом между обоими берегами; но камень оказался слишком тяжелым, и они выронили его на том месте, где он находится и поныне.
Горная группа Катавотры продолжается на восток, к Эгейскому морю, параллельно горам острова Эвбеи, в виде прибрежной цепи, или скорее в виде ряда групп, отделяющихся друг от друга глубокими проломами, широкими впадинами и даже речными долинами. Хотя горы эти не высоки и перерезаны многими проходами, но по своим крутым скатам, обрывистым выступам, многочисленным пропастям они весьма трудно доступны, так-что во время войн древней Греции нужно было весьма небольшое число людей для защиты их от целых армий. На одном из концов этой цепи находится Фермопильский проход, а на другом, при подошве Пентеликона, с восточной её стороны,—знаменитое Марафонское поле.
Группы вершин, возвышающихся на северном берегу Коринфского залива, на юге Беотии, или Виотии, составляют также, в своей совокупности, нечто в роде горной цепи, идущей параллельно гряде, которая тянется вдоль Эвбейского пролива, но только красивее и живописнее последней. Нет ни одной из этих вершин, которая не пробуждала бы самых приятных поэтических воспоминаний и не воскрешала бы образы древних богов. На западе прежде всего является «двуглавый Парнас», на котором укрылись Девкалион и Пирра, предки всех греков, и где афиняне, потрясая факелами, плясали по ночам в честь Бахуса. С вершин Парнаса, почти столь же высоких, как и Хиона, возвышающаяся пирамидою на северо-западе, видна вся Греция, со всеми заливами, берегами и горами, от Олимпа в Фессалии до Тайгета на оконечности Пелопоннеза; прямо под ногами у себя зритель видит восхитительную долину Дельф, составлявшую «пуп» земли—место мира и согласия, где греки забывали взаимную вражду. Не менее прекрасна и группа, следующая за Парнасом к востоку. Геликон Муз, как и во времена античной Греции, представляет собою горную группу с живописными и плодородными долинами; в особенности восточные склоны их имеют чрезвычайно привлекательный вид: их рощи, луга, сады, в которых журчат ключи, представляют совершенную противоположность с голыми и иссушенными равнинами Беотии. С Парнаса бежит Кастальский источник, а с Геликона - источник Гипокрены, брызжущий под копытом Пегаса. Длинный горный кряж Киферона, на котором, по эллинской мифологии, родился Бахус, соединяет горы южной Беотии с горами Аттики, представляющими мраморные скалы, которые прославились, благодаря соседству защищаемого ими города. К северу от Афин лежит Парнес, профиль которого отличается правильностью и чистотою, к востоку—Пентеликон, в котором находятся знаменитые ископаемыми костями Пикермийские пещеры; к югу—гора Гимет, славившаяся своими цветами и пчелами; далее Лаврион, замечательный богатством серебряной руды, тянется к юго-востоку и оканчивается мысом Суниум, посвященным Минерве и Нептуну и сохранившим еще на себе двенадцать колонн древнего храма.
На юге Аттики находится другая отдельная группа, занимающая Мегарский перешеек во всю его ширину и служившая валом, защищавшим афинян от нападений пелопоннезских соседей,—это Геранея, ныне Пера-Хора. За нею следует собственно Коринфский перешеек, сжатый Коринфским и Эгинским заливами, представляющий просто порог, шириною менее шести километров между обоими берегами, бесплодные и безводные известковые скалы которого возвышаются над морем лишь на 40-70 метров. Этот перешеек, составляя нейтральное пространство, разделяющее две различные географические области, был как-бы назначен самою природою для собраний, празднеств и торговли. Еще и теперь на перешейке можно заметить остатки поперечной стены, защищавшей пелопоннезцев, а на берегу Коринфского залива были найдены следы канала, начатого по распоряжению Нерона, но затем заброшенного; только в новейшее время предприятие это было доведено до конца, и с 1893 канал открыт для прохода судов. Главные высоты континентальной Греции:
Цигос 1.600 метр. Перистери 2.100 метр. Осса (Киссово) 1.600 метр. Пелион (Цагора) 1.564 метр. Велухи (Тимфрест) 2.119 метр. Хониа 2.495 метр. Вардуссия 2.512 метр. Катавотра (Эта) 2.000 метр. Варассова 2.459 метр. Лиакура (Парнас) 918 метр. Палеовуна (Геликон) 1.749 метров. Элатеа (Киферон) Парнеса 1.376 метр. Пентеликон 1.126 метр. Гимет 1.036 метр. Пера-Хора (Геранея) 1.366 метр.
Известковые горы Греции, как и горы Эпира и Фессалии, богаты котловинами, в которых вода собирается в озера, между тем как вся окружающая их земля, покрытая пропастями, в которых теряются горные потоки, суха и бесплодна. Южная Акарнания, часть которой, вследствие недостатка текучей воды, получила название Ксеромерос, т.е. «сухой страны», также усеяна озерными лощинами. Артский залив представляет собою не что иное, как озеро, соединенное с морем посредством узкого пролива, порог которого запирает вход всем судам, имеющим более 4-х метров посадки. Вулканические явления бывают в этом заливе и теперь. Недавно Декигалла констатировал там поднятие подводного холма в 30 метров ширины и 7 метров вышины. К югу от Артского залива находится множество озер,—остатков внутреннего моря, наполненного наносами Ахелоя. Самое значительное озеро этой страны получило от туземцев даже название Пелагос (т.е. «море»), по причине его большего протяжения и сильного прибоя его волн, - это древний Трихонис этолийцев. Озеро это считалось бездонным—и действительно оно очень глубоко, и воды его чисты, но оно медленно изливается в другой, не столь обширный, бассейн, который окружен болотами и сам изливается, посредством мутного потока, в Ахелой. Берега озера Трихонис покрыты деревьями и обработанными полями, между тем как вокруг нижнего озера местность безлюдна, вследствие господствующих там лихорадок. Тем не менее, местность эта очень красива. Сейчас же по выходе из узкого ущелья или клиссуры Цигосских гор, дорога, на протяжении почти двух километров, идет чрез мост, построенный одним турецким губернатором чрез болота, разделяющие оба озера. Мост этот, на половину уже опустившийся в тину, еще достаточно высок для того, чтобы с него можно было свободно осматривать воды и берега: дубы, платаны, дикия маслины переплетаются над ним своими ветвями: дикий виноград свешивается с этих стройных деревьев, и фестоны его красиво обрамляют картины голубой поверхности вод и обступивших озеро высоких гор.
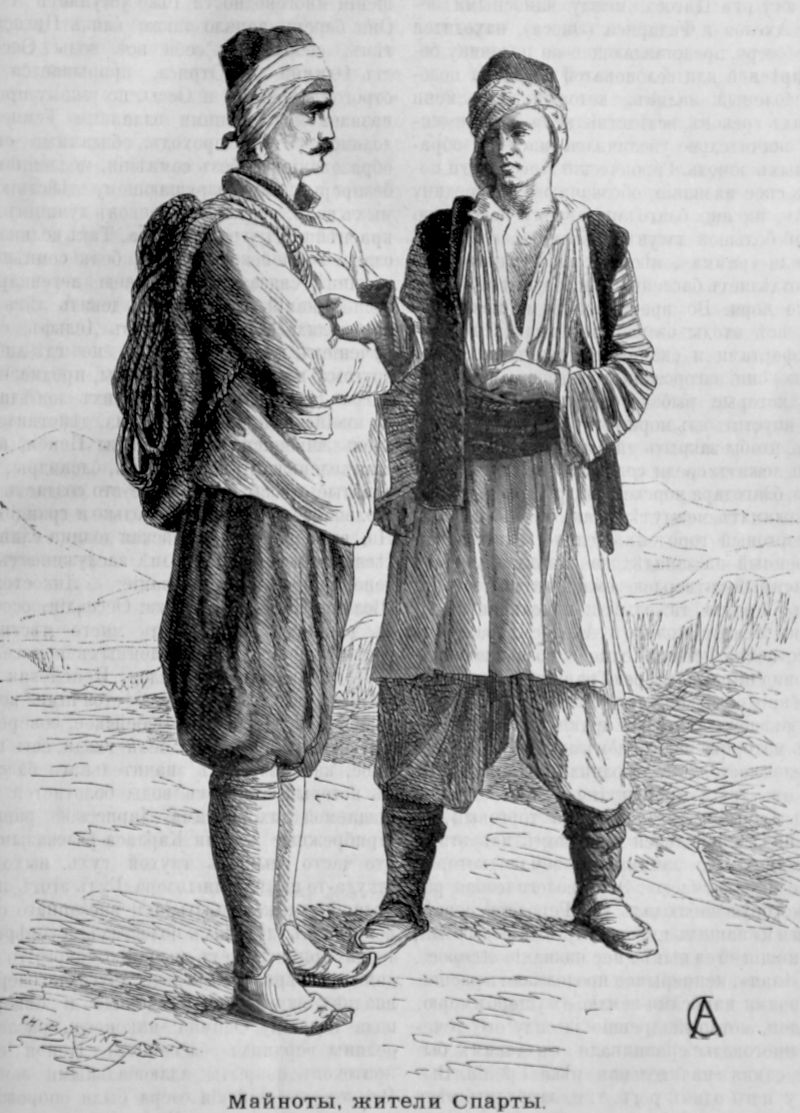
К югу от Цигоса, между наносными землями Ахелоя и Фидариса (Эноса), находится другое озеро, представляющее на половину болото пресной или солоноватой воды, на половину соленый залив, который со времени древних греков, вследствие небрежности жителей, значительно увеличился насчет обработанных земель. Героический Миссолунги получил свое название, обозначающее «средину болот», именно благодаря своему положению на этой большой лагуне. Узкая береговая полоса, или «рамма», местами разорванная волнами, отделяет бассейн Миссолунги от Ионического моря. Во время войны за независимость, все входы озера защищались небольшими фортами и свайными перемычками; теперь же они загорожены камышевыми плетнями, которые рыбаки открывают весною, чтобы впустить из моря рыбу, и заделывают летом, чтобы закрыть ей выход. Миссолунги, хотя и лежит среди соленых вод, имеет, однако, благодаря морскому ветру, довольно здоровый климат, между тем как более оживленный торговый городок Этолико (Анатолико), построенный на западе, на самом болоте, и соединенный с твердою землею двумя мостами, имеет воздух тяжелый и наполненный миазмами. Между Этолико и Ахелоем рассеяно множество скалистых холмов, возвышающихся, словно пирамиды среди равнины: очевидно, это древние островки, подобные тем, которые образуют поныне целый архипелаг между берегом материка и островом св. Мавры. Наносы Ахелоя постепенно заполнили отделявшие их друг от друга промежутки и присоединили их к твердой земле. Древний торговый город Эниад находился на одном из этих островов, т.е. занимал «землю, которая еще не была землею». Эта геологическая работа, которую наблюдал уже Геродот, совершается и на наших глазах; мутные воды реки, доставившие ей её нынешнее название Аспрос, т.е. «Белая», непрерывно продолжают расширять своими наносами землю, в ущерб морю.
Ахелой, который древние за силу его течения и многоводье сравнивали с диким быком,—самая значительная река Греции. Вырвать у него один рог, т.е. запрудить реку и отвоевать у ней когда-то затопленные её блуждающими волнами земли,—было одним из великих подвигов Геркулеса. С нею невозможно сравнивать даже соседок—быструю Фидарис, которую перешел центавр Нес, неся Геркулеса и Деяниру, и Морнос (Морнапотамос), берущий начало из снегов Эты, не говоря уже про речки Аттики, текущие по склону Эгейского моря: Ороп, два Цефиза (Кефисса) и Илиссус, русло которого «смачивается только тогда, когда идет дождь».
Главная река Греции, Саламбрия или Пеней, возвращенный от Турции, в отношении многоводности тоже уступает Ахелою. Она берет начало также близ Цигоса, затем, собрав в себя все воды Фессалии, от Олимпа до Отриса, прорывается меж отрогов Олимпа и Оссы, по узкому проходу, названному древними эллинами Темпейской долиной. Этот проход, обязанный своим образованием, без сомнения, медленному, но беспрерывному разрушающему действию горных вод, считался у греков лучшим, прекраснейшим уголком мира. Так велика была слава Темпейской долины, без сомнения, по причине связанных с нею легендарных воспоминаний, что каждые девять лет сюда направлялось посольство из Дельф, с поручением именно здесь, а не где-либо в другом месте, сорвать лавры, предназначавшиеся для украшения будущих победителей на ливийских играх. Долина, действительно, очень живописна: ясные воды Пенея, ветвистая зелень платанов, лавры, олеандры, красноватые откосы скал—все это создает виды столько же прекрасные, сколько и грандиозные. Но, в общем, Темпейская долина слишком тесна и мрачна и вполне заслуживает свое теперешнее наименование: Ликостомская (Волчья Пасть). В той же Фессалии, особенно в долинах Пинда, есть много местностей более красивых, оживленных и веселых.
Подобно равнине Ахелоя, Пенейская долине была некогда покрыта стоячими водами. Озеро Карлаское или Бебейское, совершенно высыхающее в годы без дождя, есть не что иное, как остаток значительного бассейна, в который стекают воды болотистой и посещаемой лихорадками Ларисской равнины. Прибрежные жители Карласа рассказывают, что часто слышат глухой гул, выходящий откуда-то из глубины озера. Гул этот, происходящий, может быть, от внезапного сжатия воздуха в глубоких полостях, суеверие жителей приписывает рычанию какого-то невидимого зверя. Несколько других озерных впадин окружают с запада и северо-запада подошву Олимпа; наконец, различные долины верхних бассейнов Пенея и его притоков покрыты аллювиальными землями. Все эти фессалийские озера были опорожнены, по одним мифам,—Геркулесом, а по другим—Нептуном, посредством спуска вод чрез Темпейское ущелье.
На юге Фессалии залив Воло, отделенный от моря узкой, загибающейся на подобие крючка полосой, тоже походит на внутреннее море: он соответствует заливу Арта, расположенному почти под той же широтой, на западном берегу. Разница между ними та, что вход в Артский залив затруднен порогом, а в залив Воло имеют свободный доступ большие, глубокосидящие суда.
Лишь только Фессалию вернули под власть Греции, как города её почти совершенно утратили турецкую часть своего населения. Из всех греческих областей ни одна не возмущалась так часто, как Фессалия, с целью низвергнуть ненавистное турецкое иго; ни на одну область не отстаивали так горячо греки своих притязаний, как на этот отрывок своей родины, колыбель своей нации. По своим традициям, по своему языку, по общему виду земли и неба, Фессалия, действительно, есть часть Греции и даже лучшая её часть—самая живописная, самая плодородная, самая богатая растительностью. Правда, у берегов Фессалии, как в нижней Македонии, нет той изумительной прозрачности атмосферы, той глубокой синевы неба, которою отличается южная Греция. Постоянные испарения Эгейского моря, подымающиеся к вершинам Олимпа и других гор, являются порой причиною туманной и пасмурной погоды, но эти же испарения придают больше прелести отдаленным пейзажам и, главное, способствуют плодородию почвы, препятствуя летнему зною иссушать ее, как в Аттике и Арголиде.
Греческое население Фессалии довольно сильно смешано с другими элементами, которые она, впрочем, постепенно ассимилировала, так что теперь нет более в стране ни сербов, ни болгар, хотя один из главнейших рукавов Титарезы и носит название Вургариса, т.е. «река болгар». Что касается зинзар или македоно-валахов, столь многочисленных в средние века на обоих склонах Пинда, то они занимают всего несколько деревень, преимущественно в южной группе Олимпа. Хотя они очень гордятся своим римским происхождением, тем не менее они должны мало-по-малу эллинизоваться, под влиянием окружающей среды. Почти все слова их наречия, обозначающие предметы цивилизованной жизни, слова, так сказать, позднейшей формации, имеют греческие корни; их священники и учителя проповедуют и учат по-гречески; сами они все знают греческий язык и, как национальность, они теряются еще вследствие чрезмерной любви к переселениям, ибо даже земледельцы сохранили в своих нравах нечто кочевое: им нравится бродячая жизнь пастухов и странствующих торговцев. До присоединения Фессалии к Греции низменные равнины, окружающие Лариссу, были плотно населены турками, да и самая Ларисса была городом преимущественно мусульманским. Точно также населены были турками и гористые местности, лежащие далее к северу между долиною Индже-Карасу и озерами Острово и Кастория; но эти турки отличались, впрочем, от всех других османлисов империи: это коньяриды. Согласно некоторым писателям, коньяриды, призванные восточными императорами в качестве колонистов, водворились в Македонии и Фессалии с одиннадцатого века. Те из них, которые остались и поныне в Фессалии, управляются сами собою республиканскими общинами и пользуются общим уважением за свою честность, гостеприимство и простоту нравов.
Греки уступают этим турецким земледельцам в нравственных качествах, но значительно превосходят их за то живою сметливостью и подвижностью. В семнадцатом столетии у них проявилось даже нечто в роде эпохи Возрождения, как в Западной Европе, и любовь к искусствам развилась настолько, что в деревнях Олимпа возникла своя школа живописи. Верные своим древним преданиям и историческим инстинктам своей нации, фессалийские греки, как и вообще все греческие племена, находившиеся под турецкой властью, старались устроиться автономными общинами, управляющимися собственными законами, маленькими республиканскими городками,—в роде древних полисов, для полного сходства с которыми им недоставало только политической независимости. В кефалохориях, или вольных деревнях, в Турции они избирают своего собственного начальника, организуют школы, выбирают каких им надо учителей, и благодаря крепкой и тесной взаимной связи и денежным взносам, находят средства отклонить пашей от всякого вмешательства в управление их городами. Подобно тому, как предки их платили дань афинянам или другим грекам, они вносят налоги туркам, но во всем остальном управляются, сами, как свободные граждане. Но совсем не то, по сравнению с этими автономными общинами, представляют чифлики, в которых собственниками земли являются мусульмане, а греки только их арендаторы. Здесь греки находятся в полной зависимости, и в них нет уже той поражающей энергии, какою отличаются жители Кефалохорий. И это понятно: при свободе земледельца, самая бесплодная земля, холодный и голый камень становится плодородным, дает обильные жатвы, обогащает население.
Здравый смысл и похвальное честолюбие Фессалийских греков доказываются главным образом их особенною, ни пред какими жертвами не останавливающейся, заботою об образовании молодого поколения. Не говоря уже о богатых селениях, самые бедные горные деревни Пинда содержат на свой счет школы, которые посещаются юношеством до пятнадцатилетнего возраста. Чтобы дать понятие о практическом уме фессалийцев, можно указать на тот замечательный факт, что с прошлого столетии ткачи прелестного города Амбелакии, расположенного среди фруктовых садов и виноградников на высотах, господствующих с юга над Темпейскою долиною, образовали ассоциацию мелких товариществ взаимного участия в общих прибылях. Эта обширная ассоциация, выдавая благоразумно ежегодного дивиденда лишь десять процентов, остаток прибыли употребляла на расширение дел и долго пользовалась значительным благосостоянием; но войны империи разорили ее, закрыв ей германский рынок, куда сбывались почти все её ткани. Частью благодаря также началу ассоциации, двадцать-четыре богатые греческие деревни полуострова Магнезии, к северу от залива Воло, могли доставить благосостояние не только своим ткацким фабрикам, но всем вообще жителям. Это положительно самый зажиточный округ во всей Греции. Немалую роль играло здесь и то обстоятельство, что, благодаря своему счастливому положению вне главных стратегических путей, он всегда оставался в стороне от театра военных действий и счастливо избегал разорительных следствий войн.
Ларисса сохранила за собой ранг столицы Фессалии. Переход её территории к Греции лишил ее половины населения, но эта потеря была быстро вознаграждена большим числом греков, переселившихся сюда с юга и севера и бесконечно довольных тем, что получили возможность вернуться в этот город своих предков. Быстрый рост Лариссы ручается за то, что в ближайшем будущем она станет вторым городом в королевстве: в ней будет вскоре свой университет, как в Афинах, и она уже обладает железно-дорожной линией, которая соединяет ее, с одной стороны, с садами Валестино, а с другой с портом Воло, ставшим за последнее время одною из главных гаваней Эгейского моря:—это древний Иолкос, откуда отправились аргонавты за Золотым Руном. Пути сообщения, прежде очень затруднительные в Фессалии, по причине болот центральной равнины, ныне улучшены, и Фарсал, Кардица, Домокос и Турнавос принимают вид вполне греческих городов. Трикала, главный город западной Фессалии, расположена в верхней долине Саламбрии, близ Пинда, знаменитого своими «феоктистами» (божественными творениями), т.е. уцелевшими обломками источенных водами скал, возвышающимися в виде столбов, башен и призм. Некоторые из них оканчиваются площадками, и монахам, ревностным подражателям Симеона Столпника, пришла идея построить там монастыри. Поселившиеся в них и обреченные никогда не спускаться вниз, калугеры получают съестные припасы и принимают посетителей лишь посредством сети, которая, крутясь, качается на конце веревки, поднимающейся при помощи ворота. В Валаамский монастырь приходится подниматься таким образом по воздуху, качаясь во все стороны и стукаясь о камни, на высоту до 67 метров. Ведут туда, кроме того, и связанные одна с одной лестницы, но этот способ сообщения еще опаснее. Религиозное рвение, увлекавшее монахов жить в этих орлиных гнездах,—ныне мало-по-малу ослабевает, так что из двадцати бывших там монастырей в настоящее время их только семь, из которых более или менее значителен только один—Метеор, насчитывающий в своих стенах до двадцати монахов.
К югу от Отриса, в древней Румелии, Сперкиус, подобно Ахелою и Пенею, много поработал для изменения вида нижней равнины. В ту эпоху, когда Леонид со своими храбрецами защищал Фермопильское ущелье от персов, Ламийский залив гораздо глубже вдавался в землю, но река мало-по-малу отодвинула берег и приняла в себя, в качестве притоков, несколько речек, изливавшихся прямо в море. Перемещая постепенно свою дельту, Сперкиус расширил на несколько километров тесный прежде проход между подошвою Каллидромоса и морем, так что теперь здесь могли бы свободно маневрировать целые армии. Бьющие из скал теплые серные ключи также способствовали увеличению Фермопильского морского берега отложением каменистого слоя. Впрочем, эта вулканическая местность в течение двух тысяч лет могла быть изменена и землетрясениями. В соседнем море и теперь еще матросы показывают скалу Лихас, представляющую небольшой кратер из шлаков, в котором древние видели товарища Геркулеса, сброшенного разгневанным полубогом с высоты Эты. Насупротив этого места, на берегу острова Эвбеи, теплые источники бьют в таком изобилии, что образовали по склонам громадное количество осадков, которые издали кажутся ледником. Основанное в Фермопилах терапевтическое заведение утилизирует серные воды и дает повод иностранцам посещать столь богатые историческими воспоминаниями местности. Пьедестал, на котором стоял мраморный лев, воздвигнутый в честь Леонида, существовал еще до 1856 года, когда его срыли для постройки мельницы.
Бассейн Цефиза (Кефисса), который представляет как-бы борозду между цепями Эты и Парнаса, также весьма замечателен с гидрологической точки зрения. Река течет сперва по дну существовавшего некогда озера; затем, по выходе из ущелья, образуемого отрогами Парнаса, огибает скалу, на которой стоял древний город Орхомен, и вступает в обширную равнину, на которой болота и резервуары глубоких вод окружены возделанными полями и камышем. Множество ручьев, из коих один, Ливадия, получает обильную воду из знаменитых источников «Памяти» и «Забвения»—Мнемозины и Леты—стекают в этот болотистый бассейн с Геликона и соседних гор. Летом большая часть этой равнины высыхает, и её поля дают богатые урожаи маиса, стебли которого сладки, как сахарный тростник: но, после сильных дождей, осенью и зимою, уровень воды поднимается на 6, даже на 71/2 метров, так что вся низкая равнина затопляется водою и становится озером, поверхность которого равняется 230 кв. километрам; миф же об Огигесовом потопе заставляет думать, что вода заливала иногда и все обитаемые долины, открывающиеся в этот бассейн. Кефиссом называлась у древних только западная часть бассейна; более же глубокия места его на востоке носили название Копаиса, а теперь озеро называется по имени города Тополиаса, расположенного на одном из мысов его северного берега.
Понятна необходимость урегулировать движение воды и предотвратить внезапные разливы озера по обработанным землям его берегов;—поэтому еще древние греки предпринимали в этом отношении некоторые попытки. К востоку от большего Копаисского озера есть другое озеро, лежащее на 40 метров ниже последнего и окруженное со всех сторон неудобными для обработки скалистыми крутизнами,—это Гилиса виотийцев,—резервуар, назначенный, повидимому, самою природою принимать в себя избыток вод Копаиса; и теперь еще заметны на равнине следы канала, который должен был отводить излишнюю воду в огромную впадину Гилиса, но незаметно, чтобы эта работа была в древности доведена до конца. Ее выполнили только недавно посредством прорытия тоннеля в 760 метров длины. Нужно было бы также очистить различные воронки, или катавотры, в которые изливается вода озера Копаиса и выносится в море посредством подземных каналов. Первый подземный резервуар, на северо-западе, против Орхоменской скалы, из которой вытекает Мела, принимает в себя эту последнюю реку и несет ее в Аталантский залив; другие скрытые проводники, на востоке, направляются к озерам Гилису и Паралимни, но главные пропасти находятся на северо-востоке, в заливе Коккино. В этом углу озера, представляющем собственно Копаис древних, река Цефиз, прорезывающая болотистую равнину во всю её ширину, ударяется о подошву горы Скропонери и разделяется на подземные рукава.
В расстоянии около километра к северу два другие рукава реки уходят в скалу, а затем вскоре соединяются вместе и текут к северу, под излучистою долиною, которая в древности служила ложем для вод, текущих теперь под землею. Греческие инженеры вырывали здесь некогда колодцы, чрез которые спускались к уровню воды для очистки ложа, в случае его засорения. От начала катавотр до того места, где вода снова появляется наружу насчитывают шестнадцать таких колодцев, из которых некоторые имеют до 10 или даже до 30 метров глубины, но большая часть их завалена мелким камнем и осыпавшеюся землею. Сооружения эти, разрушившиеся тысячи лет тому назад и безуспешно исправлявшиеся в эпоху Александра инженером Кратесом, относятся, вероятно, еще к почти мифическим временам миниян Орхоменских. Осушение болот вокруг Копаиса и регуляризация подземных рек доставили этому древнему народу те громадные богатства, о которых свидетельствует Гомер. Таким образом греки гомеровых времен умели возводить такия искусственные сооружения, пред осуществлением которых долго останавливалась новейшая индустрия.
Вся западная часть Румелии, занятая горами Акарнании, Этолии и Фокиды, по самой природе своей, должна была иметь весьма ограниченное значение в сравнении с восточными провинциями. Еще во времена древних греков страны эти считались почти варварскими, и, действительно, этолийцы и в наше время—самые невежественные из греков. Торговое движение существует лишь в городе Агринион, или Врахори, среди табачных плантаций бассейна р. Аспро-Потамос, да в нескольких привилегированных местностях на берегу моря, как напр. в Миссолунги, Этолике, Салоне, Галаксиди. Последний из этих городов, расположенный на берегу бухты, в которую изливается Плейстос,—дельфийский ручей, посвященный некогда Нептуну, хотя почти всегда безводный,—до войны за независимость был верфью и самым оживленным торговым местом в Коринфском заливе, которому даже дал свое имя. Что касается Навпакта, названного итальянцами Лепантом, имя которого также служило для обозначения Коринфского залива, то он ныне уже не имеет стратегического значения, несмотря на свое положение при входе в пролив. Много морских сражений происходило из за попытки форсировать проход через этот морской дефилей, который защищают теперь два форта: Риум—со стороны Мореи и Анти-Риум—со стороны Румелии. В этом канале, составляющем вход в Коринфский залив, замечается любопытное физико-географическое явление. Порог, имеющий в самом глубоком месте не более 66-ти метров глубины, постоянно изменяется в своей ширине, вследствие противоположных действий земляных наносов и морских течений: что приносится одною силою, то уносится другою. В эпоху Пелопоннезской войны пролив имел семь стадий, т.е. около 1.255 метров ширины; во времена Страбона он съузился до пяти стадий, а в настоящее время ширина его удвоилась, так что от выступа одного берега до выступа другого теперь около 2 километров. Во входе в залив Арто, между турецким Эпиром и греческою Акарнаниею, не замечается уже подобных явлений, и ширина его остается такою же, как ее определяли все писатели, т.е. немного менее одного километра. Арта, главный город Эпира, присоединенная теперь к Греческому королевству, расположена не на самом берегу залива, но в долине реки того же имени (Аркта).
Долины и озерные бассейны восточной Греции, и в особенности её существенно полуостровное положение между Коринфским заливом, Эгинским морем и длинным Эвбейским каналом, должны были создать из этой области самую оживленную часть Эллады; это страна по преимуществу историческая, где возникли города Фивы, Афины, Мегара. Между двумя важнейшими частями этой области, Беотиею или Виотиею и Аттикою, существует большая противоположность. Первая из них представляет закрытую котловину, в которой обильные воды скопляются в озера и носятся в виде густых туманов, а жирная наносная почва питает богатую растительность. Аттика же, напротив, бесплодна, террасы её гор покрыты весьма тонким слоем растительной земли; долины её совершенно открыты к морю, горы с их вершинами ясно рисуются на её чистом небе, а подошвы их омывают голубые воды Эгейского моря; весь полуостров далеко вдается в море и продолжается в нем цепью Цикладов. Если бы греки, избегая опасностей моря, продолжали заниматься, как в первобытные времена, преимущественно обработкою своих полей, то Беотия, без сомнения, сохранила бы то преобладание, которым она пользовалась во времена миниян, жителей богатого Орхомена; но успехи мореплавания и непреодолимое стремление эллинов к торговле должны были мало-по-малу доставить главную роль населению Аттики. Город Афины, построенный на самой открытой равнине полуострова, занимал именно то положение, которое было, так сказать, заранее предназначено для великой исторической роли.
В свое время сильно порицали выбор места, сделанный правительством Оттона, первого короля новой Греции, или, вернее сказать, его отцом Лудвигом Баварским, для столицы Эллинского королевства, у подножия Акрополя, там, где находилась турецкая деревушка Сеттинье. Конечно, времена переменились, и движения наций переместили мало-по-малу центры торговли. Выбор Коринфа, господствующего разом над двумя морями и стоящего в точке соединения континентальной Греции с Пелопоннезом, был бы удачнее; отсюда были бы гораздо удобнее сношения, с одной стороны, с Константинополем и всеми греческими берегами Востока, оставшимися под властью турок, с другой—с Западным миром, откуда теперь притекает в Грецию цивилизация, которую некогда распространяла она сама. Если бы Эллада, вместо того чтобы сделаться маленьким централизованным королевством, образовала из себя федеративную республику, что согласовалось бы с духом народа и его преданиями, то нет никакого сомнения, что другие города Греции, расположенные выгоднее Афин для поддержания быстрых сношений с европейскими странами, легко превзошли бы их по населению и торговому богатству. Тем не менее, разрастаясь постоянно на своей равнине и соединяясь с Пиреем посредством железной дороги, Афины снова приобрели весьма важное естественное значение, сделались снова морским городом, как в дни своего античного величия, когда они, благодаря своей тройной стене, своим «ногам», упиравшимся в море, составляли один организм с своими двумя портами: Пиреем и Фалерою.
Уже в настоящее время Пирей занял видное место, но вскоре он сделается одним из жизненных пунктов Европы, благодаря тому, что в нем сходятся железнодорожные и морские пути. Два южные порта—Цеа и Мунихиа—слишком мелки для того, чтобы принимать значительные суда, но западный порт отлично защищен и достаточно глубок для самых больших судов. Близ набережной находится центральная станция греческих железных дорог, которая рано или поздно протянет свою ветвь к портам Эпира, против Бриндизи, и сделается конечной станцией транс-европейского железнодорожного пути к Африке и Азии.
Афины, ограниченные с восточной стороны амфитеатром холмов, выдвигают свои новые кварталы в верхния долины Илисса, к откосам горы Гимета; но главным образом они расширяются на запад и на северо-запад, по направлению к масличной равнине, орошаемой Цефизом, и к плоскому холму Колона, напоминающему несчастия Эдипа и мщение Эвменид; там находятся могилы Готфрида Мюллера и Шарля Ленормана. В Афинах есть и широкия улицы, и изящные мраморные здания—университет, например, но какая разница между памятниками нового города и развалинами античного! Храм Парфенона, хотя разбитый бомбами венецианца Морозини и лишенный своих лучших скульптурных украшений, по своей чистой и простой красоте, так прекрасно гармонирующий с окружающей его скромною природою, остается все-таки первым между образцовыми произведениями зодчества. Рядом с этими величественными руинами,на Акропольском плато, на котором мореходцы, входившие в Эгинский залив, еще издалека видели золотое копье Афины-Паллады, находятся другие памятники, хотя не столь прекрасные, но относящиеся к тому же великому периоду искусства, именно Эрехтейон и Пропилеи. За городом, на выступе горы, стоит храм Тезея,—здание, сохранившееся лучше всех других остатков греческой древности; далее, недалеко от Илиссуса, группа колонн напоминает о великолепии храма Юпитера Олимпийского, на постройку которого афиняне потратили семьсот лет и который для потомков их послужил простою каменоломнею. Во многих других пунктах местоположения древнего города сохранились еще замечательные остатки древности, видеть которые тем интереснее, что с ними связываются воспоминания о великих людях: на этой горе был ареопаг, в котором судили Сократа; с этой каменной трибуны говорил Демосфен; в этом саду учил Платон!
Не меньший исторический интерес представляет и остальная Аттика, как например деревня Элевзис, прославившаяся таинствами Цереры, город Мегара с его двойным акрополем, поля Марафона, берега острова Саламина. Точно также и за пределами Аттики воспоминания прошлого влекут путешественников к Платее, Левктрам, Фивам Эдипа, Орхомену, Херонее, колоссальный лев которой, напоминающий последние усилия свободной Греции, лежит на земле, разбитый руками невежественных патриотов. После Афин, Пирея и Фив, между находящимися на материке городами восточной Греции, имеют еще в наше время некоторое значение Ламия, расположенная среди низменностей Сперкиуса, и беотийская Ливадия, некогда прославившаяся пещерою Трофония, которую археологи не могут еще указать с достоверностью. Принадлежащий к Аттике остров Эгина точно также пришел в упадок, как и соседняя с ним великая земля; в древности на нем теснилось около двухсот тысяч жителей, в 30 раз больше, чем ныне; после прохода Барбаруссы, он долго оставался в запустении. По крайней мере, остров этот сохранил живописные развалины своего храма Минервы и удивительный вид, представляемый полукругом гористых берегов Арголиды и Аттики. Эгиноты—самые искусные ловцы губок на всем Средиземном море.