Глава IX. Равнины Эльбы, Одера, Вислы
Собственно Пруссия, Ангальт, Лауэнбург, Гамбург, Любек, Мекленбург, прусская Польша
Восточная Германия заключает в себе следующие государства:
| Пространство | Население в 1890 г. | Число жителей на 1 кв. километр | |
| Пруссия (без Эрфуртского округа) | 223.423 | 15 900.000 | 71 |
| Ангальт | 2.347 | 232.750 | 99 |
| Лауэнбург | 1.172 | 51.000 | 43 |
| Гамбург | 407 | 454.050 | 1.115 |
| Любек | 283 | 63.450 | 224 |
| Княжество Любекское (Ольденбург) | 521 | 35.000 | 67 |
| Мекленбург-Шверин | 13.304 | 576.850 | 43 |
| Мекленбург-Стрелиц | 2.929 | 100.250 | 37 |
| Итого | 244.386 | 17.413.350 | 71 |
Вся область Германии, лежащая на север от Тюрингии, Саксонии и Исполиновых гор, и наклоненная к берегам Балтийского моря, имеет очень однообразный характер в географическом отношении: на западе, предгорья Гарца и степи, почти пустынные, Люнебурга обозначают естественные границы Пруссии, не отделяя ее, однако, от Ганновера, тогда как на востоке, более возвышенные земли, обширные леса, сотни озер образуют широкий пограничный пояс между Германиею и Россиею. Даже климат проводит резкую грань со стороны славянской империи, ибо на востоке остзейской или прибалтийской Пруссии суровость зимних холодов быстро возрастает по направлению к России. От Эльбы до Вислы вся страна представляет большую равнину, где нет ни одного сколько-нибудь значительного по возвышению кряжа, который бы затруднял сообщения между речными бассейнами. Везде дороги совершенно открыты от одной реки к другой и от подошвы гор к берегам Балтики; сверх того, страна имеет, через Эльбу, текущую в северо-западном направлении, свободный выход к Северному морю: при устье этой реки находится Гамбург, главный приморский рынок Германии. Будучи однообразной по своим географическим условиям, область, о которой мы говорим, достигла также единства и в отношении политического состояния, несмотря на национальное различие и племенную ненависть между занимающими ее населениями, и мало-по-малу в этой равнине выросла большая держава, которая долгое время жила войною, и которая теперь сделалась властительницею Германии. Правда, часть страны занимают еще разные мелкие государства, имеющие некоторую местную автономию, но их политическая независимость существует только по виду; на деле же всякая инициатива исходит из Берлина, как для собственно прусских провинций, так и для якобы независимых княжеств Мекленбурга и Ангальта. Эта естественная область северо-западной Германии не имеет таких благоприятных почвенных и климатических условий, какими пользуются другие немецкия страны, лежащие на юге и на западе Германской империи; оттого недавно она имела очень редкое население, да и теперь еще она гораздо менее населена, чем Саксония, Вюртемберг, прирейнские государства и провинции; однако, в наши дни число жителей там быстро увеличивается, особенно в больших городах.
На западе от Эльбы, высоты, которыми продолжается горная масса Гарц, исчезают, сливаясь с равниною, на берегу реки Заалы, и только в окрестностях города Галле кое-какие холмы и небольшие волнообразные повышения почвы обозначают внутреннее продолжение большой морщины или выпуклости земной поверхности. Исполиновые горы и Судеты в тесном смысле, отделяющие Богемию от прусской Силезии, выделяют из себя в равнины севера более значительное число второстепенных цепей и высоких отрогов. Реку Нейсе на всем её верхнем течении сопровождают крутые холмы, и даже на правом берегу Одера, выше Оппельна, возвышаются горные вершины, достигающие 300 слишком метров высоты. Цепи, служащие границею между Богемиею и немецкими землями, имеют со стороны Германии довольно крутой склон, и контраст, который они составляют с равниною, придает даже второстепенным вершинам величавый вид больших гор: снег, покрывающий их еще долго после того как лежащие внизу поля освободились от своего снежного покрова, холодный ветер, бури и туманы, предательские топи и торфяные болота—все это некогда делало из возвышенных областей Исполиновых гор дикую, угрюмую страну, наводившую ужас на жителей равнины. Еще недавно грозным царем высоких вершин, повелителем ветров и снежных мятелей, которые неожиданно набрасываются на путника, был великан Rubezahl, то-есть «счетчик реп». Рассказывали, что владычество его началось только со времени Тридцатилетней войны, из чего можно заключить, что после страшных побоищ и опустошений, которыми ознаменовалась эта мрачная эпоха, суеверие с новою силою стало властвовать над умами людей, напуганных ужасами кровопролитной и продолжительной борьбы. Этот Рюбецаль, который, может быть, и теперь еще живет в воображении многих обитателей Исполиновых гор, являлся во всевозможных образах и видах; это было крайне своенравное существо, то доброе и великодушное, то злое и свирепое; особенно сердился он на тех, кто позволял себе громко кликать его, выкрикивать его имя на посмешище скалам, которые подхватывали это имя и повторяли его своим гулким эхо.
На северо-западе Исполиновых гор и их передовых холмов тянется однообразная гладкая равнина, кое-где прерываемая песчаными буграми, или дюнами, береговыми утесами, на половину подточенными водою, и едва заметными возвышениями почвы: таково, на юге от Берлина, низкое плато Флеминг, которое ограничивает бассейны средней Эльбы и Шпре; на востоке от прусской столицы небольшие холмы тоже образуют отдельную группу высот, в роде острова, известную в крае под именем бранденбургской «Швейцарии». На севере от Бранденбурга, там, где Эльба и Одер перестают течь параллельно одна другой, появляется каменистое плато, и широкое основание из возвышенных земель, на котором оно стоит, вдается далеко в Балтийское море, выступая за правильную линию побережья. Некоторые вершины этого плато превышают 150 метров; одна из них, гора Примберг, близ Марница, поднимается на 201 метр выше уровня моря. Скаты этих плоских возвышенностей во многих местах представляют живописные формы, так что местные жители сравнивают их с крутизнами Альпийских гор: скалы, леса, озера делают эту страну одною из германских «Швейцарий», хотя такое уподобление, может быть, отнимает у этих очаровательных пейзажей, имеющих свой оригинальный характер, часть их действительной прелести. В этой-то области, орошаемой парами Балтики и многочисленных озер, находятся самые обширные луговые пространства Германии; один из лугов занимает площадь в 100 квадр. километров.
Между Одером и Вислою, другое приморское плоскогорье, довольно правильное в своей общей форме и в своем направлении, от юго-запада к северо-востоку, господствует над восточным берегом залива, образуемого устьем первой из названных рек. Это плато оканчивается на востоке другою «Швейцариею»—кашубскою, названною так по имени польского племени кашубов, которое населяет ее. Самая высокая гора Кашубии, Турмберг, имеет 340 метров высоты, хотя большинство вершин не достигают даже 200 метров; несмотря на то, большие тенистые леса, прозрачные озера, заключенные в котловинах между гор, весело журчащие ручьи придают этой стране приветливый и живописный вид. На востоке от Вислы, другое плато, с очень неровною поверхностью, служит водоразделом между притоками, спускающимися на юг к Бугу и Висле, и притоками, текущими на север, к Фриш-Гафу и Прегелю. До самого последнего времени не знали, что эта область Мазуров имеет такое же право на эпитет «Швейцарии», как и холмы Мекленбурга или Померании, и только новейшие тригонометрические измерения обнаружили, что высоты Лёбау, на востоке от Грауденца, поднимаются более чем на 320 метров над уровнем моря.
Значительная часть обширной, слегка вогнутой равнины, по которой протекают три большие реки: Эльба, Одер и Висла, еще покрыта песком, оставшимся здесь с той эпохи, когда воды, покрывавшие эту местность, утекли в море. Оттого провинцию Бранденбург часто называют в насмешку «песочницею» (Sandbuchse). Многие города и деревни этой страны окружены такими массами сыпучих песков, что во время бури совершенно исчезают под густым туманом пыли, наполняющей воздух; когда ветер стихнет, улицы и дома оказываются покрытыми толстым слоем песку; дороги долго приходится расчищать от песчаных заносов. Некоторые местности равнины, даже в соседстве с Берлином, имеют вид песчаной пустыни; во время летних жаров можно бы было подумать, что находишься где-нибудь в Аравии, если бы не сосновые леса, которые виднеются вдали на горизонте.
В давния времена, когда воды Балтики еще покрывали всю страну, сделавшуюся ныне Пруссиею, другие каменные обломки, кроме песку, тоже падали в огромном количестве на равнину, бывшую тогда дном моря: плавающие льды, гонимые ветрами и течениями к южным берегам, задерживались на подводных мелях, где постепенно таяли и роняли на дно свою ношу, состоявшую из камней, которые скатились на них с гор Скандинавии. Во многих местах, равнины нынешней Пруссии усеяны таким множеством этих камней, называемых эрратическими, то-есть блуждающими или странствующими, что песок или глина совершенно скрыты под их сплошным слоем; они скучены здесь, точно в каком нибудь обвале горы. Эти каменистые поля, известные на востоке от Вислы под именем Steinpalwen, находятся по большей части вдали от рек и многолюдных местностей, потому что в равнинах легко доступных, поверхность почвы давно уже очищена людьми от всяких обломков скал. Эти обломки, покрывавшие поля, употреблены на постройку городов и деревень, на мощение улиц и дорог, на сооружение стен, на приготовление замазки и цемента для каменных построек; но и под поверхностью почвы самая масса земли наполнена, до неизвестной глубины, каменными глыбами, падавшими с пловучих льдов во время ледяного периода. В некоторых местах бурения земли обнаружили, что слои глетчерных камней имеют до 100 метров толщины, тогда как в других местах, где случаи остановки плавающих льдин бывали реже, по причине свойства морского дна или направления течений, в почве осталось лишь небольшое число рассеянных каменных глыб, смешанных с незначительным слоем наносных формаций. Там и сям эти эрратические камни нагромождены в форме пирамид; особенно много таких конусов из глетчерных глыб встречается на полуострове Замланде, и некоторые из них достигают там 12 и даже 15 метров в вышину. Каждая из этих груд камней, очевидно, образовалась вследствие таяния одной ледяной горы: задержанная на какой-нибудь мели, масса льда мало-по-малу исчезла, оставив на том месте каменные обломки, которыми она была нагружена. Другие плавающие льдины не были усеяны кучами мелких камней, а несли одну огромную каменную глыбу, обломок какого-нибудь обвалившагося утеса или выступа горы. Таков, например «Большой Камень», гнейсовая скала, которая лежит в Большом Тыхове, близ Бельгарда в Померании, и наружная масса которой, то-есть часть, выступающая из земли, имеет 13 метров в длину, 10 метров в ширину и более 4 метров в вышину. Но огромные эрратические массы, которые разрабатываются как каменоломни, исчезают всего быстрее, в ущерб, конечно, живописности пейзажа. Отыскивание этих каменных глыб, составляющих драгоценный строительный материал, ведется так деятельно, что породило особый класс промышленников, так называемых «штейнцангеров», которые извлекают эрратические камни со дна вод. Вооруженные длинными клещами, эти ловцы, которые вообще отличаются геркулесовой силой, вытаскивают из заливов или гафов, иногда даже со дна открытого моря, большие камни, которые они потом продают строителям плотин и жете. Этот промысел очень опасен: когда на море поднимается ветер, штейнцангеры должны поспешно удаляться в гавань со своими тяжелыми лодками.
Эти обломки Скандинавских гор, граниты, гнейсы, порфиры, силурийские известняки, встречаются не только в соседстве берегов Балтийского моря, но и на всем пространстве обширной Северо-германской равнины. На юге, плавающие ледяные массы ударялись о Судеты и Исполиновые горы, и даже переходили, через бреши или углубления горной цепи, на южный склон, где и оставили после себя принесенные ими с севера каменные обломки; глетчерные отложения покрывают значительную часть Саксонии, до окрестностей Дрездена; наконец, как мы видели выше, они проникли даже в Тюрингию. Замечательно, что эрратические камни не встречаются в Магдебургской равнине, называемой Magdeburger Borde, которая покрыта черною землею, необыкновенно плодородною, похожею на чернозем южной полосы России. Точно так же на западе от Вислы, Куявская плоская возвышенность, столь же плодородная, как и Берде, так бедна валунами, что камень для сооружения шоссейных дорог нужно привозить из соседних округов. Среди наносных формаций находят остатки раковин и других животных, которые, повидимому, указывают на тот факт, что в эпоху рассеяния эрратических камней климат был суровее, чем в наши дни: между остатками этой фауны, отчасти уже вымершей, попадаются кости мамонтов и носорогов, которые тоже жили тогда в этих холодных странах.
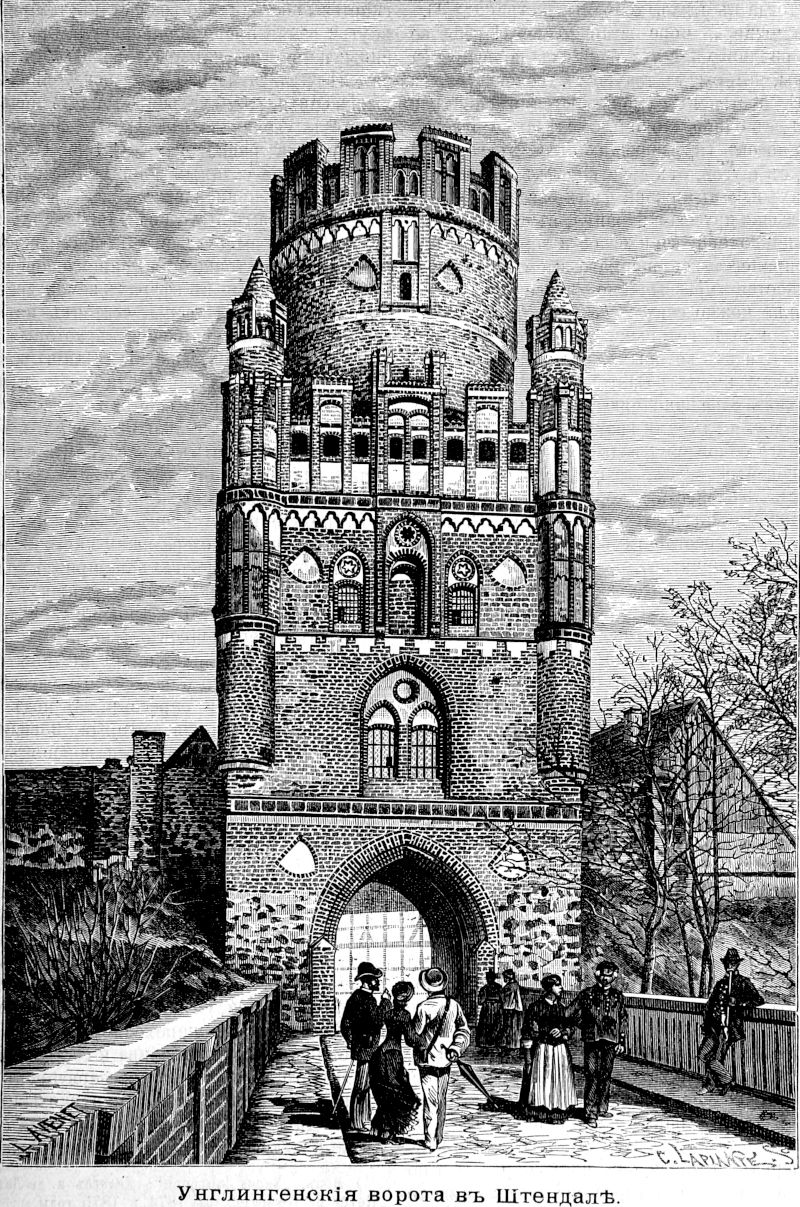
Удалившись, море оставило после себя во всех впадинах и углублениях почвы озера и пруды, которые в текущем геологическом периоде постепенно уменьшаются в числе и объеме, с одной стороны, вследствие отложения наносов, засыпающих их в верхней части, с другой, от действия рек, опоражнивающих их в нижней части бассейна. Однако, большая прусская равнина, в целом, так мало наклонена к плоскости горизонта, что этот процесс постепенного высыхания озер совершается чрезвычайно медленно, и теперь еще можно считать сотнями и тысячами скопления вод, которыми усеян север Германии, и из которых иные по величине напоминают бухты Балтийского моря, другие, напротив, едва наполняют маленький водоем между двумя глыбами гранита. Вследствие постоянного обновления воды, все эти озера утратили соленый вкус, за исключением одного бассейна, соленость которого составляет около одной сотой: это так называемое «Соляное озеро» в окрестностях Эйслебена, между Гарцом и Тюрингиею, остаток прежнего гораздо более обширного озера, которое еще в шестнадцатом столетии обнимало все окрестные лужи и отмели, осушенные земледельцами. Это «Соляное озеро», без сомнения, питается солеными источниками, ибо оно находится в соседстве с рекою Заале и по-близости от города Галле, которые оба обязаны своим именем ключам соленой воды. Вся горная масса Гарца, бывшая некогда островом океана, окружена соленосными формациями. Во всем свете нет страны, где бы буровые работы обнаружили более мощные пласты соли, оставленной каким-то высохшим океаном на своих берегах. В Шперенберге, деревне, лежащей недалеко от Ютербока, буровой зонд нашел соль на 89 метрах под поверхностью почвы, и начиная от этого слоя до глубины 1.272 метров, то-есть на толщине более версты, встречали все одну только соль: это такой громадный слой, какой мог быть отложен только морем, имевшим не менее семи верст глубины. Шперенбергская буровая скважина принадлежит, бесспорно, к замечательнейшим работам человека, не только по огромным размерам соляного пласта, через который она проходит, но и по пространству, на которое она опускается во внутренность земли: это самая глубокая яма, вырытая до сих пор человеком в коре земного шара. Наблюдения, произведенные при бурении этого колодца, не подтверждают гипотезы постоянного возрастания температуры внутри земли пропорционально увеличению глубины; напротив, из этих наблюдений, кажется, следует заключить, что на глубинах, превышающих 1.620 метров, теплота почвы перестает увеличиваться. На дне колодца температура равна 48°,91 по Цельзию. Штасфуртские соляные копи, в бассейне реки Заалы, тоже принадлежат к любопытнейшим рудникам этого рода. Разработка этих залежей соли была даже, для промышленного мира, исходною точкою настоящего переворота. Соли, отложенные в недрах земли древним морем северной Европы, состоят из тех же самых соляных веществ, которые дает рассол солончаков (marais salants) во Франции; морская соль, затем соли магнезии и соли кали, содержавшиеся некогда в растворе, отложились последовательными слоями, и теперь стоит только копать их заступом, чтобы получать элементы наиболее полезные для современной промышленности.
На полуденном склоне возвышенных земель Мекленбурга озера очень многочисленны, а в некоторых округах лабиринт вод тянется на столь же значительном пространстве, как и совокупность разделяющих их полуостровов и перешейков. Многие из этих озер не простые каменистые впадины, постепенно отделившиеся от морского бассейна во время выступления берегов из-под воды. Между ними есть такия, которые, повидимому, занимают дно пропастей или воронок, образовавшихся вследствие провала земли, и говорят, глубина некоторых из них превышает 100 и 150 метров; рассказывают даже о промерах, достигавших более 200 метров глубины. Если это так, то эти маленькие прибрежные резервуары Балтики оказываются более глубокими, чем само море, часть которого они некогда составляли. Что касается озер Мекленбурга, лежащих близко от моря, то это фиорды, некогда подобные фиордам Норвегии, Лабрадора, Огненной Земли, но которые ныне находятся в переходном периоде между состоянием морского залива и состоянием реки. Некоторые из этих резервуаров изливают свои воды разом к нескольким рекам. Дикие лебеди прилетают туда стаями, также и выдра еще часто там встречается.
На юге от холмов Померании, воды, спукающиеся к равнине, тоже скопляются в углублениях почвы и низинах, в виде озер и прудов; но особенно на востоке от Вислы, в стране Мазуров, земля и вода смешиваются в обширный лабиринт. Если справедливо, что часть территории, населенной мазурами, «богата только камнями», как говорит местная пословица, свидетельствующая о бедности жителей, то большое пространство этой плоской возвышенности, тем не менее, изобилует лугами и лесами, окружающими озера всякой величины, которые сообщаются между собою посредством протоков и проливов, и поверхность которых зимою превращается в гладкия ледяные площади. Между четырьмя стами пятьюдесятью озерами этой области многие имеют очень извилистую и очень удлиненную форму: это реки, задержанные в своем течении естественными преградами, и которые, вследствие этого, должны были наполнить свои долины до известной высоты. Многие из них сообщаются между собою через естественные каналы, и даже есть такия, которые изливаются разом в два различные бассейна. Эти озера представляют собою потоки в периоде образования, подобные озерам Финляндии и Скандинавии, и реки регулируют их ложе тем медленнее, чем тверже почва этого ложа, и чем менее крут общий скат данной местности. Смотря по свойству формаций, озера, о которых мы говорим, мало-по-малу уменьшаются то в нижней части, по причине понижения речного русла, то в верхней, вследствие отложения наносов. Каждый бассейн представляет какие-нибудь особенности в явлениях постепенного высыхания. В большинстве случаев боковые долины, более наклонные и более узкия, чем главная долина, в которую изливаются их воды, первые теряют свои озерные резервуары; но встречаются также многочисленные примеры обратного хода в процессе засыпания впадин, наполненных водою: прежде всего вытекают мало-по-малу воды из главной долины, тогда как с той и с другой стороны её каждое боковое углубление содержит еще маленькое озеро-приток. Так, например, река Варта (по-немецки Warthe или Warte, по-славянски Warta), впадающая в Одер, ниже Франкфурта, окаймлена по обе стороны множеством маленьких озер, орьентированных перпендикулярно к её течению и совершенно похожих в миниатюре на озера и лиманы, следующие один за другим вдоль Килийского рукава и Черного моря, на севере Дунайской дельты.
Но не одна только природа работает над осушением рассматриваемой нами страны. Во многих местах крестьяне, живущие по берегам озер, углубляют их истоки, чтобы понизить уровень озерного бассейна и таким образом увеличить площадь прибрежных лугов. Жители озерной области, кроме того, приспособили некоторые из озер для целей судоходства. Благодаря равной высоте (117 метров) главных озерных бассейнов страны Мазуров, нашли возможным соединить их, по направлению с севера на юг, от Ангербурга до Гушанки, каналом без шлюзов, глубиною в 1,25 метров, по которому сплавляют плоты, и где плавают барки и даже буксирные пароходы. Но эта линия судоходства, весьма важная для лесной промышленности края, еще не соединяется посредством рек или каналов достаточной глубины с бассейнами Прегеля и Вислы. На юго-востоке от Эльбинга или Эльблонга, все верхния озера (Oberlandische Seen) соединены между собою посредством сплавного и судоходного канала, который сохраняет совершенно одинаковый уровень (99 метров) на протяжении слишком 124 километров; но для того, чтобы получить это равенство высоты на таком большом расстоянии, принуждены были понизить на 7, даже на 81/2 метров поверхность многих озер и провести канал в виде водопровода над одним озерным бассейном, менее возвышенным, чем другие резервуары. Чтобы соединить с морем этот судоходный путь верхних озер и устроить для него спуск с высоты около 99 метров, которая отделяет его от устья реки Эльбинг, впадающей в Фриш-Гаф, придумали следующий остроумный способ: шлюзы канала заменили наклонными плоскостями, по которым и плавают суда, при чем те из них, которые спускаются вниз по наклонной плоскости, заставляют в то же время, при помощи особой гидравлической машины, поднимать суда, идущие в обратном направлении. Зимою эти озера, покрытые толстым слоем льда, представляют очень удобное средство сообщения: сани, запряженные маленькими бойкими лошадками, быстро катятся во всех направлениях по гладкой поверхности замерзших озер.
В то время, как многие озера исчезают непосредственно, опоражниваемые мало-по-малу реками, которые через них протекают, другие озерные бассейны постепенно превращаются в торфяные болота. К последней категории принадлежат преимущественно озера больших, почти горизонтальных равнин, где вода течет медленно, задерживаемая там и сям массами травы или каменных обломков. В странах с таким однообразным рельефом, как Бранденбургия, Познань, Восточная Пруссия, малейшее естественное препятствие отклоняло текучия воды в ту или другую сторону и даже иногда заставляло их течь в обратном направлении:—этим и объясняются те странные перемещения Эльбы, Одера, Вислы, Немана, которые привели эти реки в ложа, где в прежния времена текли другие потоки. Но, покидая свои первоначальные долины, реки оставляли после себя стояния воды и прибрежные болота, из которых иные тянутся на огромном пространстве: таковы Фербеллинские торфяные болота, благодаря которым большая часть Бранденбургии долгое время представляла почти недоступную область, и которые прежде были гораздо ниже относительно уровня моря, доказательством чего служат находимые там во множестве остатки морских растений; таковы же берега всех озер, расположенных в форме цепи, через которые последовательно проходит река Гавель, наследница бывшего Одера. Точно также углубление, в котором некогда текла Висла, направляясь к ложу Одера через нынешния долины рек Нетце и Варты, было сплошным непроходимым болотом до тех пор, пока его не ассенизировали, прорыв судоходный канал и водоотводные рвы. Большое торфяное болото, известное в крае под именем das lange Trodel, занимает водораздел, на западе от Бромберга, и, как показали измерения, твердая почва, на которой лежат слои торфа, находится еще на 5 сантиметров ниже среднего уровня Нетце: казалось бы, эта река, вместо того, чтобы спускаться к Одеру, которого она достигает только после 260 километров течения, легко могла повернуть на восток и сойти вниз по скату в 25 метров, который отделяет ее от Вислы; но она продолжает доныне следовать по тому руслу, которое когда-то было вырыто для неё этою великою рекою; мхи, растущие, впрочем, очень быстро, и мириады наливочных животных, составляют единственное препятствие, мешающее ей переменить направление; растения обновляются так быстро на водораздельном пороге, что приходится то и дело углублять канал. Другой торфяной бассейн с неопределенным скатом призывает обратно в древнее ложе Немана могучую реку, которая прежде текла туда, и которая впоследствии завладела нынешнею долиною Прегеля. Обозреваемая с высоты, вся эта страна, с её озерами и торфяниками, с её бесконечными лугами, расстилающимися зеленою скатертью на месте бассейнов наводнения, показалась бы лабиринтом каналов, начертанных древними потопами; еще недавно реки переплетались своими водами во всех направлениях. Не далее, как двести лет тому назад, небольшое количество воды из Вислы проникало еще в верхний Одер. Во время больших наводнений Висла соединяется ниже Варшавы с речкою Нер, притоком Варты, а эта последняя, в свою очередь, посылала часть своих вод в Верхний Одер, через болота Обры, ныне уже осушенные; в прежнее время лабиринт сплошных вод продолжался через бассейны Шпре и Гавеля до самой Эльбы.
Природа в этой стране не оказывает поддержки инженерам, которые трудятся, посредством расчистки мелей или углубления фарватеров, над увеличением пользы рек, как торговых путей. Известный географ Берггауз давно уже констатировал тот факт, что реки Германии в последние полтораста лет стали менее обильны водой. Выводы его в то время оспаривались многими метеорологами, но все новейшие наблюдения подтверждают их основательность. Эльба, Одер, Висла действительно уменьшились по количеству воды, точно так-же, как Дунай, Рейн, Везер. Истребление лесов, распашка земель, все более и более глубокая и захватывающая все более обширные пространства, устройство новых судоходных и оросительных каналов, постоянно увеличивающееся потребление воды в городах и на фабриках,—таковы главные причины этого уменьшения стока в реках; может быть, произошло также уменьшение в годовом выпадении дождей, ибо количественные разности протекающей в реках жидкой массы составляют весьма значительную пропорцию речных вод. Правда, в исключительных случаях разливы рек бывают теперь выше и опустошительнее, чем в прежния времена, но эта временная прибыль воды гораздо более чем уравновешивается понижением уровня во время мелководий и обыкновенного стояния вод. Сравнительные наблюдения, сделанные над средним количеством воды в Эльбе, которая, может быть, лучше исследована, чем все другие реки Европы, не оставляют никакого сомнения в этом отношении. Поэтому реки, вода которых утекает ныне почти без всякого полезного употребления, придется заменить во многих местах каналами, в которых можно регулировать ежедневный сток. Так, например, вместо мало удобного для судоходства водяного пути, представляемаго рекою Одер, нужно будет провести канал от Бреславля до Франкфурта-на-Одере.
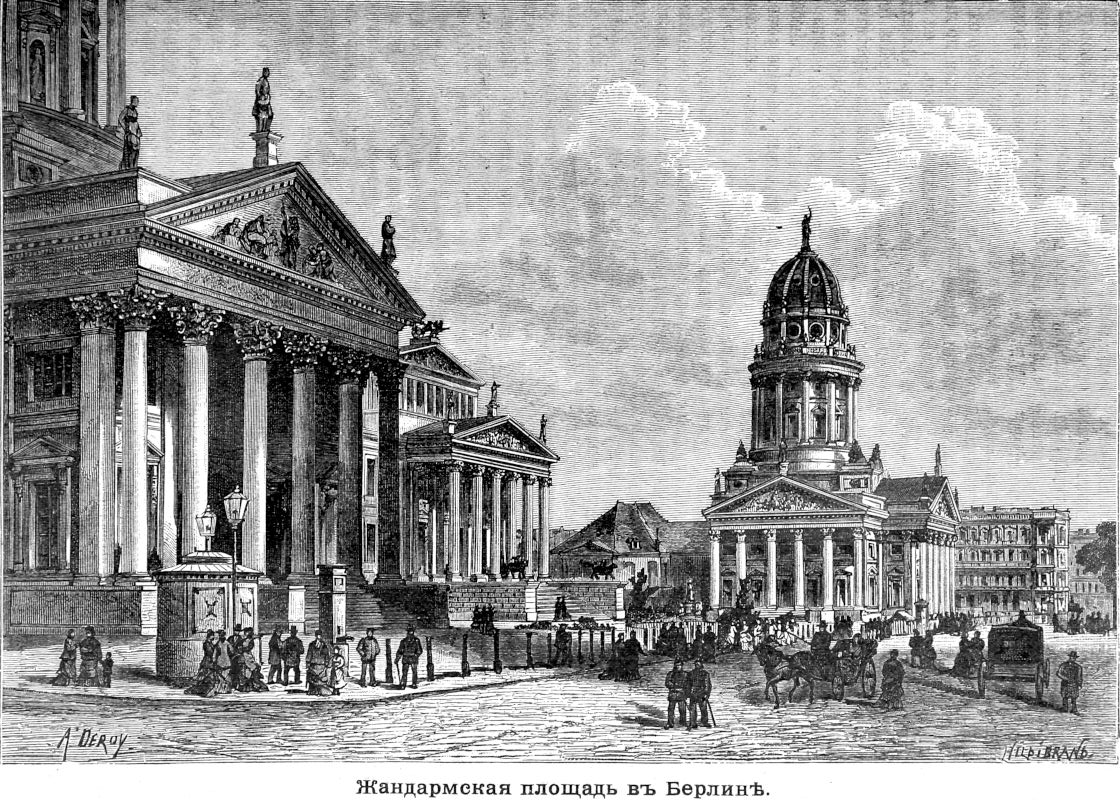
В новейшие времена обедневшие водою реки Северной Германии не представляли в своем течении уклонений, сколько-нибудь похожих на те блуждания вод, о которых повествует геологическая история страны; но достаточно посмотреть на незащищенные плотинами части равнин Эльбы, Одера и Вислы, чтобы составить себе понятие о происходившем здесь некогда непрерывном перемещении потоков: вокруг островов и песчаных мелей речки, затоки, мертвые воды переплетаются в одну причудливую сеть; можно подумать, что видишь перед собою реки, взаимно пересекающиеся своими бесчисленными излучинами и местами пропадающие в почве прибрежных равнин. Но постоянное возрастание народонаселения и успехи земледелия, бывшие естественным следствием этого возрастания, не позволили оставить реки в том положении, при котором они могли свободно блуждать по полям и равнинам, и неопределенные, болотистые пространства их берегов были постепенно закреплены при помощи плотин и завоеваны для целей культуры. Так как равнина Эльбы с самого начала германской истории имела сравнительно более многочисленное и более цивилизованное население, то эта река лучше других дисциплинирована её прибрежными жителями и менее разветвляется на болотистые рукава и затоки.
Из трех больших рек Северной Германии, имеющих каждая около 1.000 километров в длину, самая важная для судоходства—Эльба, в бассейне которой находится Берлин, нынешняя столица Германской империи, и которая проходит перед Гамбургом, важнейшим и самым оживленным торговым портом центральной Европы. Эта река, уже судоходная для пароходов при самом вступлении на немецкую территорию, так хорошо регулирована, что движение судов по ней продолжается почти круглый год; при том же пошлины, которые прежде взимались в различных местах с проходивших судов и значительно стесняли судоходство, отменены с 1870 года, и теперь суда могут свободно спускаться вниз по реке, от Дрездена до Гамбурга, нигде не встречая внутренних таможен.
В приморской части своего течения Эльба существенно отличается от рек, впадающих в Балтийское море. Между тем, как последние не изливаются прямо в море, а смешивают сначала свои воды с волнами внутреннего залива или так называемого гафа, Эльба находится в непосредственном сообщении с морем, и её лиман, где морской прилив поднимается вверх по реке на расстояние 165 километров от устья, постоянно приводится в движение морскою волною. В прежнее время река при устье постепенно расширялась, приближаясь к Балтике, и пространство, покрываемое водою в период больших приливов, имело не менее 20 километров от одного берега до другого; но мало-по-малу человеку удалось завоевать на левом берегу обширную площадь так называемых польдеров; остров Краутзанд, который еще в шестнадцатом столетии был необитаемым, теперь уже покрыт обработанными землями и домами; жители Гамбурга углубили фарватер, по которому ходят суда, и переместили его в более выгодное для них место. В столкновении пресных вод реки с солеными водами моря, последние, как более тяжелые, текут по дну речного ложа, тогда как пресная вода разливается по поверхности. По выходе из устья в открытое море она расстилается в виде слоя, который, чем дальше, тем делается все тоньше и тоньше; но черпая осторожно с поверхности, можно получать в море, на расстоянии 8 слишком километров от берега, воду, совершенно годную для питья. В расстоянии 28 километров от устья Эльбы удельный вес воды еще только на две сотые превышает удельный вес дистиллированной воды; нужно даже пройти остров Гельголанд, чтобы найти чисто морскую воду.
Из трех больших рек восточной Германии, Одер—самая замечательная по многочисленности её живых рукавов и её затоков, обратившихся во многих местах в стояния воды; можно подумать, что река готова исчезнуть—до такой степени она дробится на отдельные каналы. Впрочем, подобное же явление представляет и река Шпре ниже Котбуса: начиная от этого города до Люббена, где воды её опять вступают в одно ложе, она перестает существовать как независимая река; она разветвляется на множество рукавов, которые, в свою очередь, подразделяются на бесчисленные каналы и снова соединяются, образуя непрерывную сеть потоков; можно бы было подумать, что находишься где-нибудь в Голландии или Фрисландии, еслибы аллювиальные земли островов не были большею частию покрыты ольховыми лесами и группами ясеней, берез и буков. Контраст лесов, лугов, извилистых вод придает всей этой местности, известной под именем Шпревальда, много сельской прелести, и иностранцы приезжают в довольно большом числе посмотреть этот огромный парк, где их удерживает чисто-голландская опрятность, господствующая в жилищах. Как в Нидерландах, селения Шпревальда пересекаются каналами вместо улиц, и каждый дом имеет свой ров, который служит ему портом; земледельцы здесь в тоже время лодочники, и все поездки, всякая перевозка продуктов совершаются водяным путем. Деревня Бург, куда удалились некогда, словно в какой-нибудь озерный город, преследуемые венды или венеды, состоит из многих сотен домов, рассеянных на значительном пространстве и построенных на искусственной почве, между каналами, берега которых усажены тенистыми деревьями, и которые заключают в своей водяной ограде сады и луга.
До настоящего времени Одер более всякой другой германской реки избег искуственного регулирования. Низменная и чрезвычайно плодородная область, известная под именем Одербруха (прорыв, болото Одера), которая тянется от Подельцига, недалеко от Франкфурта, до Одерберга, на пространстве 56 километров, в виде пояса, шириною от 12 до 30 километров, представляла, лет сто тому назад, громадное болото, среди которого там и сям открывались озера. Самый глубокий фарватер шел тогда вдоль западных высот, в том месте, где ныне извивается поток, называемый Старым Одером. Фридрих II велел прорыть на восточной стороне этого болота канал, известный под именем Нового Одера, который течет параллельно старой реке, но в расстоянии, средним числом, около 25 километров, и который отделен от неё на юге Одерберга островною группою невысоких холмов. Только ниже этого города, близ Штольпе, обе реки, канализированные и обведенные береговыми плотинами, снова соединяются; но промежуточные равнины пересекаются еще большим числом болотистых каналов, воды которых повышаются и понижаются, смотря по обилию дождей и количеству воды, просачивающейся сквозь почву из Нового Одера в эпоху разливов. С 1832 года Старый Одер, с верховой стороны, совершенно отделен от питавшего его потока, и теперь это не более, как приток Нижнего Одера: он был превращен в водосточный канал для земель, находящихся в долине. Варта, главный приток Одера, также протекает через болото или Bruch, около 75 километров длиною и от 12 до 15 километров шириною, где воды её прежде разветвлялись на множество блуждающих каналов. Фридрих II тоже велел регулировать течение реки в этой постоянно затопляемой местности и отбросил Варту в Эльбу, ниже Кюстрина, для того, чтобы заставить вытечь все излишния воды южной части болота; но эта внутренняя провинция, которою прусский завоеватель хотел увеличить свое королевство, еще не присоединена окончательно, и наводнения часто еще опустошают прибрежные поля. Воды Одера имеют довольно пустынный вид. Верхняя часть реки, по причине неровностей дна и неравномерности речного стока, очень неудобна для судоходства. Даже между Глогау и Франкфуртом суда могут ходить с полным грузом, средним числом, только в продолжение сорока двух дней в году; движение судов совершенно прекращается месяца на три, или вследствие замерзания реки и ледохода, или по причине больших разливов. Несмотря на все усилия инженеров и денежную поддержку, оказанную им казною, до сих пор не удалось создать судоходный путь, действительно важный в экономическом отношении, до каменно-угольного бассейна Верхней Силезии. Коммерческое движение по Одеру составляет не более десятой части торговых сношений по Эльбе.
Одер, приток моря без приливов, не открывается прямо на Балтику устьем, куда могли бы свободно проникать морские волны. Ниже Штеттина, река впадает в продолговатое озеро, площадь которого постепенно уменьшается вследствие образования полуостровов из речных наносов; затем, после нескольких поворотов, это озеро соединяется с обширным пресноводным бассейном треугольной формы, который известен под именем Большого Гафа. Этот внутренний залив, поверхность которого, вместе с площадью всех его бухт и проливов, занимает около 797 квадратных километров, отделен от моря островами, правильные берега которых составляют продолжение побережья континента: только с южной стороны, на внутреннем берегу, обращенном к пресной воде, эти острова иссечены бухточками и полуостровами. Гаф Одера сообщается с Балтийским морем посредством трех извилистых каналов или протоков. Через Дивенов, восточный канал, проведен мост, соединяющий город Воллин и его остров с континентом, и со стороны моря устье его часто засоряется песками. Западный рукав, Пене, также пересечен путеводом и отчасти загражден мелями. Средний пролив, Свине, составляет главный фарватер, по которому и производится судоходство между Балтикою и гафом Одера. В начале нынешнего столетия рукав Свине имел не более двух метров глубины на баре, но, при помощи укрепления берегов реки, которые посредством длинных жете продолжены до самого моря, инженерам удалось дать фарватеру глубину от пяти до шести метров, которая сохранилась до сих пор почти неизменною. Этот счастливый результат, без сомнения, следует приписать чистоте вод Свине, которые оставляют приносимые ими сверху землистые частицы в гафе и достигают бара уже без всякой посторонней примеси. Но самый гаф не имеет достаточной глубины, и теперь занимаются прорытием канала, глубиною около 7 метров, который из Козебурга, на Свине, будет проведен прямо в Одер.
Висла (по-немецки Weichsel, по-французски Vistule) окаймлена, как и две другие главные реки рассматриваемой нами низменности, большими болотами, которые мало-по-малу осушаются посредством сооружения береговых плотин. Однако, эти новые, ассенированные земли по-прежнему подвергаются опасности быть затопленными не только обыкновенными наводнениями, которые могут прорвать плотины, но также внезапными разливами во время вскрытия реки весною. Ни одна река центральной Европы не является, в период ледохода, таким грозным потоком, как Висла. Во время весеннего разлива 1855 года, самого страшного в нынешнем столетии, речные воды, освободившиеся от сковывавшего их ледяного покрова, открыли себе более тридцати пробоин в боковых плотинах, и почти все прибрежные поля и равнины были затоплены. Так как река течет с юга на север, то есть к более холодным географическим широтам, чем та, под которою лежат её истоки, то лед, сломавшийся в верхней части реки, встречает в нижней еще цельные, сопротивляющиеся слои; приплывшие сверху льдины останавливаются, громоздятся буграми одна на другую и задерживают воды, как запруда; затем, когда нижний лед уступает, наконец, напору налегающей сверху массы, они низвергаются со страшною силою, опустошая лежащие на пути берега. Мост, построенный через Вислу у Диршау, в области дельты, вооружен громадными ледорезами, для предупреждения повреждений при ледоходе.
Висла, составляющая естественную границу между двумя равнинами—германскою и славянскою, отделяет, в нижней части своего течения, области, различающиеся между собою по виду и характеру местности. На западе от неё тянутся тощие, песчаные земли, поросшие местами сосновым лесом; на востоке расстилаются поля более плодородные, обильнее орошаемые и покрытые лесами, где смешаны разные породы дерев. Не доходя верст сорок до моря, река прежде делилась на два рукава—западный, или собственно Вислу, и восточный, называемый Ногат. Эта последняя ветвь дельты, более короткая и, следовательно, более наклонная, чем Висла в собственном смысле, грозила сделаться главным каналом, уносящим большую часть речной воды, к великому неудовольствию данцигских мореплавателей. Вследствие этого, устроена была запруда, отделяющая Ногат от прежнего мыса бифуркации, и теперь сообщение между двумя внешними рукавами дельты производится при помощи искусственного канала, который можно регулировать по произволу, и нормальный сток которого составляет около одной трети всего количества протекающей в реке воды. Благодаря косвенному направлению, которое дано этому каналу, вскрытие реки сделалось гораздо менее опасным в Малой Висле или Ногате.
В расстоянии 9 километров от Балтийского моря, Большая Висла опять разветвляется; но эти две новые её ветви, не находя прямого выхода на север через прибрежные дюны, преграждающие им путь, изгибаются под прямым углом: Эльбингский рукав направляется к востоку и впадает в залив Фрише-Гаф многочисленными протоками, по большей части засоренными песком и тиною. В 1874 году Фрише-Гаф принимал в себя сорок четыре реки, выходящие из Вислы или через Ногат, или через Эльбингский рукав; но между всеми этими реками нет ни одной судоходной, так что для прохода судов должны были устраивать искусственные каналы. Что касается главной ветви, Данцигской или Гданской, то она поворачивает на запад, идя вдоль прибрежного пояса, съуживающагося в одном пункте до ширины не более 640 метров. Часто являлась мысль прорыть в этом месте канал, ведущий в море, но еще не была приведена в исполнение, как вдруг река сама, в 1840 году, во время весеннего разлива, открыла себе выход. Сначала этот проток имел более пяти метров глубины, так что через него могли проходить самые большие суда, но потом он мало-по-малу засорился, и теперь инженеры отбрасывают туда, при помощи шлюзов, часть ила, который Висла несет в своих водах. Далее масса речного потока продолжает свое движение по направлению к Данцигу (Гданску), затем, ниже этого города, который остается несколько южнее, она изливается, наконец, в море; прежде она в этом месте опять делилась на два рукава—Нордерфарт, который с семнадцатого столетия сделался неудобным для судоходства и ныне уже не существует, и Нейфарвассер, который составляет истинное устье Вислы, углубленное теперь до пяти с половиною метров.
Дельта Вислы, поверхность которой обнимает ныне около 1.600 квад. километров, видимо увеличивается с каждым десятилетием. Об этом можно судить по быстрому возрастанию области Вестерплатте, между прежним и теперешним устьями реки, и в особенности по плоским тинистым берегам, которые отлагаются в заливе Фрише-Гаф, на севере от Эльбинга. Вследствие постоянного увеличения этих аллювиальных земель, принуждены были построить по обе стороны Эльбингского канала жете длиною около трех километров. Черная глинистая земля, покрывающая дельту Вислы, известна у местных жителей под именем «дегтя» (Pech), которое она получила за свой вид и вязкость: она отличается необычайным плодородием, так что земледельцы считают за счастье, когда им удается увеличить эту богатую почву новым клочком, отвоеванным у области вод. Вся дельта представляла одно обширное болото до постройки плотин, сдерживающих воды низовья Вислы; но в конце тринадцатого столетия тевтонские рыцари ордена Пресвятой Девы Марии, поселившиеся в Пруссии, в укрепленном замке Мариенбурге, начали эту гигантскую работу регулирования устьев реки. В шесть лет Werder (остров), носящий имя их древней столицы (Мариенвердер), был таким образом приобретен для земледелия: он обнимает не менее 900 квад. километров. Между тем, как двести водокачальных мельниц, установленных на окружности этого болотистого острова, работали над вычерпыванием воды, скопившейся в углублениях поверхности, тысячи пленников литовских и славянских воздвигали оборонительные плотины, общее протяжение которых было около 180 километров. Два другие вердера: Гданский и Эльбингский, были подобным же образом обведены плотинами в начале следующего столетия. Эти обширные работы тем более возбуждают удивление, что они были предприняты и успешно выполнены в эпоху, когда инженерное искусство находилось еще в состоянии младенчества.
Залив Фрише-Гаф, нынешняя площадь которого равна 859 квадр. километрам, занимает менее половины прежнего бассейна, так как вся западная часть его уже завалена наносами Вислы. Если бы морские берега Пруссии не были подвержены колебаниям уровня почвы, от которых изменяются в то же время и размеры гафа, то можно бы было вычислить, с погрешностью, не превышающею несколько столетий, во сколько времени этот внутренний залив будет совершенно выполнен отложениями Вислы и отложениями Прегеля, который впадает у северной оконечности бассейна. Дельта этой последней реки также захватила немалое пространство гафа с начала исторической эпохи; но нынешнее увеличение её незначительно в сравнении с захватами, какие она делала в то время, когда Прегель получал все воды Немана через долину Инстера, которая теперь почти совершенно наполнена торфом. При том только часть Прегеля изливается в залив Фрише-Гаф; один рукав реки, называемый Дейме (Дайма), поворачивает вправо и впадает в Курише-Гаф: мы видим здесь один из примеров довольно редкого географического явления—образования речной дельты в местности, состоящей из твердых, хорошо сопротивляющихся формаций; холмы, высотою от 100 до 150 метров, пересекают эту страну, которая за её живописные сельские ландшафты получила название «рая Пруссии». Весь Замланд, плато четыреугольной формы, разделяющее два гафа: Кенигсбергский и Мемельский, превратился таким образом в остров, доступ к которому прежде был очень затруднителен, по причине болот, окаймляющих течение обоих рукавов, собственно Прегеля и Дейме. Замланд есть, вероятно, один из тех «янтарных островов», которые древние географы искали на море, тогда как они находятся на материке.
Песчаная коса Фрише-Нерунг, ограничивающая на севере польдеры низовья Вислы и продолжающаяся между гафом и Балтикой, до Пиллауского прохода, замечательна правильностью своей формы. Она развертывается по кривой не менее красивой, чем линия волн, которые разбиваются об её берега: под напором морских вод, она изогнулась в виде висящей цепи. По другую сторону мыса Замланд, к которому примыкает северная часть Данцигской косы, другая коса, Курляндская, или Курише-Нерунг, выступает впереди залива, куда изливается Мемель,—река, составляющая продолжение Немана. Наконец, как бы для того, чтобы довершить контрастом симметрическую группу двух прибрежных поясов Вислы и Мемеля, третья длинная коса или стрелка, еще не доконченная, отделяется от кашубского берега, на севере от Данцига (Гданска), и тянется верст на тридцать в Балтику; эта коса, называемая Пуцигер-Нерунг, в противоположность двум предыдущим, обращена к морю выпуклым берегом, вероятно, потому, что прибой волн, запертых в заливе, заставил постепенно образующийся полуостров изгибаться в сторону открытого моря. Эти длинные и узкия косы балтийского берега, напоминающие lidi венецианских лагун и внешние берега прибрежных прудов или озер французского берега Средиземного моря, известны в Германии под именем Nehrungen,—местное название, которое прежде применялось безразлично ко всем низменным землям (Niederungen), и в особенности к плоским песчаным или тинистым берегам.
В настоящее время коса Фрише-Нерунг представляет только один перерыв, именно у Пиллау, где проход или канал, соединяющий ее с Балтикою, открывается почти против устьев Прегеля и расположенного на них города Кенигсберга (Кролевец или Королевец); но этот перерыв часто менял место. В начале четырнадцатого столетия проход находился на севере от устьев Ногата, у Фогельзанга. После того он открылся в Лохштедте, у северного основания косы. Затем, когда эта брешь была засыпана песком во время сильной бури 1393 года, образовался новый выход около середины косы, в Розенберге; но жители Гданска, желая сохранить за собою торговую монополию, которой угрожала конкурренция со стороны эльбингских купцов, заперли канал, потопив в нем пять кораблей. Это было в 1455 году. В том же году открылся другой канал, немного севернее, близ Балга. Гданские мореплаватели загородили его подобным же образом в 1510 году. Тогда воды искали себе выхода через Пиллаускую брешь, которая тоже много раз перемещалась, но которую теперь достаточно укрепили при помощи обширных гидравлических сооружений. Песчаные бугры или дюны, возвышающиеся на косе Фрише-Нерунг, были в прошлом столетии покрыты большими лесами, которые соблазнили жадность Фридриха Вильгельма I; он велел вырубить их, но песок, освободившись от удерживавшей его лесной растительности, тотчас же стал передвигаться по направлению к заливу, поглотил на пути многие деревни и засыпал порты. С большим трудом успели после того снова прикрепить дюны посредством насаждения сосен и тростника с расстилающимися по земле корнями.
Курляндский гаф (Курише-Гаф)—самый большой из внутренних заливов на прусском берегу Балтийского моря; он и теперь еще простирается на пространстве около 1.620 квадратных километров, хотя дельта Мемеля, постоянно растущая и захватывающая все новые полосы в области его вод, обнимает уже площадь в 1.430 квадратных километров. Точно также Курише-Нерунг, или «Курляндская коса», отделяющая эту лагуну от моря, есть самая длинная из прибрежных цепей Балтийского поморья, и дюны её достигают сравнительно наибольшей высоты: средним числом верхушки их поднимаются на 30-50 метров, а одна дюна близ Ниддена, около середины косы, имеет даже 62 метра высоты, так что после песчаных бугров, возвышающихся в области французских ланд, это—самая высокая дюна в Европе. В начале прошлого столетия коса Курише-Нерунг была еще покрыта лесами; дюны, прикрепленные корнями деревьев, не переходили с места на место под напором ветров, и цветущие деревни, окруженные полями и садами, занимали выходы долин, хорошо защищенных, на краю пресноводной лагуны или внутреннего залива. Внешний берег косы служил тогда большою дорогою путешественникам, отправляющимся из Кёнигсберга в Мемель, и гостинница Зандкруг, на оконечности стрелки, часто бывала наполнена проезжими, которых буря или ледоход задерживали на берегу. Истребление лесов во время Семилетней войны возвратило пескам дюны их подвижность; песчаные холмы пошли странствовать, засыпая по пути нивы и деревни; дорога, которая, впрочем, всегда оставалась голым песчаным пляжем, была совершенно покинута; население исчезло почти все; коса превратилась в печальную пустыню, которую издали можно узнать по её «белым горам», то есть песчаным буграм. Уцелела только часть прежнего леса, в соседстве Шварцорта (Schwarzort, Черное место), деревни с морскими купальнями, которая находится недалеко от северной оконечности длинной косы, и жители которой занимаются рыбною ловлею; но эти остатки некогда обширных лесов, окруженные песком, мало-по-малу уменьшаются: со стороны моря ветер, несущий песчаные частицы, убивает деревья, разрушая их кору постоянным трением об нее песчинок; со стороны лагуны обвалившийся песок засыпает сосны от основания до верхушки, так что впоследствии они снова появляются позади дюны уже в состоянии мертвого дерева. Шварцортский лес, средним числом, каждый год теряет полосу шириною около 11 метров, и если человеку не удастся положить преграду движению тон, то самая деревня будет погребена под грудами песку не позднее, как в начале двадцатого столетия. В настоящее время стараются укрепить песчаные горки при помощи частоколов и насаждений, подобных тем, которые были сделаны на стрелке Зандкруг, для того, чтобы закрепить берега прохода и предупредить засорение фарватера песком; но эта работа одна из самых трудных, по причине огромной массы песку, которую ветер поднимает на берегу и передвигает на 5 или на 6 метров в год к востоку. Эти наносы постоянно расширяют полуостров со стороны его внутреннего берега, и по окраине гафа там и сям видны так называемые «обваливающиеся дюны» (Sturzdunen), выдвинутые своим обрывистым скатом в область вод. Со стороны моря, напротив, берег низменный, чуть волнистый; но у подошвы приморского откоса дюн, в том месте, которое они только что покинули в своем движении на восток, находятся самые опасные топи: вода, которую дожди приносят в изобилии на песчаные горки, опять появляется у их основания, приподнимая мелкий песок; случалось, что люди и лошади были засасываемы в этой топкой почве.
В Курляндской косе (Курише-Нерунг) проходы или каналы, соединяющие внутренний залив с морем, так же, как и в косе Фрише-Нерунг, не раз меняли место. И теперь еще не трудно узнать три слабые точки, бывшие прежде брешами, через которые воды Курише-гафа сообщались с водами Балтики: цепь дюн прерывается в этих трех пунктах; болота и торфяники заменили существовавшие там некогда проходы, и, чтобы помешать морю прорвать еще полуостров, пришлось создать пояс небольших искусственных дюн, при помощи фашин, на которых скопляется песок. Близ южного основания полуострова, отели и купальные заведения местечка Кранц, посещаемого многочисленною публикою во время купального сезона, подвергаются опасности быть залитыми волнами Балтики: на многих точках защитный перешеек имеет всего только около 300 метров в ширину, и если бы не плотины и сваи, которыми он укреплен с обеих сторон, то одной бурной ночи было бы достаточно, чтобы перерезать узкую косу и соединить два моря. Мемельский канал, ныне единственный проход, значительно изменил свою форму и место в историческую эпоху. Еще в начале текущего столетия канал имел километр в ширину; теперь же ширина этого прохода, называемого Tief (глубокий) или Gatt (ворота), не превышает 400 метров от одного края до другого, а канал в собственном смысле имеет всего только от 30 до 70 метров ширины, вследствие чего суда должны входить в него с величайшею осторожностью.
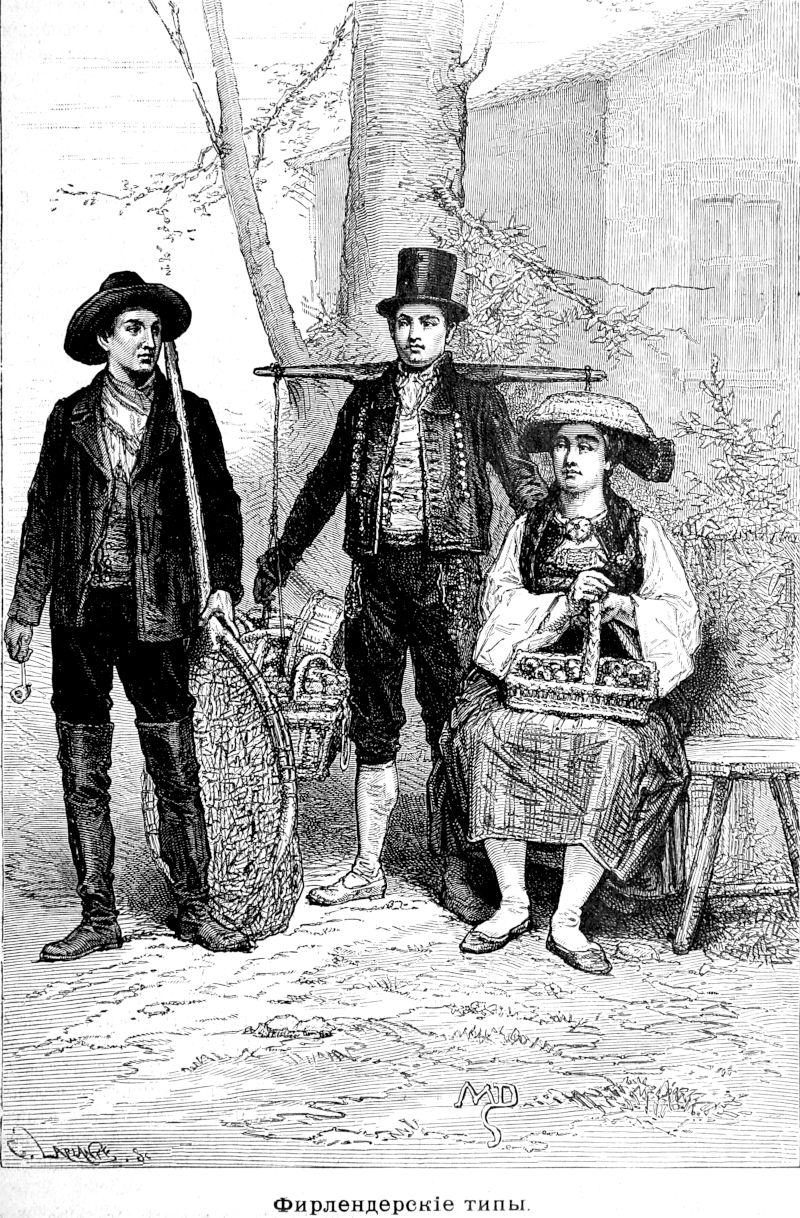
Берега гафов и берега полуострова Замланд, между двумя косами, Фрише-Нерунг и Курише-Нерунг, уже более двух тысяч лет, или, лучше сказать, с незапамятных времен, служат сборным местом для торговцев, приезжающих туда из разных стран за драгоценною смолою, находимою в песке плоского морского берега. Янтарь, высоко ценимый древними народами, есть то чудесное вещество, которое привлекло этрусков и греков к Балтике и заставляло их пролагать дороги через сарматские пустыни. Многочисленные греческие монеты, собранные в Замланде и на ведущих туда дорогах, свидетельствуют о важности этих рынков. Все эти пути от Черного и Адриатического морей до берегов Замланда были наперед указаны торговым людям бродами и немногочисленными перешейками областей, прежде очень болотистых, по которым протекают Одер и Висла; направление древних дорог можно было с точностью определить при помощи греческих монет, этрусских бронз, даже нескольких финикийских предметов, найденных в разных местах археологами. «Тайники» для хранения янтаря, находимые через известные промежутки на этих торговых трактах, заставляют думать, что меновая торговля этим драгоценным веществом производилась преимущественно чрез посредство путешествующих купцов, в роде нынешних франко-канадцев, меховых торговцев, которые разъезжают от одного индейского племени до другого, скупая, или, вернее, выменивая у них шкуры пушного зверя.
В прежнее время искатели янтаря ограничивались раскопками на поверхности берегов, или даже довольствовались тем, что ждали, когда буря выбросит кусочки этой драгоценной смолы на берег. В наши дни поиски производятся более совершенным способом. В 1872 году начали с большим успехом разработывать правильным образом, как настоящие рудники или копи, «синюю землю», где янтарь встречается почти всегда. Кроме того, явилась мысль попробовать искать янтарь в самых водах внутренних заливов или гафов. В 1864 году два рыбака принялись расчищать дно Курляндского гафа, близ деревни Шварцорт, против того места на берегу, где случалось делать счастливые находки. После долгих поисков, они открыли очень богатое месторождение. Тотчас же была применена сила пара к черпанью земли со дна залива, к просеванию вынутой тины, и бедные рыбаки сделались могущественными капиталистами, платящими одной пошлины за право эксплоатации этих подводных копей до 300.000 франков в год. Рабочие должны рыть песок и ил до глубины шести метров, чтобы добраться до янтаря, который всегда попадается смешанный с маленькими обломками дерева (Sprock). Отборные куски янтаря, которые отличаются или большими размерами, или чистотою, или насекомыми, или листьями исчезнувших древесных пород, сохранившимися в их прозрачной массе, ценятся очень дорого, наравне с жемчугом и драгоценными каменьями. В 1874 году добыча янтаря составляла около 175, в 1876 г. около 270 тонн; цена обыкновенных экземпляров различна—от 25 до 180 франков за килограмм; до сих пор найдено в янтаре 1.200 видов различных предметов, минералов, растений и животных. Самая богатая янтарем часть побережья, собственно так называемый «янтарный берег»,—это Брюстер-Орт, наидалее выдвинувшийся в море мыс полуострова Замланда.
Упомянутые раскопки повели к открытию древних лесов, смола которых, сохранившаяся в почве, превратилась в вещество, известное под именем янтаря; ботаники признали в этих растительных остатках тридцать два различных вида хвойных дерев, а также много других древесных пород, осенявших землю в эоценовую эпоху. Но со времени этого янтарного века сколько других лесов сменилось в этой стране! Повсюду находят остатки их, смешанные с различными предметами человеческого искусства, с изделиями из камня, янтаря, бронзы или железа. Так, например, под нынешним лесом деревни Шварцорт, состоящим преимущественно из хвойных дерев, открыты остатки дубовых и других лиственных пород; слой песка в метр толщиною отделяет живой лес от прежнего леса, погребенного в недрах земли. Еще ниже, под вторым песчаным слоем, найдены следы третьего леса, который также занимал всю длину косы Курише-Нерунг. Там и сям, в песке морского берега, встречаются корни тиса, твердые как камень, и представляющие тем больший интерес для натуралиста, что это дерево почти совсем исчезло из лесов Северной Германии.
Древние слои леса, аллювиальных земель, содержащиеся в почве поморья, обнаружили последовательные изменения общего уровня рассматриваемой страны относительно уровня Балтийского моря. Леса, торфяники, лежащие на несколько метров ниже поверхности моря, и в той же местности, морские наносы, поднятые выше крутых берегов, свидетельствуют о противоположных движениях, которые испытывала попеременно почва этой области, находящаяся, так сказать, в постоянном колебательном состоянии. По словам геолога Берендта, одного из самых усердных исследователей морского побережья восточной Пруссии, в наслоениях берега можно ясно различить следы четырех поочередных изменений уровня почвы, именно: два поднятия и два опускания или оседания; но непосредственные наблюдения над морским уровнем, делаемые с начала нынешнего столетия, не позволяют определить с точностью колебания берега: г. Шуман полагает, что твердая земля в этом месте медленно повышается; но другие исследователи приводят цифры, доказывающие противное. Таким образом в настоящую минуту невозможно решить с достоверностью этот вопрос.
Как бы то ни было, несомненно однако, что морской берег, о котором идет речь, оседал еще в недавнюю эпоху. Конечно, одно только открытие древних моховых болот ниже морского уровня не дает еще права заключить, без других доказательств, что почва понизилась. Во многих местах побережья Балтики, между прочим, на острове Узедоме, встречаются торфяники в полном росте, лежащие ниже поверхности моря, от которого они отделены высокими берегами или цепями дюн: эти болота заключают в себе остатки лесов, корни которых, оставшиеся в их естественном положении, находятся теперь на один метр и даже на полтора метра ниже уровня Балтики. Если бы пески прибрежья, выдерживающие нападение волн, вдруг исчезли, то эти леса торфяников сделались бы подводными, и геологи, которым пришлось бы наблюдать их, могли бы увидеть в их теперешнем положении признак оседания почвы. Но во многих местах разность уровней так велика, что едва ли может оставаться какое-нибудь сомнение в умах наблюдателей. Древние пепелища были находимы в восточной Пруссии в местах, лежащих на три метра ниже нынешней поверхности моря, а в Курляндском гафе, у основания одного крутого берега, известного под именем Krantas, оказались подводные леса, пни которых, притупленные водами, были замечены судовщиками: эти леса покрыты слоем жидкой массы, имеющим по меньшей мере четыре метра толщины.
На берегах Померании, между Штетинским и Данцигским гафами, пруды различной величины, отделенные от моря узкими песчаными полосами или стрелками,—очень многочисленны, и вторжения вод Балтики, происходившие, как полагают, вследствие понижения уровня берега, были довольно часты. Прибрежная полоса, ограничивающая на севере озеро Ямунд, в соседстве города Кёслина, была, в начале четырнадцатого столетия, широким поясом земли, покрытым лесами и лугами: в наши дни это узкий и плоский песчаный берег, на который море во время бурь выбрасывает стволы деревьев, вырванные на соседнем дне. Озеро, некогда достаточно глубокое для того, чтобы служить портом, было много раз затопляемо морскими водами и частию засыпано песками; деревня Нейст, разрушенная волнами, вновь построена в другом месте, далее на берегу. Регамюнде, прежний порт Трептова, тоже сделался добычею моря; в конце прошлого столетия еще видны были кое-какие остатки его под поверхностью вод. Точно также только с большим трудом удалось защитить, при помощи плотин и свай, от наводнений часть города Кольберга, при выходе реки Персанте. Близ этого города покрывающие морской берег пески, содержащие много железистых частиц, издают музыкальный звук, когда они приводятся в сотрясение каким-либо ударом, после того как поверхность их достаточно высыхает: это—явление, подобное тому, которое было наблюдаемо во французских ландах, на склонах Синая и во многих других странах.
Ни одна часть балтийских берегов Германии не носит на себе таких явных следов громадной работы размыва, совершенной водами моря, как та область побережья, которая обнимает косу Фишланд в Мекленбурге, полуостров Преров или Дарс в Померании и остров Рюген. С первого взгляда видно, что этот остров прежде составлял часть континента, и что истинным берегом твердой земли был ряд прибрежных бугров, которые тянутся, в виде вала, к западу от Штральзундского пролива. Но от этого древнего материка остался только, так сказать, один скелет. Восточные окраины Рюгена, защищенные остатками береговых утесов и дюнами, довольно хорошо выдерживают разрушительное действие морских вод; но западные берега, не имеющие внешней защиты против волн, во многих местах очень быстро размываются, так что часто в период жизни одного поколения профиль их изменяется заметным образом. В ноябре 1872 г., во время сильной бури, волны разбушевавшагося моря прорвали почти все береговые плотины на полуострове Дарс, затопили его поля, и вся эта страна неминуемо превратилась бы в песчаную мель, если бы не были воздвигнуты на берегу моря многочисленные оградительные валы. Точно также жители Рюгена знают, что их остров, или вернее группа островов, тает у них под ногами, и их народные предания, смешанные с баснословными сказаниями, содержат рассказы о том, как, вследствие последовательных наводнений, земля, на которой они обитают, была постепенно отделяема от континента и разрезываема на полуострова, соединенные один с другим узкими перешейками. Говорят, что в историческую эпоху, даже в 1309 году, островок Руден, лежащий теперь близ Узедома, в расстоянии около 10 километров от ближайшего к нему мыса на Рюгене, составлял еще часть этого острова. Еще недавно этот островок был гораздо больше, чем ныне, судя по тому, что в Тридцатилетнюю войну Густав Адольф мог высадиться на нем со всею своею армиею и расположиться там лагерем.
Остров Рюген, замечательный своими странными контурами, не менее любопытен своим геологическим строением. Это, так сказать, немецкая Скандинавия, ибо он состоит большею частью из пластов, образующих на юге продолжение формаций Скании и Зеландии, да и политически он составлял прежде часть Дании и Швеции. В целом, остров Рюген и его полуострова состоят из меловых пластов, которые возвышаются там и сям, преимущественно на восточном берегу, в виде белых утесов, господствующих над волнами Балтики. Скала Кенигсштуль или «Королевский престол», в маленькой горной массе или плоскогорье Штуббенкамер, поднимается почти вертикально на высоту 130 метров над поверхностью моря. Эти крутые стены прерываются узкими оврагами, с таким же крутым скатом, как «valleuses» в Нормандии, но не такими, как они, бесплодными, в непосредственном соседстве с морем. Так как вода Балтики имеет очень слабую соленость, то леса плоскогорья могут продолжаться по оврагам до самого берега моря, и волны без вреда осыпают своими брызгами корни буков. Арконский мыс, на котором теперь стоит маяк, менее возвышен, чем Штуббенкамер; но, выдвигаясь далеко в открытое море, по направлению к Скандинавии, его разорванные, зазубренные скалы, над которыми кружатся темные тучи птиц, имеют более грозный вид: здесь, в городке Арконе, еще в половине двенадцатого столетия стоял храм бога балтийских славян, венедов (вендов), Святовида или Святовита, идол которого представлял великана с четырьмя головами, смотревшими в разные стороны. Почти на всем пространстве острова эти известковые пласты, обломки которых дают грузы мелу галеассам Балтики, покрыты наносными формациями, глинами, песками или валунами, большими глыбами скандинавского гранита, принесенными плавающими ледяными горами и полями во времена ледяного периода. Геологические исследования обнаружили, что меловые слои острова Рюгена не совершенно горизонтальны: они согнуты в складки во многих местах и в массе наклонены с северо-запада на юго-восток. Форхгаммер приписывает это наклонное положение пластов мела качательному движению, которое, по его мнению, имело место под почвою; Джонстроп и Бернгард Котта видят в нем следствие громадной тяжести эрратических камней, принесенных пловучими льдами. Маленькия озера, круглые болота, рассеянные в разных частях острова, занимают провалы меловых пластов. Пещеристая почва осела, оставив пустоты в форме воронок, которые затем наполнились водою; некоторые из этих углублений уже засыпаны наносами и заросли мхом, из которого образовался торф.
Между различными областями балтийской Германии, остров Рюген и Мекленбург всего лучше сохранили следы населений, которые обитали там ранее того времени, когда для этой страны началась писаная история. На Рюгене остатки укрепленных станов до того многочисленны, что сложилась легенда о богине-великанше, которая, будто-бы, рассыпала их из своего передника. Исследования археологов показали, что эти крепостцы по времени происхождения относятся к последним векам язычества, и что, по крайней мере, одна из них, Ругард, то-есть «око Рюгена», центральный сторожевой пункт острова, служила укрепленным замком даже в христианскую эпоху. Литературные сказки, сочиненные в семнадцатом столетии некоторыми чересчур усердными комментаторами Тацита, изображают одно из этих древних укрепленных становищ, расположенное под тенью густого букового леса, как остатки храма богини земли Герты, таинства которой совершались, будто бы, на берегу маленькаго соседнего озера. В Мекленбурге укрепленные станы встречаются также в большом числе; но там они находятся по большей части не на крутых холмах, как на острове Рюгене, а среди болот и озер, где защищаться было легче. При первых же разведках исследователи прудов или лагун и моховых болот Мекленбурга открыли около трех сот свайных поселений, которым наследовали нынешние города на тех же самых местах. Так, например, Мекленбург, сообщивший свое имя всей стране, Шверин, Старый Висмар в начале были просто озерными замками или крепостцами. Воллин или Юлин, древняя Винета, прославленная средневековыми хрониками, также занимает местоположение древних свайных построек, как доказали раскопки, предпринятые в 1871 году, под руководством Рудольфа Вирхова. Летописцы рассказывают, что в двенадцатом столетии жители края имели пребывание по большей части «среди болот и озер». По всей вероятности, у них были одновременно хижины на твердой земле и убежища на воде; обыкновенно они проводили время на берегу со своими стадами, а свайными постройками пользовались только в минуты опасности. В лесах и теперь еще встречается множество искусственно-выкопанных ям, которые несомненно служили жилищами, и древности которых, относящиеся, по времени происхождения, к каменному веку, сходны с предметами человеческого искусства, находимыми в древних озерных селениях окрестной местности. В Мекленбурге же особенно многочисленны могильные курганы, и в остатках, которые они содержат, Лиш различил произведения целого ряда доисторических веков, от расколотого камня до железных орудий.
Кто бы ни были языческие народы, воздвигшие эти укрепленные лагери и могильные курганы Северной Германии, во всяком случае не подлежит сомнению, что в ту эпоху, когда для этих областей начинается история в собственном смысле,—славяне занимали почти все равнины, которые тянутся на восток от Эльбы или Лабы; даже по другую сторону этой реки мы находим много славянских городов, которые свидетельствуют о том, как далеко подвинулась славянская раса в направлении к западу Европы. Во многих странах, принадлежащих к бассейнам Эльбы, Одера, Вислы и промежуточных рек, все названия мест, за исключением имен, относящихся к ново-основанным поселениям,—славянского происхождения, и некоторые из них доныне сохранились в своей первоначальной чистоте. Некоторые текучия воды Мекленбурга до сих пор носят название Rieka (река), как многие потоки в Австрии и Турции; буковые леса оставили наименование «Буковины» некоторым местностям берегов Балтики, подобно тому, как они дали имя одной провинции Австро-Венгерской империи; в этой северной области тоже есть Белграды и Краковы. При помощи названий мест можно бы было определить, в общих чертах, древнее состояние культуры и самый вид края: мы видим, где стояли крепкие замки и хутора, где находились мельницы и мосты, где тянулись луга, леса, сады и огороды, где преобладали сосны, где бук или дуб.
В эпоху крушения Западной Римской империи и великого переселения народов германцы двинулись к Галлии, а славяне в Германию; но, несколько веков спустя, произошло перемещение в обратном направлении: франки стали теснить назад саксов, а саксы—венедов или вендов. Почти везде различные народцы и племена приходили между собою в столкновение с оружием в руках; победители истребляли побежденных или обращали их в рабство. Страшные войны свирепствовали между двумя расами, славянскою и германскою, в особенности в бассейне Вислы; но во многих местах отлив немцев к прежним германским территориям совершался также и мирным путем: земледельцы, овладевшие необработанными и незаселенными землями, ремесленники, призванные в города или поселившиеся в них в качестве друзей, сделали для германизации страны не менее, чем завоеватели, вооруженные мечем и копьем. Так, например, в Померании (по-немецки Pommern), то-есть балтийском поморье, люди, изменившие мало-по-малу язык и нравы туземного населения края, были не кто иные, как мирные колонисты из Фрисландии и Голландии, вынужденные покинуть родину, вследствие опустошительных наводнений Северного моря. Под давлением, все более и более усиливавшимся, германского элемента, славяне удалились сначала из городов, затем из больших местечек, на берега озер и болот, в глухия уединенные места, где они существовали продуктом рыбной ловли; в бассейне нижнего Одера их жалкия деревушки известны были у немцев под именем Kietzen, от слова, означавшего рыболовные сети. Они исчезли по большей части безвестно: на острове Рюгене в начале пятнадцатого столетия умерла последняя женщина, говорившая еще древним вендским наречием. Нашествие немцев на славянские земли сопровождалось введением в этих землях новой религии. Переселенцы из Вестфалии и саксонских земель, оттеснившие славян в бесплодные области песков и болот, принесли с собою, после Карла Великого и св. Бонифация, христианские обряды и традиции язычества, отличные от преданий и верований, которых держались венеды. Последние чтили вербу и бузину, первые смотрели на дуб, как на самое священное дерево; они почитали других животных, употребляли другие заклинания, чем славяне. Различные ученые сделали любопытный сравнительный этюд заклинательных формул и суеверий, где обнаруживается многоразличное происхождение жителей.
Известно, что в верхнем бассейне реки Шпре существует еще этнографический остров венедов или вендов, окруженный со всех сторон немцами и усеянный внутри германскими поселениями: это единственный видимый остаток славянского мира на скате Эльбы (Лабы), лежащем на севере Исполиновых гор,—цепи, большая часть которой, как кажется, с древнейших времен была населена немецким племенем. Но в бассейне Одера славяне держатся еще сплоченною массою или нациею, граница которой ясно очерчена различием расы и еще более различием религии, ибо славяне, исповедующие католическую веру, окружены немцами-протестантами; около 10.000 чехов образуют в бассейне Глац (Кладско) как бы этнографический полуостров Богемии, а близ восточной оконечности Силезии более пятидесяти тысяч моравов населяют отчасти округи Ратиборский и Леобшюцкий. В Силезии берега верхнего Одера до слияния его с Нейсою, в Познани берега реки Варты до Бирнбаума (Miedzychod), принадлежат к области польского языка, несмотря на все усилия—в последнее время сделавшиеся особенно энергичными—онемечить край при помощи школ, в которых употребление польского языка запрещено. В эти последние годы правительство вычеркнуло на карте польские имена большого числа деревень, и эти последние отныне именуются оффициально немецкими названиями, неизвестными самим жителям. Не говоря уже о Вильгельмсгофах и Бисмаркгофах, неожиданно появившихся в великом герцогстве Познанском, можно указать множество других примеров онемечения названий мест: так, «Каменец» переделан теперь в «Штейндорф»; «Радзеево» превратилось в «Гогензее»; «Ходзеж» перекрещено в «Познанский Кольмар», Kolmar in Posen, как бы для того, чтобы напомнить завоеванным полякам другое присоединение, сделанное на западной окраине немецкой империи. Что еще гораздо более, чем административные мероприятия, способствует доставлению немецкой речи действительного преобладания в промежуточном поясе языков,—это то, что во многих местностях польским наречием говорит только низший класс, простонародье; те же, кто получает воспитание, знакомятся с миром промышленности, торговли, даже с миром мысли чрез немцев. Крестьяне Верхней Силезии, наречие которых отличается от настоящего польского языка отсутствием зубной буквы т, всегда заменяемой шипящим звуком, не знают национальной литературы и, вследствие того, легко поддаются немецкому влиянию; однако, существующие в крае польские журналы и газеты поддерживают употребление национальной речи. Подобно тому, как это было некогда в Мекленбурге и в Померании (Поморье), многие из городов Силезии и великого герцогства Познанского онемечиваются мало-по-малу; новые люди, являющиеся заселять их,—немцы и евреи, которых статистика тоже помещает под рубрикою германцев; ни один из больших городов Познани, не исключая даже священного города Гнезно, церковной столицы Польши, резиденции архиепископа-примаса, не имеет больше половины польских жителей. Славяне, с своей стороны, держатся в деревнях, где в последнее время относительное число их даже значительно увеличилось, вследствие выселения немцев в Россию и Новый Свет. Поляки, хотя у них тоже есть колонии и журналы в Америке, например, в Чикаго, в Нью-Йорке, эмигрируют мало, и потому они продолжают составлять главную массу сельского населения. По оффициальной статистике, польское и немецкое население провинции Познань представляло следующие цифры:
| Поляков | Немцев | |||
| 1815 г. | 615.000 | или 79,4% | 160.000 | или 20.6% |
| 1858 г. | 783.000 | „ 56 „ | 620.000 | „ 41 „ |
| 1871 г. | 880.000 | „ 54,8 „ | 725.000 | „ 45,2 „ |
| 1880 г. | 937.000 | „ 55 „ | 766.400 | „ 45 „ |
| 1890 г. | 1.047.409 | „ 60,1 „ | 697.265 | „ 39.9 „ |
При этом, однако, нужно принять во внимание то обстоятельство, что оффициальные статистики, все немцы, не упускают случая порадеть, в своих исчислениях, расе политически-господствующей: этой расе они неизменно приписывают наибольшую часть жителей страны, которые говорят в одно и то же время двумя языками; в прежнее время они считали в числе немцев всех, кто только понимал немецкую речь, даже тех, фамилия которых имела немецкое происхождение или звучала на немецкий лад, хотя бы роды, к которым принадлежали носившие подобные фамилии, уже многие столетия были чисто польскими. Способные и очень искусные в механических работах, поляки, вообще говоря, беднее немцев, и между ними преимущественно вербуются чернорабочие и фабричные мастеровые; однако, около половины крупных имений находится еще в руках польского дворянства. Если Верхнюю Силезию немцы часто называют «прусскою Сибирью», то это не только за её суровый континентальный климат, но, может быть, еще более по причине её польского населения, к которому чужеземные завоеватели края считают себя в праве относиться с нескрываемым презрением.
Наименее цивилизованными между поляками, принадлежащими к прусскому государству, считаются те, которые известны под именем мазовян или мазуров. Они населяют озерную область на востоке от Вислы и ведут по большей части довольно убогую жизнь. Лет пятьдесят тому назад их деревянные избы были обыкновенно крыты соломою, а пазы между бревнами затыкались мхом. В некоторых местах хижины были наполовину вырыты в скате косогора; обитатели этих местностей вели еще жизнь троглодитов. Пища мазуров состоит главным образом из картофеля, и, к сожалению, нужно прибавить, что огромные количества этих клубней употребляются, кроме того, на фабрикацию водки, и что пьянство составляет общий порок. Даже грудных детей усыпляют при помощи глотка вина, и одним из главных лакомств стола считается вареная смесь меда с водкою—так называемый «крупник», который едят вместо варенья.
Рядом с мазурами, на берегах большого озера Спирдинг и в соседстве с дремучим Иоганнисбургским лесом, который соединяется, по ту сторону границы Царства Польского, с лесами Остроленки, живут русские, покинувшие отечество из-за религиозных причин. Это раскольники секты филиппонов или последователей епископа Филиппа, те самые, которых мы уже встречали в Румынии под именем липованов, сокращенным из «Филиппованы»; их называли также «убийцами» и «поджигателями», хотя это люди очень мирные и даже считающие преступлением ношение оружия. Польша была их первым убежищем; но когда и здесь их стали преследовать, они просили приюта у Пруссии, которая охотно приняла их, имея в виду заселить этими эмигрантами и привести в культурное состояние пустынные местности зенсбургского округа. Филиппоны действительно превратили в цветущие поля прогалины в отведенных им лесах и основали прекрасные, богатые села, тогда как прусское правительство, оставаясь глухо ко всем их жалобам, насильно навязало им воинскую повинность, от которой они во все времена энергически отказывались.
Из двух берегов Нижней Вислы—левый или западный может быть назван по преимуществу славянским, с этнографической точки зрения. На этом берегу находятся земли наименее плодородные; оттого они и были оставлены туземным жителям, полякам, тогда как более плодоносные равнины правого или восточного берега, и особенно аллювиальная страна, завоеванная между Вислою и Ногатом, сделались большею частию земледельческою добычею немецких колонистов, потомки которых и доныне занимают эту область. Вердеранцы, жители вердеров или островов Вислы(по-польски жулавы), суть по большей части правнуки фламандцев и саксонцев, которые были призваны в край тевтонскими рыцарями для осушения их болот: глядя на этих поселян с белокурыми волосами и голубыми глазами, с широкими плечами, с тяжеловатою походкою, с медлительным, но решительным жестом, подумаешь, что видишь перед собою чистых голландцев; и точно—многие из них прямые потомки меннонитов, которые переселились сюда из Нидерландов во второй половине шестнадцатого столетия, чтобы уйти от религиозных преследований испанского правительства. Другие элементы населения рассматриваемой области состоят, правда, из славян, но земля не принадлежит им. Массы польских крепостных, бежавших от своих господ, искали убежища на низовьях Вислы, где неволя была не так тяжела; потомки этих невольных переселенцев и теперь еще доставляют почти весь контингент сельскохозяйственных работников.
Вследствие перехода аллювиальных земель низовья Вислы в руки немцев, поляки Западной Пруссии были, так сказать, отрезаны от туловища польской нации. Они сгруппировались на западе от этой реки в большой этнографический остров, окруженный многочисленными островками, и посредством узкого пояса земли, который продолжается на юг, к Бромбергу, они примыкают к странам, где их соотечественники живут сплоченными массами. На востоке от нижнего течения Вислы мы не встречаем более поляков; пространство прямоугольной формы, которое тянется от низменных земель Мариенбурга и Эльбинга до дельты Мемеля, между морем и Мазовецким плоскогорьем, сплошь населено жителями, говорящими немецким языком. Здесь рыцари тевтонского ордена основали свое государство: истребляя туземцев-язычников, призывая колонистов, своих единоплеменников, для постройки городов и обработки завоеванных земель, они скоро сделали из этой страны область не менее немецкую, чем Тюрингия или Саксония, и когда, после двухсот сорокалетнего господства, они принуждены были покориться польским королям, сохранив за собою только часть территории на правах вассалов, славянское государство, присоединившее их к своим владениям, ни разу не помышляло о том, чтобы навязывать населению этих областей польский язык. На юге от Курляндского залива (Курише-гаф), епархия Вармия (по-немецки Эрмеланд), епископы которой пользовались королевскими прерогативами, даже правом чеканить монету и произносить смертные приговоры, не переставала быть германскою областью; только мазовяне, населяющие озерное плато, немного распространились по равнине. В собственно так называемой Восточной Пруссии, оставленной в виде польского лена рыцарям тевтонского ордена, поляки занимают узкую полосу земли. После войн и моровых язв, немцы были призываемы с запада, чтобы пополнить убыль народа, произведенную этими бедствиями, и таким образом поддерживалось, между поляками и литвинами, чисто германское население края. По странной случайности, оказывается, что в некоторых округах этой провинции немецкие колонисты были на столько многочисленны, что даже образовали этнографические острова верхне-немецкого диалекта, среди страны, принадлежащей к области нижне-немецкого наречия. Один из таких островов, населенный отчасти потомками протестантов, пришедших сюда из Зальцбурга в 1732 году, находится на самой границе Мазовецкой области. В другом округе, прилегающем к Висле, с первого взгляда узнаешь потомков швабов, призванных Фридрихом Великим; черные волосы, темные глаза, довольно стройный стан отличают их от других жителей этого округа; они предприимчивее, энергичнее, живее, но вместе с тем и суевернее, чем их соседи.
Северная часть польской области, ограниченная на востоке дельтою Вислы, известна под именем Кашубии, которое она получила от живущих в ней славян. Несмотря на то, кашубы, которых можно издали узнать по их длиннополым кафтанам, в наши дни менее многочисленны в своей собственной земле, чем поляки и немцы. Может быть, по происхождению, прежняя господствующая раса и теперь еще является первою, но кашубы утратили свою независимость уже давно, около девятисот лет тому назад, и в этот длинный период времени все те из них, которым посчастливилось обогатиться, перешли в ряды сменивших их новых властителей края—немцев или поляков. В трех городах Кашубии, Нейштадте (по-польски Nowemiasto), Пуциге или Пуцке и Бытове, совсем нет кашубов; они живут в убогих деревушках и поселках. Кашубское население составляет не более четверти общего числа жителей, а кашубов, которые еще говорят языком своих предков, едва насчитается дюжина тысяч: старое кашубское наречие, не имеющее литературы, должно было уступить давлению господствующих языков, польского и немецкого. Со стороны запада, в Померании, мало-по малу распространяется немецкий язык, вместе с распространением протестантизма: со стороны востока, в провинции Западной Пруссии, перевес одерживает польская речь, что, впрочем, ей легко, так как кашубский язык есть лишь наречие польского. В 1867 году население Кашубии, состоявшее из 150.000 душ, представляло следующее распределение по расам:
Немцы 54 процент.; поляки 18 процент., кашубы 28 процент.; кашубы, говорящие своим языком, 8 процен.
Однако, даже в округах, совершенно онемеченных, местный язык сохранил немалое число славянских слов, которые, по выражению одного писателя, можно сравнить с «эрратическими камнями, перенесенными в местности, состоящие из других, чуждых им формаций». Впрочем, эти «эрратическия» слова встречаются и в самом сердце Германии, в Тюрингии, и даже в Нюрнберге. Интересно, что кашубы, хотя очень бедные, по большей части почти все потомственные дворяне и очень гордятся своим дворянством, как-бы ни было бедственно их материальное положение. По существующему у них обычаю, старший член семейства наследует все имущество, а остальные дети должны довольствоваться кое-какими крохами родительского достояния. Следствием такого порядка вещей является то, что благородная каста имеет много представителей между служанками, работниками и пастухами. Впрочем, нужно заметить, что здесь на прислугу, в большей части крестьянских домов, смотрят скорее как на гостей или членов семьи, чем как на подчиненных; ничего не делается в доме и хозяйстве без того, чтобы не посоветоваться с ними. Что касается боруссов или пруссов, народа арийского, но не германского, имя которого перешло на нацию, господствующую ныне в Германии и представляющую ее политически, то они не существуют более как отдельный народ, и язык их совершенно исчез с начала восемнадцатого столетия. Но язык родственного им народа, литовцев, или литвинов, живет еще в крайнем углу германской территории, на обоих берегах Мемеля и между курами, в северной части Курляндской косы (Курише-Нерунг). После истребления прусских и литовских туземцев рыцарями тевтонского ордена, немецкие поселенцы могли без труда доставить преобладание своему языку. Теперь почти все население в нижнем бассейне Прегеля уже онемечилось; точно также оно германизовалось и в городах Мемельского бассейна, и литовская речь держится там с некоторою силою сопротивления только в деревнях. Только на разстоянии 66 километров от Кенигсберга (Кролевца), в восточном направлении, мы находим первый островок литовского языка; далее за этою маленькою группою представители древнего населения рассеяны в виде многочисленных островов, затем, в соседстве с границей, опираясь на своих братьев, живущих в пределах Российской империи, они являются уже в виде сплоченной нации. Известно, что литовский язык из всех арийских диалектов наиболее приближается к первоначальному языку расы, и что он обладает древними песнями, имеющими высокое поэтическое достоинство. Большинство литвинов отличается темноруссыми волосами.
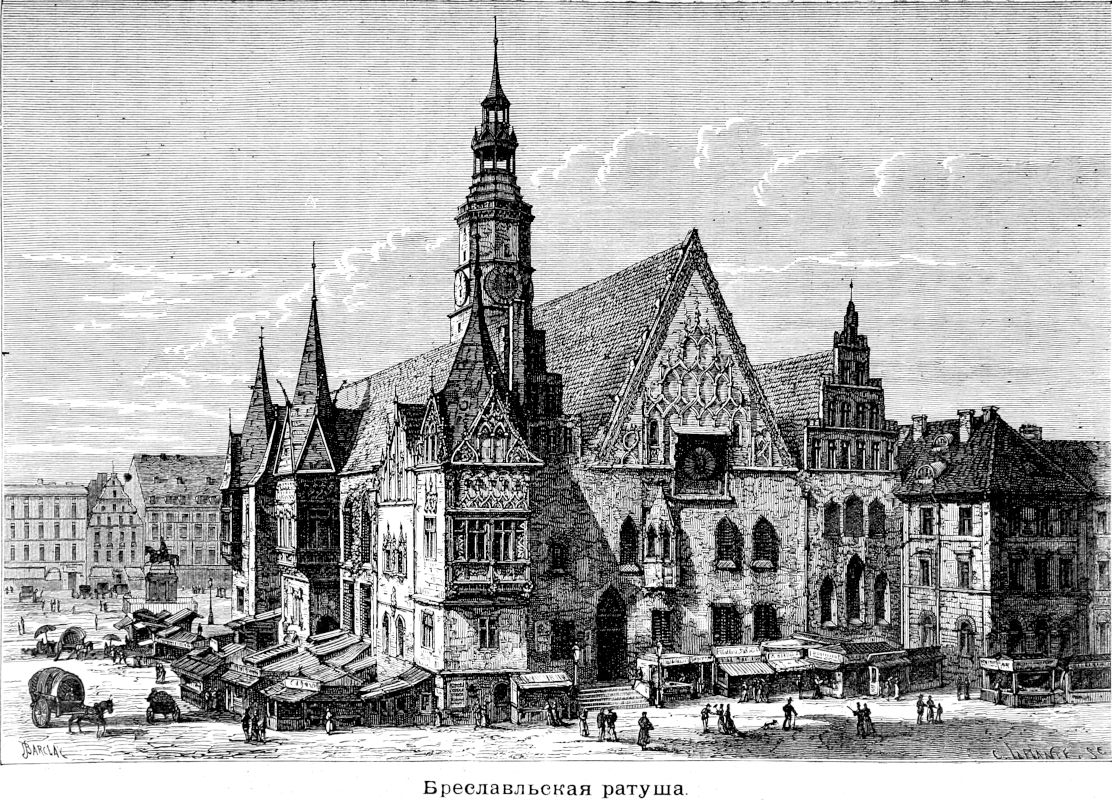
Народонаселение восточных провинций Прусского королевства (Бранденбурга, Померании, Старой Пруссии, великого герцогства Познанского, Силезии), по языкам было распределено в 1875 году следующим образом:
Немецкого языка 10.295.000 жит. Славянских языков: вендов 86.000 жит.; чехов и моравов 64.000 жит.; поляков 2.675.000 жит.; кашубов 12.000 жит., итого славянских языков—2.975.000 жит. Литовского языка 150.000 жит., а всего—13.420.000 жит.
Между жителями немецкого языка, населяющими Пруссию, есть много таких, предки которых были иноплеменники. Когда, «по счастливому решению судьбы», говорит один немецкий писатель, Людовику XIV заблагоразсудилось отменить Нантский эдикт, бежавшие из Франции протестанты явились массами просить убежища у протестантских государей Северной Германии. Благодаря этим выходцам, промышленность, торговля, умственное движение получили новый толчек и сделали быстрые успехи, но тем самым центр германской цивилизации переместился: с этого времени он был уже не в Швабии, как в эпоху возрождения наук и искусств, а далее, на востоке, в Пруссии. Великий курфюрст Фридрих-Вильгельм понял лучше, чем другие немецкие князья, как необходимо восстановить материальное благосостояние государства, которое было разорено войною и частию превратилось в безлюдную пустыню. Он начал с того, что пригласил голландских колонистов и сделал их наставниками крестьян Бранденбурга в деле разведения скота, обработки земель, осушения болот; затем он в широкой мере воспользовался тою статьею вестфальского мирного трактата, которая гласила, что «каждый государь имеет право преобразовывать религию своих подданных, и что каждый гражданин, если он не желает следовать религии государя, может выселиться из государства». Явились толпы просителей, искавших убежища в равнинах бесплодного Бранденбурга. Властитель этой страны был кальвинист среди лютеранских подданных; поэтому он мог принимать к себе в одно и то-же время и лютеран, гонимых кальвинистами, и кальвинистов, гонимых лютеранами. Преследуемые за веру эмигранты пришли из Богемии, с Альпов, из Зальцкаммергута, из Тироля, из Швейцарии; особенно много пришло их из Франции. Специальным эдиктом, копии которого были разосланы во все заинтересованные общины, Фридрих-Вильгельм обещал французским выходцам выдачу денег на проезд, безвозмездную уступку земель и домов, освобождение от податей и налогов, дарование права гражданства, и, когда изгнанники прибыли, он сдержал свои обещания: гостеприимство было полное. Число французских эмигрантов, переселившихся в то время в Бранденбург, определяют приблизительно в двадцать тысяч душ, что составляет десятую часть тогдашнего населения этой страны; в Берлине треть жителей, около шести тысяч человек, были бежавшие из Франции гугеноты; они заняли даже особые кварталы, между прочим, прежнюю песчаную пустыню, которую они, тоскуя по своей прекрасной родине, прозвали «землею моавитян»: берлинский квартал Моабит доныне сохранил это название.
Дух партии, с свойственным ему пороком искажения истины и преувеличения фактов, пытался то низводить французскую колонизацию, о которой идет речь, до простого случая, не имевшего серьезного значения, то придавать ей капитальную важность в истории Пруссии, хотя, с точки зрения расы или национальности, эмиграция французов, которые сами мало-по-малу изменились от действия новой среды, куда они вступили, не может быть рассматриваема как явление, оказавшее прочное влияние; однако, прибытие большого числа людей энергических и трудолюбивых, которые почти все по своим знаниям или искусству рук стояли выше окружавшего их населения, было, без сомнения, значительным событием, имевшим весьма важные социальные и политические последствия для Бранденбурга. Эти французские выходцы основали или возобновили в Пруссии шерстяную промышленность, кожевенное производство, часовое мастерство, фабрикацию стеклянных изделий, металлургию; ввели шелковую промышленность, искусство печатания или набивки материй, шляпочное и обойное производства. Эти же эмигранты дали первый толчек заграничной торговле; наконец, многие из них сразу заняли места в рядах высшего класса общества, как медики, инженеры, архитекторы, писатели, ученые. Пропорционально природным жителям, эти пришельцы внесли гораздо больше, чем соответствующую их числу долю в умственное движение своего нового отечества. Впрочем, иначе и быть не могло: люди, у которых достало силы воли покинуть родину и вновь устраивать свою судьбу на чужбине, чтобы остаться верными голосу совести, стояли, конечно, по своим нравственным качествам, вообще говоря, выше туземного населения, которое могло спокойно плыть по течению жизни.
Протестантская эмиграция продолжалась и в царствование двух королей, следовавших за великим курфюрстом: в эту эпоху она состояла главным образом из австрийских выходцев, которые переселялись в Пруссию, способствуя косвенно тем победам, которые впоследствии Фридрих II одержал над имперскими войсками. Зальцбургские и чешские протестанты приходили целыми партиями; первые, посланные в провинцию Пруссию и в прусскую Литву, ввели там некоторые новые отрасли промышленности и лучшие способы земледелия; вторые, расселенные по разным областям королевства, оказали в местах своего поселения подобные же услуги, а в самом Берлине они основали новый квартал, на продолжении улицы Вильгельмштрассе, в котором и теперь живут их потомки. В 1740 году, при восшествии на престол Фридриха II, 600.000 подданных прусского короля, из 2.400.000 жителей, которых он насчитывал в своих владениях, были эмигранты или дети эмигрантов; сам Фридрих поселил в своем государстве еще 300.000 выходцев; в 1786 году прусское население заключало в своей среде около трети иностранцев или их потомков. Из этого видно, какие сокровища силы накопились таким образом к пользе этой завоевательной монархии. И в наши дни влияние этих иностранных семейств еще значительно; но нужно заметить, что в огромном большинстве они хвастают своим немецким патриотизмом; некоторые из них даже сочли совместным с своим достоинством отречься от имени, завещанного им отцами.
Одна раса, не принадлежащая к арийской семье народов, и которая еще недавно подвергалась преследованию, приобрела в это последнее время постоянно возрастающее влияние на судьбы Северной Германии: мы говорим о еврейском племени. Роль, которую там играют ныне евреи, гораздо значительнее, чем можно бы было предполагать по их относительной малочисленности; сплоченными группами они живут только в Познани да в больших городах. Во всех странах Европы смышленость евреев, их разнообразные способности, их уменье вести дела, их дух солидарности, дают семитической расе социальную роль пропорционально более высокую, чем роль арийцев; но нигде они не отличаются такою деятельностью, как в Пруссии. Не говоря уже о том, что большая часть немецких банкиров и капиталистов—евреи, представители этого племени занимают одно из самых видных мест даже в области наук, искусств и литературы. Большинство актеров принадлежит к их расе; кроме того, они насчитывают в своей среде много музыкантов и поэтов; наконец, и журналистика, по крайней мере весьма значительная часть её, находится в их руках. В берлинской прессе подвизаются преимущественно публицисты еврейского происхождения, берущие на себя задачу быть представителями и руководителями мнений различных партий. Прибавим кстати, что немецкие евреи только со второй половины прошлого столетия получили фамилии. Мера, которую приняла в этом отношении императрица Мария Терезия, и примеру которой вскоре последовали все другие государства Германии, предоставляла им на выбор три категории родовых прозвищ: приятные фамилии, составленные из названия цветов и деревьев и продававшиеся фиском по очень высокой цене; фамилии из имен городов, менее дорогия, и, наконец, названия зверей, которые можно было брать даром.
Население очень неравномерно распределено в обширной равнине Северной Германии; но в южной её полосе, на границах Моравии, Богемии, Саксонии, Тюрингии, жители группируются в сравнительно наибольшем числе, привлекаемые разработкою минеральных богатств и мануфактурною промышленностью.
Одна из этих густо населенных областей есть прусская провинция, составлявшая прежде часть Саксонии и орошаемая рекою Заалою. Эта река, вскоре по выходе из пределов Саксен-Веймара и чересполосной территории Саксен-Мейнингена, проходит мимо курорта Кёзен, затем подле знаменитого института Шульпфорта, в котором получили воспитание многие немецкия знаменитости: Фихте, Новаллис, Клопшток, Ранке, Митчерлих, и пересекает поля промышленного Наумбурга, родины Лепсиуса, тоже воспитанника шульпфортского училища. Усиленная рекою Унштурт, на одном из притоков которой находится, в большом расстоянии к северо-западу, горнозаводский город Зангергаузен, тоже прусский, Заала течет у основания холмов, покрытых виноградниками, продукт которых употребляют на фабрикацию «шампанскаго», потом она перерезывает город Вейсенфельс, где мануфактуры не менее многочисленны, чем в Наумбурге и в старинном славянском городе Цейце, лежащем на юго-востоке, на берегах живописной реки Эльстер. Много кровопролитных сражений происходило в этой области, которая, благодаря проходящим через нее дорогам, направляющимся из Саксонии и Пруссии к горным дефилеям Тюрингии, имеет весьма важное значение с стратегической точки зрения. Так, на северо-западе находим Росбах, где Фридрих II, король прусский, разбил в 1757 году французов, под начальством маршала Субиз; на северо-востоке, город Люцен напоминает битву, выигранную в 1632 г. Густавом-Адольфом, который поплатился жизнью за свое торжество, и победу, одержанную Наполеоном в 1813 году; наконец, на севере, при городе Мерзебурге, из зданий которого замечателен старинный собор с четырьмя башнями, император Генрих Птицелов нанес поражение мадьярам, в 933 году. В одиннадцатом столетии Мерзебург был одною из любимых резиденций императоров Германии; его ярмарки, привлекавшие массу народа, имели в центральной Европе такое важное значение, какое впоследствии получили ярмарки Лейпцига. В окрестностях Мерзебурга разработываются большие салины.
Древний город Галле, лежащий ниже на берегу реки Заалы, тоже обязан своим основанием, как и самым названием, соляным источникам: его солевары, или «Halloren», которым одни приписывают славянское происхождение, но которых большинство ученых считают потомками галлов, до сих пор сохранили кое-какие остатки своих старинных нравов и свой корпоративный дух. Солеварни этого города дают значительное количество соли (средняя годовая добыча около 10.000 тонн). В конце семнадцатого столетия Галле, «соляной город», приобрел новую важность, как университетский город; его высшая школа, к которой в 1817 г. присоединен был знаменитый Виттенбергский университет, и теперь еще занимает видное место в ряду германских университетов; студенты, слушающие в ней лекции, имеют в то же время возможность, благодаря близкому соседству Лейпцига, принимать участие в умственном движении этой второй саксонской столицы. В 1892-93 учебном году в Галльском университете было 128 профессоров и доцентов и 1.575 студентов; библиотека его содержала около 180.000 томов. В Галле есть, кроме того, гимназия, пользующаяся большою известностью, и разные другие учебные заведения, а также приюты и сиротские дома, основанные в 1698 году знаменитым Франке и составляющие теперь, с принадлежащими к ним заведениями и постройками, особый город. Наконец, здесь существуют различные ученые общества, между прочим, географическое общество (Verein fur Erdkunde), издающее бюллетени своих трудов. Внутренность Галле, с его старинными церквами, его отдельно стоящею «красною башнею», со статуею Генделя, знаменитейшего из галльских уроженцев, представляет оригинальное зрелище; окраины, или внешние кварталы, имеют, напротив, вульгарный вид, свойственный всем фабричным городам. До развития большой фабричной промышленности Галле рос очень медленно и даже прошел через период упадка и нищеты: около половины нынешнего столетия в нем насчитывалось 15.000 бедных на 30.000 жителей. Существующие в окрестностях копи каменного и бурого угля (дающие ежегодно свыше 2.500.000 тонн минеральнаго топлива), и в особенности счастливое положение города при судоходной реке, в точке пересечения многочисленных дорог и рельсовых путей, способствовали поднятию промышленной деятельности Галле, которая принимает все более и более обширные размеры: его фабрики вагонов принадлежат к числу важнейших заведений этого рода во всей Германии; кроме того, он производит парафин, деготь, стеариновые свечи, и в округе его насчитывается около сорока больших свеклосахарных заводов.
К северо-западу от Галле, река Заала принимает в себя воды, вытекающие из Соляного озера и из долины, где лежит горнозаводский город Эйслебен, место рождения Лютера; затем извивается в северном направлении, пересекая территорию княжества Ангальтского. Она проходит мимо Бернбурга, одного из главных городов этого княжества, после чего, миновав прусский городок Кальбе, соединяется с Эльбою. На востоке от Заалы, в нижней части её течения, встречаем город Кётен, прежнюю резиденцию ангальтских князей, где нашел убежище известный Ганеман, основатель гомеопатической медицины, преследуемый своими собратами по профессии. К западу от той же реки находим несколько промышленных и горнозаводских городов, из которых самые важные—Ашерслебен и Гетштедт, а в равнинах, расстилающихся у северного основания Гарца, рассеяны многие старинные города, приобревшие славу в истории Германии. Там мы встречаем, между прочим, древний город Вернигероде, с замком, горделиво возвышающимся на выступе горы, и над которым господствуют другие, более высокие, вершины Гарца. Там же находится город Гальберштадт, где часто собирались сеймы Германской империи, и который впоследствии сделался литературным центром, так что его называли «маленькими Афинами». Это настоящий средневековой город, построенный афмитеатром, по скату холма; старинные башни, красивые дома с резными панелями, церковь в романском стиле, готический собор, возвышающийся на главной площади,—все это делает Гальберштадт одним из любопытнейших городов центральной Германии. На юг от Гальберштадта, ближе к крутизнам Гарца, лежит Кведлинбург, тоже сохранивший вид средневекового города: основанный в 929 году Генрихом Птицеловом, он был любимым местопребыванием германских императоров из Саксонского дома и принадлежал к Ганзейскому союзу до 1477 г. На западной его стороне возвышается древний замок с базиликою, бывший резиденциею настоятельниц Кведдинбургского монастыря, которые носили титул княгинь империи, зависели непосредственно от папы и заседали на сеймах рядом с епископами. Кведлинбург, промышленный и торговый город, славится также своим садоводством и огородничеством. Сады в окрестностях его занимают пространство около 2.200 гектаров и возделываются многими сотнями огородников, которые снабжают цветами и семенами значительную часть Германии. Кроме того, Кведлинбург замечателен как родина знаменитого немецкого поэта Клопштока; в этом же городе родился, в 1779 году, Карл Риттер, один из преобразователей науки и автор величайшаго географическаго памятника новых времен. В городском парке, раскинутом у подошвы холма, на котором стоит замок, воздвигнуты монументы Риттеру и Клопштоку.
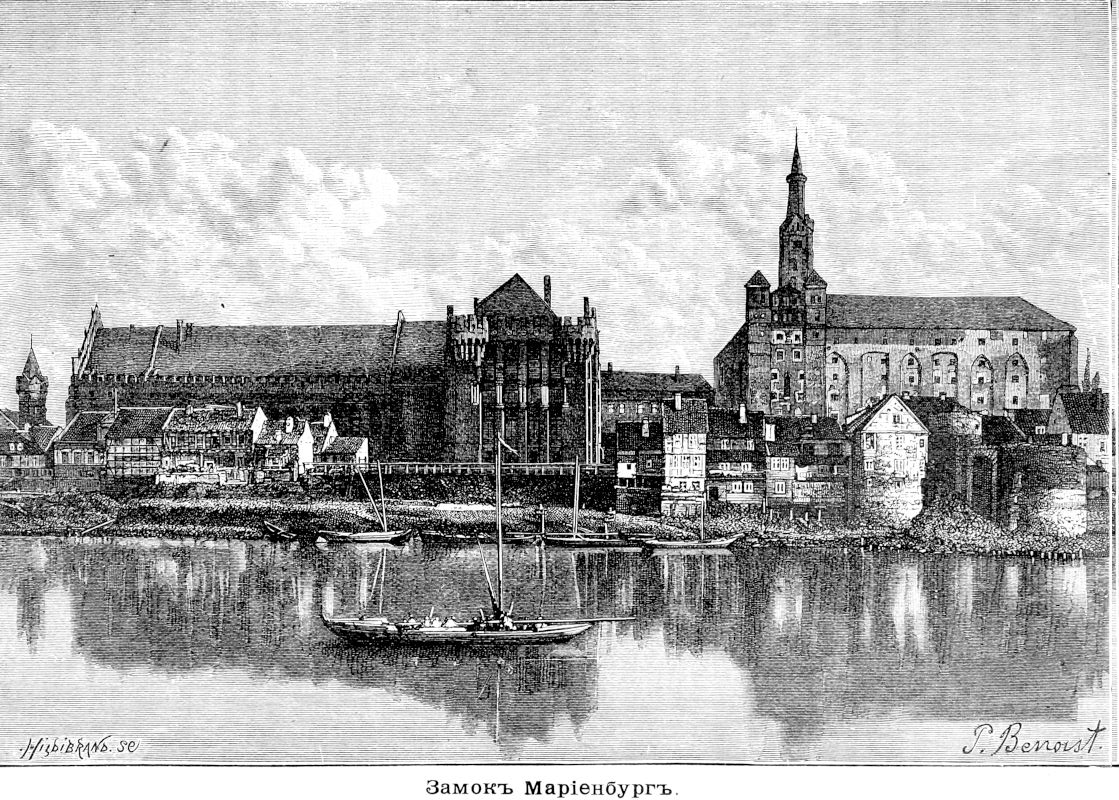
Ниже Гальберштадта, река Боде, вытекающая с Гарца, спускается на севере к Ошерслебену; затем, повернув на восток и далее на юго-восток, проходит через Штасфутр, который еще недавно был безвестною деревнею, а теперь сделался значительным фабричным городом, благодаря своим соляным копям и залежам других минеральных веществ морского происхождения. Штасфуртская каменная соль, которую буровая машина встретила на глубине 300 слишком метров под поверхностью почвы, залегает пластами неизвестной толщины, но исследованными уже до глубины 630 и более метров от поверхности; соль эта замечательной чистоты—содержание в ней хлористого натрия составляет 98 процентов; несмотря на то, добывание её имеет ныне лишь второстепенное значение: промышленники, пользуясь новейшими открытиями химии, разработывают с большею выгодою другие соли, образовавшиеся вследствие испарения морской воды, которые отложились поверх каменной соли в виде слоя, толщиною от 50 до 60 метров. Все так называемые «негодныя» верхния соли, которые рудокопы прежде отбрасывали, теперь идут на приготовление поташа, селитры, квасцов и многих других химических веществ, употребляемых в сотнях и тысячах производств разных отраслей промышленности. Первый завод химических продуктов был построен в Штасфурте в 1861 году, а в настоящее время нигде в Германии не встретишь такого большого числа фабрик этого рода, как в двух соседних городах: Штасфурте и Леопольдсгалле, из которых последний принадлежит к княжеству Ангальтскому. В 1880 году добыча различных солей в этих городах составляла 1.028.400 тонн.
Часть прусской территории, сопредельная с Лейпцигом и его предместьями, тоже очень густо населена и очень богата промышленными заведениями. Город Делич прославился своим ссудо-сберегательным банком, который послужил образцом для многих тысяч других учреждений этого рода, основанных почти во всех городах Германии, к большой выгоде мелкой буржуазии. Далее, на востоке, на острове реки Мульды, лежит город Эйленбург, имеющий бумагопрядильни, фабрики материй и другие мануфактуры; другой промышленный город, Биттерфельд, имеет в своем округе каменноугольные копи, откуда получают топливо все окрестные фабрики и заводы. Дессау, главный и самый многолюдный город княжества Ангальт, как столица и резиденция княжеского двора, есть один из красивейших городов этой страны; замок его содержит один из лучших музеев Германии и различные коллекции, а в соседстве раскинут прекрасный парк Верлиц, с столетними дубами, с озером и текучими водами. Еврейская колония, довольно многочисленная в Дессау, дала миру Мендельсона. Этот город играл видную роль в истории немецкой педагогии: известный Базедов основал здесь, в 1774 году, свой Philanthropium, одно из первых воспитательных заведений, где сделана была попытка воспитывать молодых людей посредством свободы и самоуважения, без применения обычных приемов и способов господствовавшей педагогической рутины.
По выходе из королевства Саксонии и по вступлении в пределы Пруссии, Эльба проходит прежде всего перед крепостью Торгау, защищенною с западной и южной сторон довольно обширным озером. Страна, по которой протекает эта река, мало плодородна, и города встречаются там гораздо реже, чем в долине р. Заалы; но один из них, Виттенберг, занимает на Эльбе одно из тех местоположений, где, в силу географических условий, необходимо должен был возникнуть город: он находится в месте естественного перехода через реку, между Лейпцигом и Берлином. Основанный, вероятно, колонистами, пришедшими из Фландрии, Виттенберг был резиденциею саксонских курфюрстов и укрепленным пунктом; но всего более он прославился своим университетом, который, как сказано выше, в 1817 году был соединен с Галльским университетом. В Виттенберге монах Лютер прибил к дверям одной церкви свои знаменитые тезисы против индульгенций; там же он сжег всенародно на костре папскую буллу, осуждавшую его сочинения, как еретические. Статуи, надписи и гробницы Лютера и Меланхтона напоминают потомкам об этих событиях церковной истории.
Недалеко от Дессау, на левом берегу реки, ниже впадения в нее Мульды, встречаем город Акен. Ниже мыса, образуемого слиянием Эльбы и Заалы, лежит город Барби, а на востоке, внутри страны, находится старая княжеская резиденция Цербст (Ангальт), славящаяся своими пивоваренными заводами. Шенебек, следующий за Барби город на западном берегу Эльбы, замечателен в особенности своими салинами, которые принадлежат к числу важнейших в Германии (производят ежегодно свыше 50.000 тонн соли), а также минеральными водами и фабриками химических продуктов. Здесь мы уже вступаем в промышленный округ Магдебурга.
Этот большой город, лежащий ниже всех значительных притоков Эльбы, на прямом пути из Кёльна в Берлин и Данциг, естественно должен был сделаться очень оживленным местом проезда путешественников и провоза товаров; но самые эти выгоды географического положения были для Магдебурга причиною великих бедствий, давая ему важное значение, как стратегическому пункту. Во время Тридцатилетней войны, в 1631 году, свирепый Тилли взял его приступом и почти весь истребил огнем; двери большей части церквей, куда укрылись жители, были, по его приказанию, заколочены гвоздями, и тридцать тысяч несчастных погибли в пламени; после пожара от города осталось только сто тридцать семь домов, кафедральный собор и еще одна церковь. Собор—прекрасное здание, принадлежащее, по характеру архитектуры, к двум эпохам: эпохе готического стиля и эпохе Возрождения,—вполне реставрирован; из достопримечательностей его назовем гробницу одного архиепископа, изваянную известным скульптором Фишером, и надгробный памятник императора Оттона Великого, которому город, кроме того, воздвиг в десятом столетии монумент на площади Старого рынка. Магдебург—центральная крепость Германской империи, и верки его в последнее время до того усилены, что образуют теперь сплошной укрепленный лагерь вокруг города; внешние кварталы и фабричные форштадты, окружающие Магдебург, принуждены были расположиться на значительном расстоянии от городских укреплений. «Новый город», построенный на севере от крепости, сделался уже «Старым новым городом», а далее, с той же стороны, возник новый «Новый город», который мало-по-малу разростается, захватывая прилегающие поля. Магдебург служит складочным местом для зерновых хлебов, сахарной свеклы и других земледельческих продуктов, производимых плодородными полями равнины Берде; в то же время он главный рынок Германии по торговле сахаром; окрестности его усеяны свеклосахарными и рафинадными заводами, прядильными фабриками, мастерскими машин и металлургическими заводами. Магдебург, прежде всего город промышленности и торговли, гордится, однако, тем, что в стенах его родился Отто Герике, изобретатель воздушного насоса. На городском кладбище, на одном из надгробных памятников вырезано имя Карно, умершего здесь в изгнании, в 1823 году.
В северной части провинции Саксонии главный город—Бург, славящийся своими суконными фабриками, которые основаны французскими выходцами, покинувшими родину, вследствие религиозных гонений. Нейгальденслебен, Гарделеген, Зальцведель, расположенные на небольших притоках или подпритоках Эльбы, тоже замечательны, как фабричные города. Стендаль, население которого в значительной части славянского происхождения, был некогда императорскою резиденциею и сохранил от этой эпохи многие здания, светские и церковные, между прочим, круглую башню и укрепленные ворота. Этот город, родина Винкельмана, есть главный административный пункт области, известной под именем Альтмарка, или «Старой мархии», части Бранденбурга, лежащей на западе от Эльбы.
Важнейшие города прусской провинции Саксонии (за исключением Эрфуртского округа) и княжества Ангальт, с числом жителей в тысячах, по переписи 1 декабря 1890 года (в скобках показана цифра населения в июле 1895 года).
Пруссия: Магдебург, с Буккау и Нейштадтом 202 (241); Галле 101 (119); Гальберштадт 37 (39); Ашерслебен 23 (24); Кведлинбург 21 (22); Вейсенфельс 24 (26); Цейц 22 (23); Наумбург 20 (20); Бург 19 (19); Эйслебен 25 (25); Мерзебург 18 (18); Стендаль 18 (21); Виттенберг 14; Штасфурт 19 (22); Шенебек 14; Торгау 11; Делич 9; Эйленбург 12; Зангергаузен 11; Зальцведель (10); Ошерслебен (12).
Ангальт: Дессау (с городским округом) 35 (41); Бернбург 28 (34); Кётен 18(19): Цербст 16 (17).
Шпре, река прусская по преимуществу, принимает в себя воды обширного бассейна. Усиленная в Саксонии и Силезии всеми ручейками Верхней Лузации, она вступает в пределы Бранденбурга через промышленный городок Шпремберг, затем пересекает Котбус, торговый центр, достигший в последнее время весьма значительной степени благосостояния, благодаря соединению в нем восьми железнодорожных линий: он имеет большие суконные мануфактуры, произведения которых находят сбыт по всей Германии и даже за границею, в Швейцарии и Италии, также мебельные фабрики, копи бурого угля, деятельно разрабатываемые, а рыболовы его отправляют в Берлин тысячи карпов, ловимых в богатых рыбою озерах окрестной местности. Большая часть городов и местечек этого края, в особенности местность Финстервальде, на западе, в бассейне реки Малой Эльстер, тоже занимаются преимущественно фабрикациею сукон.
Достигнув области Шпревальд, река Шпре разветвляется на бесчисленное множество рукавов и каналов, затем близ Люббена опять соединяется в одну реку, далее течет из озера в озеро, при чем сначала следует по направлению к Одеру, а потом вдруг поворачивает на запад. В этой части своего течения она омывает только один город, с населением, превышающим 5.000 душ, именно Фюрстенвальде; но по мере приближения к Берлину, на ней все чаще и чаще встречаются деревни и местечки. Многочисленные отели, рестораны, увеселительные места, которыми усеяны берега реки, возвещают близкое соседство большего города.
Берлин, столица Пруссии и Германии, по числу жителей уже превосходит Вену и уступает в Европе только двум городам—Лондону и Парижу (сравнительное население Вены и Берлина в июле 1895 г.: Вена—1.496.000, Берлин—1.820.000 жителей).
В 1648 году, в конце Тридцатилетней войны, Берлин имел всего только 6.000 жителей; теперь же это один из первых городов мира, и важность его растет с каждым днем; но причины его изумительного возвышения не бросаются прямо в глаза, как это можно сказать, например, о Константинополе, Александрии, Нью-Йорке. Напротив, по общепринятому мнению, которое, так сказать, вошло в пословицу, Берлин занимает местоположение, указанное случаем и капризом. Мнение это, однако, как нельзя более ошибочно: прусская столица не может быть названа искусственно созданным городом; напротив—это совершенно естественный продукт данной географической среды.
Конечно, на первый взгляд кажется, что «Афины на Шпре», как величают Берлин, построились в местности, настолько же лишенной естественных выгод географического положения, насколько монотонной по внешнему виду. Окружающая его равнина представляет песчаную и болотистую степь. Чахлые деревья, нагнувшиеся над грязными лужами, мокрые луга, где прыгают мириады лягушек и жаб, песчаные бугры, сероватый кустарник, на половину погребенный в подвижной почве, дороги черные от грязи, или белые от пыли, смотря по времени года, жалкия полуразвалившиеся лачуги, на крышах которых восседают аисты,—вот те невеселые пейзажи, которые видишь вокруг себя, когда приближаешься к нынешней столице Германии не по королевским дорогам, содержание которых так дорого обходится государственной казне. Природа всегда имеет известную красу и прелесть, даже в самых монотонных и печальных местностях; но окрестности Берлина, которые вдобавок обезображены всякими отбросами, извергаемыми большими городами, не могут выдержать самого отдаленного сравнения с окрестностями Вены, Парижа, Лондона и большей части других европейских столиц.
Следовательно, если Берлин возвысился на степень первоклассного города, то этим он обязан отнюдь не живописности или плодородию окружающей его местности. С другой стороны, он не имеет за собою тех выгод, какими пользуются города, лежащие при большой реке, или в соседстве с удобными к разработке богатыми рудниками или копями. Скопление вульгарных домов среди самой скучной и неприветливой равнины, лишенной всяких красот природы, Берлин представляет образцовый город для чиновников и приказных, тип столицы для послушных и убежденных подданных. Однако, быстрое заселение Берлина не может быть приписано ни воле деспота, ни постоянному призыву централизующей администрации. Без сомнения, эти причины тоже действовали в известной мере. Государи призывали в свою резиденцию из других мест лучших мастеров и ремесленников, учителей и ученых, и канцелярии наполнились чиновниками, наехавшими из всех частей быстро увеличившагося государства; но эта доля возрастания города, зависевшая от действия правительственной власти, незначительна в сравнении с добровольным переселением в столицу жителей провинции,—переселением, которое с каждым годом принимает все более и более обширные размеры. Если преимущества, которыми пользуется Берлин по своему географическому положению, и не бросаются в глаза с первого взгляда, то они тем не менее существуют в действительности.
Разсматриваемый с точки зрения отношений к ближайшим, непосредственно прилегающим к нему округам, Берлин, бесспорно, занимает как нельзя более выгодное местоположение. В самом деле, древнейшая часть города, называвшаяся некогда «Кёльн» или «Келлин» (Kolln, Collin—может быть, горка?), расположена на островке, образуемом двумя рукавами Шпре. Ни одно место, во всем этом крае, не было более благоприятно для того, чтобы служить безопасным и удобным местопребыванием населению, занимавшемуся преимущественно рыболовством. По обе стороны реки невысокие холмы, прерывающие прибрежный пояс болотистых местностей, давали жителям возможность воздвигать сторожевые башни и оборонительные укрепления; в то же время на двух, близко один от другого идущих, рукавах реки находились наиболее удобные места для постройки мельниц и устройства мостов и переправ. Таким образом маленький остров между двумя рукавами Шпре, напоминающий «cite» Парижа, только в меньшем виде, был, так сказать, предназначен самою природою, как место для основания деревни. Хотя имя Берлина впервые упоминается в летописях только в начале тринадцатого столетия, но, вероятно, он существовал уже с первых времен заселения края. Некоторые этимологи полагают, что самое название Берлина указывает на древнее происхождение города, ибо слово «Берлин», по их толкованию, означает «паром,—место переправы», из чего можно заключить о существовании тут с давних пор дороги; но другие ученые утверждают, не менее положительно, что истинное значение этого слова—«медленно текущая вода с тинистым дном». Наконец, по мнению Эбеля, Берлин означает «гусиное поле».
Маленький рыбацкий городок, очевидно, не мог бы рассчитывать на более счастливую долю, чем многие другие селения и местечки Северной Германии, если бы он был только легко обороняемым местом переправы; при отсутствии других естественных преимуществ, ему никогда не пришлось бы играть сколько-нибудь видной исторической роли. Но Берлин лежит почти в середине области, заключающейся между течением Эльбы и течением Одера, и, благодаря озерам и рекам, пересекающим во всех направлениях этот континентальный перешеек, он сделался необходимым складочным пунктом для земледельческих произведений и товаров между двумя названными реками. Конечно, ни Шпре, ни Гавель нельзя назвать значительною рекою, но обе они имеют одно важное преимущество, которого недостает, например, великолепной Луаре в верхней части её течения, или быстрой Дюрансе на всем её протяжении: они глубоки и судоходны. Гидрографическая система р. Шпре, даже в то время, когда она еще не была дополнена искусственною сетью водяных путей, имела большое торговое значение, и естественный центр всего этого движения находился в Берлине. С конца тринадцатого столетия этот город, бывший тогда республикою и главным местом федерации, сделался центральным пунктом всей Бранденбургской мархии или марки: здесь большею частию происходили народные собрания этой страны. Город рыбаков, судовщиков и торговцев, Берлин поставил себя тогда под покровительство св. Николая, патрона мореплавателей.
Выбранный в половине пятнадцатого века столицею государства, Берлин мало-по-малу увеличивал круг своего действия, пользуясь таким образом географическими выгодами более обширной области. Тогда обнаружился тот факт, что Берлин не только главная торговая станция между Одером и Эльбою, но что он в то же время центр тяжести между целыми бассейнами этих двух рек: оказалось, что из этого пункта всего удобнее управлять коммерческими сношениями между двумя областями. По остроумному сравнению Коля, Берлин расположил свою сеть между Эльбою и Одером, как паук, протягивающий паутину между двумя деревьями. Естественный путь от главного рынка верхнего Одера к важнейшему городу нижней Эльбы, от Бреславля к Гамбургу, проходит через Берлин и пересекается там с другою диагональю, ведущею из Лейпцига в Штеттин и Свинемюнде. Первый из этих торговых трактов следует как-раз по древней долине, которая соединяла Одер с Эльбою посредством нынешнего ложа Шпре, слишком широкого для маленькой речки, заключенной теперь в его берегах.
Занимая такое благоприятное местоположение в отношении рек Северной Германии и их бассейнов, Берлин пользуется не меньшими выгодами положения относительно двух морей, омывающих немецкие берега. Хотя прусская столица находится на одном меридиане с островом Рюгеном и с полуостровом Сканиею на Балтийском море,—она принадлежит, вместе с тем, по направлению течения Эльбы к скату Северного моря; она имеет столь же удобное сообщение с Гамбургом, главным немецким портом, лежащим при устье Эльбы, как и с Штеттином, важнейшим рынком на устьях Одера; она командует в одно и то же время прибрежьем того и другого моря, и лучше всякого другого города может управлять совокупностью коммерческих операций, совершающихся в приморских портах, от Эмдена до Кёнигсберга и Мемеля.
Употребляя сравнение, приличествующее резиденции немецкого главного штаба, Берлин можно уподобить генералу, стоящему на господствующей позиции позади своей армии и заставляющему маневрировать свои полки вправо и влево на поле сражения. На западе, на востоке, на юге, во всех частях огромной равнины, простирающейся от устьев Эмса до вод Немана, города Германии занимают, как в торговом, так в политическом и военном отношениях, точно такое же подчиненное положение по отношению к центральному городу, который надзирает и командует над ними. Его сеть каналов и железных дорог с каждым днем увеличивает его силу притяжения и расширяет сферу её действия. Толпа эмигрантов всякого рода, праздных и трудящихся, чиновных и нечиновных, богатых и бедных, людей капитала и развлечения, авантюристов и искателей наживы, неудержимо стремится в столицу на берегах Шпре. Успехи этого города в отношении увеличения населения, развития промышленности и сосредоточения богатств еще гораздо быстрее, чем были успехи самой Пруссии в деле возвышения её политического могущества: с 1833 по 1883 г. число жителей его учетверилось; правда, что и муниципальные расходы за тот же период времени увеличились в 15 раз (бюджет Берлина за 1893-94 финансовый год: 84 с половиной миллион. марок, кроме расходов по городским общественным сооружениям). Исключительные выгоды, которые Берлин представлял господствовавшею в нем свободою промыслов тем, кто был стеснен в остальной Германии ограничительными законами относительно пребывания и ремесл, имели следствием увеличение берлинского населения в пропорции, далеко превосходящей процент нормального приращения числа жителей. Оттого-то прусская столица есть один из тех городов, где пришлый элемент, то-есть жители, родившиеся вне города, имеет значительный численный перевес над местными уроженцами: в этом отношении Берлин походит на большие города Америки и Австралии. Но между этими массами эмигрантов, сколько тысяч, пришедших с надеждою нажить состояние, или счастливо устроить свою судьбу, нашли только голод и нищету! Цена на все жизненные припасы и товары возрастала с ужасающею быстротою, и часто целые населения принуждены были искать приюта за городом, в палатках, в сараях, кое-как сколоченных из досок, в старых сломанных вагонах. Плотность населения возрасла, в ущерб общественному здравию, и сады исчезли: тогда как в 1860 г. среднее число жильцов на дом было 45, в 1875 г. оно уже поднялось до 58. В 12.000 подвальных помещениях ютится около 100.000 берлинцев, смертность между которыми тоже относительно весьма значительна. Непрерывный прилив и отлив холостого люда, нищета, превратности судьбы имели следствием страшный упадок нравственности в среде столичного населения.
Внутри Берлин не представляет никаких грандиозных видов, которые хоть немного выкупали бы унылое однообразие окружающих равнин. При входе в город, Шпре—довольно широкая река, имеющая средним числом 250 метров от одного берега до другого, но, ослабленная судоходными каналами, она мало-по-малу съуживается, затем делится на два рукава, пересекающие старый город, дробится на рвы, которые прежде шли вокруг городского вала, так что в том месте, где воды реки опять вступают в общее ложе, Шпре представляет уже не более, как водосточную канаву. Почва по берегам её по большей части топкая, а местами даже состоит из мириад инфузорий, вследствие чего нужно было укреплять ее многочисленными сваями, поддерживающими строения.
Главные здания находятся в центре Берлина, в островном квартале, где был старый город, и по обе стороны прекрасной аллеи или проспекта Unter den Linden («Под Липами»), который идет от Дворцовой площади до западного парка, известного под именем Тиргартена. На квадрате, имеющем около полутора километра в стороне, сгруппированы: городская ратуша, королевский замок, арсенал, университет, академия, музеи, публичная библиотека, опера, большой театр, биржа, главные дворцы и самые красивые церкви. Некоторые из этих монументальных зданий заключают в себе художественные или исторические сокровища. Королевский замок обладает многочисленными предметами искусства. В арсенале, который преобразован в «Храм Славы», находится собрание оружия всякого рода и всех времен. Старый музей,—перистиль которого Корнелиус украсил мифологическими фресками, к сожалению, непонятными,—не может похвалиться капитальными произведениями в числе собранных в нем картин и статуй, но богатства его хорошо расположены; новый музей, содержащий различные коллекции в своих залах и галлереях, египетских, греческих, римских, скандинавских, германских, славится в особенности шестью большими фресками работы Каульбаха, изображающими всемирную историю так, как понимал ее сам художник и его покровитель Фридрих-Вильгельм IV, строитель дворца, «царственный орел Солнца, любимое детище Тофа и Сафы», как гласит одна надпись. На фресках Каульбаха Моисей открывает шествие истории, а Фридрих II замыкает его; на этом государе, судя по картине, и останавливается течение времен.
«Город интеллигенции», как немцы любят титуловать Берлин, обладает очень богатою библиотекою, которая в настоящее время содержит до 1.000.000 томов и около 20.000 рукописей; многочисленные ученые общества, между которыми есть также географическое общество, поддерживают в населении любовь к науке. Газеты и журналы выходят в огромном количестве, и каждый год родятся и умирают десятками.
Университет, где также находятся многие специальные музеи, превосходные лаборатории и большая библиотека, есть самый богатый в Германии (сумма, отпускаемая на содержание его из государственного казначейства, в 1877 году составляла 1.668.370 франков), и по числу слушателей, посещающих его курсы, занимает первое место между германскими университетами, хотя студентов, в собственном смысле, он еще недавно имел меньше, чем Лейпцигский университет. В 1892-93 году в Берлинском университете было: профессоров 360, имматрикулированных студентов—4.356; университетская библиотека заключает в себе около 300.000 томов. К научным учреждениям прусской столицы следует еще прибавить ботанические сады, зоологический сад, великолепный аквариум и частные коллекции всякого рода. В Политехнической школе в 1891-92 г. было 1.380 студентов и 511 вольных слушателей. В Берлине родились многие знаменитые люди: братья Александр и Вильгельм Гумбольдты, Рихард Бек, Клапрот, Бругш, Медлер и другие, историки, астрономы, живописцы, литераторы; но почти все статуи, украшающие площади и мосты, изображают полководцев, или напоминают победы, одержанные прусскими армиями. При входе в улицу «Под Липами», перед императорским дворцом, красуется колоссальная бронзовая статуя Фридриха II, отлитая по модели Рауха, и стоящая на великолепном пьедестале, который окружают, словно телохранители, герои Семилетней войны; другие статуи Рауха, представляющие генералов: Блюхера, Йорка, Гнейзенау, Бюлова, Шарнгорста, разставлены по обе стороны площади, в соседстве с дворцом и с арсеналом; группы, украшающие дворцовый мост, изображают воспитание военного героя, а на другом конце проспекта, на Пропилеях Бранденбургских ворот, возвышается бронзовая статуя победы в колеснице, запряженной четырьмя конями. Впрочем, кое-где можно встретить также прекрасные скульптурные произведения не военного характера; таковы, например, произведения Кисса, св. Георгий Победоносец, поражающий дракона, во дворе королевского замка, и Амазонка, атакованная тигром, перед зданием старого музея.
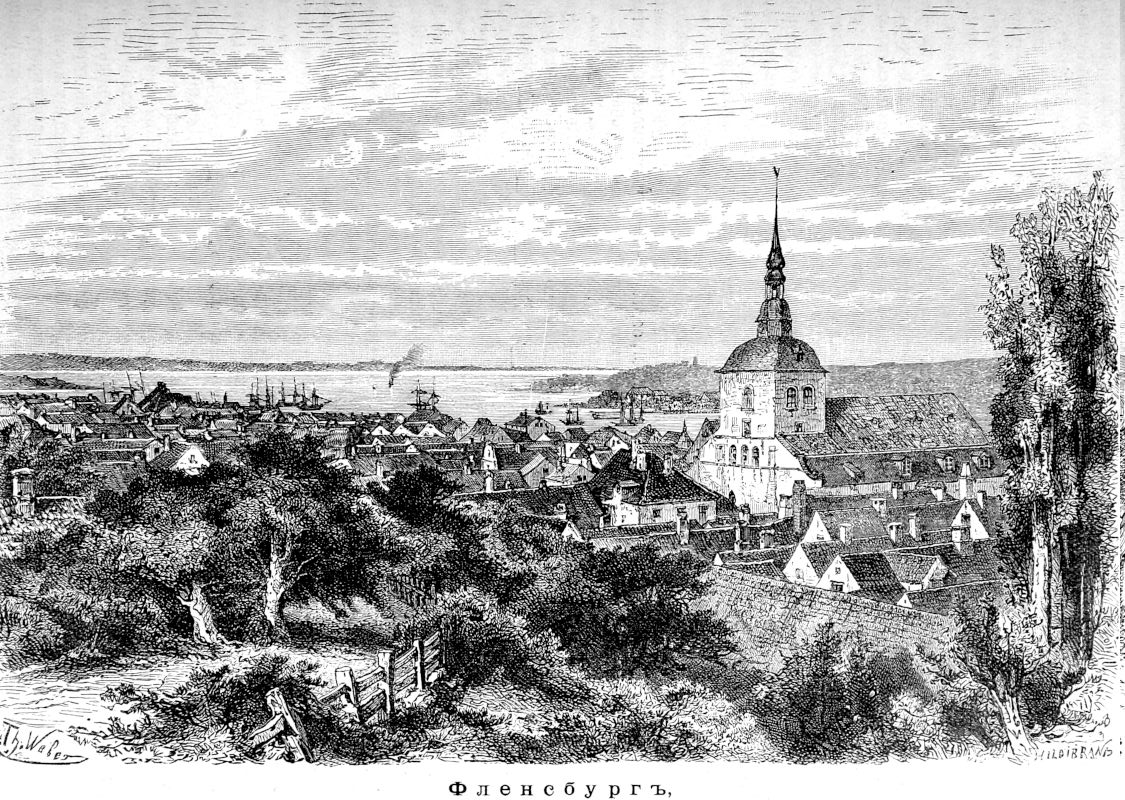
Что касается промышленной деятельности, то хотя Берлин не имеет по этой части никакой специальности, как Эссен, Эльберфельд, Золинген, Ахен или Хемниц, но в нем есть много больших фабричных заведений и существуют всевозможные отрасли промышленности. Один из его механических заводов считает уже тысячами построенные им локомотивы; другие заводы поставляют вагоны, машины всякого рода, приготовляют медь, цинк, разные металлические сплавы; мануфактуры бумажных, шелковых, шерстяных материй работают не только для Пруссии, но и для заграничных рынков; фарфоровая фабрика в Шарлоттенбурге, принадлежащая казне, считается одною из хороших фабрик этого рода; громадные пивоваренные заводы едва поспевают удовлетворять потребление обширного города; наконец, известковые каменоломни в Рюдерсдорфе, на восток от Кепеника, отправляют известь и цемент не только во все места Бранденбургской мархии, но также во многие другие области Северной Германии и даже на африканские берега Средиземного моря: широкие каналы дают доступ большим габарам до самого центра каменоломен. Когда Берлин, уже столь богатый железными дорогами, которые приводят его в непосредственное сообщение со всеми важнейшими городами империи, будет соединен по прямой линии с Балтийским морем посредством канала, доступного для больших судов; когда столица Пруссии сделается таким образом, «приморским портом», тогда, без всякого сомнения, местная промышленность, и теперь уже весьма значительная, примет такие обширные размеры, что у Берлина не будет более ни одного соперника в Германии. Более половины берлинского населения занимается в мастерских и на фабриках.
Город, оффициальное пространство которого, со включением парка Тиргартен, равнялось в 1872 году 5.674 гектарам (гектар немного более девяти десятых десятины), быстро разростается; новые кварталы его распространяются все далее по окружающим пустыням. Но эти постепенные приращения столицы ничтожны в сравнении с теми, о которых мечтало честолюбие строителей в эпоху финансовой горячки: в то время был выдвинут на сцену грандиозный план—сделать из Берлина в несколько лет обширнейший город в мире; и теперь еще в окрестных деревнях, далеко от столицы, можно видеть, рядом с убогими лачугами, наметки бульваров, с распланировкою площадей и мест, предназначенных для церквей, школ, статуй будущих великих людей. Но, даже не принимая в рассчет этих внешних предместий, существующих лишь в проектах компаний, нельзя не заметить быстрого увеличения городского района: нынешний Берлин уже далеко выдвинулся за пределы пояса, где около половины текущего столетия воздвигали станции железных дорог, газовые заводы, тюрьмы, казармы, госпитали, словом, все те заведения, которые обыкновенно строятся по окраинам городов. Парки, кладбища, учебные плацы, еще недавно находившиеся за городом, теперь очутились уже в городской черте; на некоторых пунктах железная дорога, идущая вокруг столицы, уже перейдена быстро растущими предместьями. Чтобы избегнуть постоянных захватов со стороны гражданских построек, военная администрация устроила полигон гарнизона в Цоссене, в 32 километрах к югу от Берлина. Рельсовый путь, соединяющий город с полигоном, служит исключительно для военных надобностей; он был весь построен железнодорожным полком, и все служащие на нем принадлежат к армии. «Центральная станция на Фридрихсштрассе есть один из центров могущества Пруссии и империи; когда посмотришь на линии, выходящие из этого пункта, чтобы затем разбегаться зигзагами по всем направлениям, невольно приходят на ум громы в руках Юпитера: бог может метать свои громы направо и налево». Столичная железная дорога, длиной свыше 11 километров, имеет четыре пути; она проходит через весь Берлин, следуя почти по течению Шпре, и соединяется с окружной дорогой, общая длина которой около 68 километров.
Всего медленнее растет Берлин на северо-востоке, со стороны холодных ветров. На востоке узкий форштат скоро соединится с деревней Лихтенберг, где находится новый кадетский корпус; но дома, стоящие по берегам Шпре, не доходят еще до городка Кепник. На юго-востоке, большое местечко Риксдорф, где живет община «гусситских братьев», чешского происхождения, сохранившая еще несколько чешских слов в своем нынешнем немецком языке, отделена от Берлина парком Газенгайде. Но со стороны теплых ветров и заходящего солнца распространение города идет особенно быстро. На юго-западе, передовые предместья продолжаются до Шенеберга, Вильмерсдорфа, Штеглица; на северо-западе, улица, длиною в несколько верст, тянется до Рейникендорфа; на западе, изящные кварталы окрестностей Тиргартена соединяют Берлин с Шарлоттенбургом и с виллами Вест-Энда. В парке королевского замка, в Шарлоттенбурге, возвышается мавзолей, заключающий одно из образцовых произведений известного скульптора Рауха, лежачую статую королевы Луизы.
Шпандау или Шпандов, лежащий при слиянии Шпре и Гавеля, среди болот и озер, в местности очень удобной для обороны, по справедливости может быть назван цитаделью Берлина; почти все его фабричные заведения принадлежат военному ведомству, таковы: ружейные фабрики, пороховые заводы, патронные мастерские, пушечно-литейные заводы, где куются или отливаются все немецкия орудия, кроме пушек из литой стали. У северной оконечности Шпандауского озера стоит замок Тегель—бывшее жилище братьев Гумбольдтов, которые там и похоронены. На юго-западе, другое озеро, очень живописное, то расширяющееся в виде заливов, то съуживающееся в тесные проливы, окаймленное там и сям лесистыми дюнами, отражает в своих водах купол и башни Потсдама, летней резиденции прусских королей. Обширные парки и замки, замечательные своею архитектурою, своими садами, произведениями искусства, которые в них хранятся, или историческими воспоминаниями, которые с ними связаны, знаменитый Сан-Суси, прелестный и живописный замок Бабельсберг, Клейн-Глинике, украшают окрестности этого города, почти всегда печального и безмолвного. В Потсдаме нет никакой собственной промышленности, никакой самостоятельной жизни; он существует только благодаря принцам, генералам, высшим сановникам, которые живут в нем, и гражданское население его состоит отчасти из лакеев. Низменные земли окрестностей, бывшие некогда топкими болотами, так что придворные принуждены были взбираться на ходули, чтобы попасть во дворец, теперь покрыты огородами; в колонии Новавес, которую Фридрих II заселил чехами, жители занимаются бумагопрядильною и шелкопрядильною промышленностью. Потсдам—родина антрополога Геккеля и физика Гельмгольца. В этом городе отец Фридриха Великого, Вильгельм I, заставлял парадировать свои полки, набранные из красивых и рослых молодцов, и до сих пор еще высокий рост составляет отличительный признак большинства потсдамского населения. Здесь мы видим следствие подбора рас, так как прусский король заботился о том, чтобы самые огромные солдаты вступали в брак с женщинами самого высокого роста.
Город Бернау, на штеттинской железной дороге, город Науен, на гамбургской линии, и, в направлении к Лейпцигу, три города, занимающиеся фабрикациею сукон: Луккенвальде, Ютербок и Трейенбрицен, могут быть рассматриваемы, как принадлежащие к берлинскому городскому округу. То же самое можно сказать и о Бранденбурге, древнем Бренниборе венедов, сделавшемся столицею мархии, отвоеванной у славян-язычников. Несмотря на утрату своей относительной важности, Бранденбург—цветущий и постепенно увеличивающийся город; в 1848 году он был в продолжение двух месяцев резиденцией прусского национального собрания. Построенный, подобно Потсдаму, среди лабиринта озер и медленно текущих вод, образуемых рекою Гавел, Бранденбург лежит почти на полдороге между Берлином и Магдебургом, недалеко от того места, где Гавел, переменив течение, спускается к Эльбе, по направлению на север; поэтому движение судов на бранденбургской пристани весьма значительно.
Кроме того, в бассейне Гавеля и Эльбы, на территории Бранденбургской мархии, находим еще несколько городов, имеющих более или менее важное значение в торговом или промышленном отношениях. Городок Ратенов, на Гавеле, славится своими кирпичными заводами, поставляющими превосходный кирпич, известный в крае под именем «ратеновского камня», а также несметными стаями лебедей, населяющих соседния озера, и с которых весною собирают массы пуху; Гавельберг, лежащий на острове реки Гавел, близ впадения её в Эльбу, ведет деятельную торговлю; город Виттенберг важен, как пристань для пароходов, идущих вниз по реке в Гамбург; Перлеберг, Притцвальк, Витток, Ней-Руппин, построенный на берегу озера, замечательны, как рынки, снабжающие сукнами население окрестных деревень.
Значительнейшие города провинции Бранденбург в бассейне Эльбы, с числом жителей в тысячах, по переписи 1890 года (в скобках—цифры населения по исчислению в 1895 году):
Берлин—1579 (1820); Потсдам—54 (57); Бранденбург—38 (42); Шпандау—45 (58); Котбус—35 (42); Луккенвальде—18 (20); Ней-Руппин—15; Шпремберг—11; Ратенов—16 (19); Фюрстенфальде—13; Кальбе—8; Виттенберге—14; Перлеберг—(8); Науен—(8); Финстервальде—8; Гавельберг—7; Прицвальк—6.
Ниже городка Виттенберге, Эльба, текущая через местности мало плодородные, каковы на западе степи Люнебурга, а на востоке плоские возвышенности Мекленбурга, не имеет на своих берегах ни одного значительного города, на пространстве около 150 верст. Даже Лауэнбург, сообщивший свое имя владетельному герцогству, похож более на деревню, чем на город. Но при повороте одного большого острова путешественник, плывущий вниз по реке, вдруг видит вдоль правого берега целый лес мачт стоящих на якоре судов, из-за которого выглядывают дома, дворцы, башни огромного города: перед ним развертывается бесконечная картина Гамбурга.
Этот город, второй в Германской империи по числу жителей, занимает первое место между немецкими городами по обширности своей торговли, обороты которой учетверились с половины текущего столетия. Хотя удаленный от моря на сто верст (110 километров), он имеет свободное морское сообщение со всеми странами мира через широкий фарватер Эльбы, по которому поднимаются с приливом суда наибольшего водоуглубления. Вследствие косвенного направления Эльбы относительно Северного моря, Гамбург находится у естественного выхода большей части стран восточной Германии, которая, однако, лежит ближе к Балтийскому морю; кроме того, Гамбургу принадлежит значительная доля торговли немецких стран, обращенных к Северному морю: торговая область главного ганзейского города образует в центре Европы обширный треугольник, основанием которого служит линия, проведенная из Кракова в Базель. Вообще на континенте Европы Гамбург не имеет соперников, кроме Антверпена; по обширности торговых оборотов он стоит выше Марсели, даже если мы примем в соображение то обстоятельство, что коммерческие сношения Гамбурга с остальною Германиею, вне территории «вольного города», до недавнего времени оффициально составляли часть внешней торговли.
Своим счастливым географическим положением Гамбург обязан не одной только природе. Древний Гаммабург, основанный, как говорят, Карлом Великим, стоял даже не при Эльбе: он был построен на реке Альстер, в расстоянии около 2 километров от одного рукава Эльбы, от которого она была отделена болотами Брук (Brook, то-есть Brush). Но в половине шестнадцатого столетия гамбуржцы, не довольствуясь более «глубью» (Deep, Tief) Альстера, которая служила им портом, прорыли через болото Брук канал, соединивший их место якорной стоянки с водами Эльбы. Пятьдесят лет спустя, именно в 1605 году, они открыли «новый ров» или канал с таким успехом, что главный поток Северной Эльбы устремился в этот канал. Таким образом, благодаря энергии и настойчивости граждан, город очутился, наконец, на берегу большой реки. С той поры Эльба у Гамбурга была значительно исправлена рукою человека для целей судоходства: она теперь шире, глубже и обведена набережными, где суда могут быстро и удобно выгружать привозимые ими продукты и принимать новый груз; кроме того, эти работы и искусственные сооружения изменили очертание берегов и превратили всю нижнюю часть лимана в передовой порт Гамбурга. Но это еще не все: чтобы воспрепятствовать столкновению приливов, происходившему прежде перед рейдом, в месте соединения двух рукавов Эльбы—южного и северного, в настоящее время трудятся над укорочением лимана посредством уничтожения мысов. Когда спрямление реки, исполняемое по планам инженера Дальмана, будет окончено, кривая берегов везде получит нормальный профиль; с этой целью уничтожали даже скалистые полуострова, срытие которых обошлось в 3 или 4 миллиона франков. Во внутренней части города лабиринт каналов или Flethen, делающий некоторые кварталы Гамбурга похожими на города Нидерландов, не увеличился, так как он вполне достаточен для перевозки товаров между рекою и складами негоциантов; но в эти последние годы принуждены были прибавить к внешним гаваням большие проточные бассейны, окруженные набережными, откуда железнодорожные поезда прямо забирают предназначенную для них кладь. Лабиринт всех этих новых портов, где распределяются суда по их величине, месту назначения и грузу, находится в верхней стороне города. Чтобы дать понятие о размерах судоходства и торговли Гамбурга, приводим цифры, относящиеся к 1894 г.
Движение судоходства в Гамбургском порте:
В морском сообщении: в приходе 2.662 парусных судна, вместимостью 647.506 тонн, и 6.503 паров. судна, вмест. 5.581.315 тонн; в отходе—2.685 парусн. суд., вмест. 665.901 тонн, и 6.490 паровых судов, вместимостью 5.582.874 тонн.
В речном сообщении (по Верхней Эльбе): в приходе 14.647 суд., вместимостью 3.227.728 тонн; в отходе 14.466 судов, вместимостью 3.147.554 тонн.
Ценность привоза морем, по реке и по железным дорогам: 2.824.300.000 марок; ценность вывоза—2.358.600.000 марок.
Суда, принадлежащие гамбургским негоциантам, перевозят товары во все части света; коммерческий флот Гамбурга в конце 1894 г. состоял из:
289 парусн. судов, вместимостью 189.719 тонн; 355 пароходов, вмест. 473.984 тонн; итого 644 судна, вместимостью 663.703 тонны.
Львиная доля в морской торговле Гамбурга принадлежит Англии, как показывает процентное отношение флагов различных наций, участвовавших в этой торговле в 1893 г.:
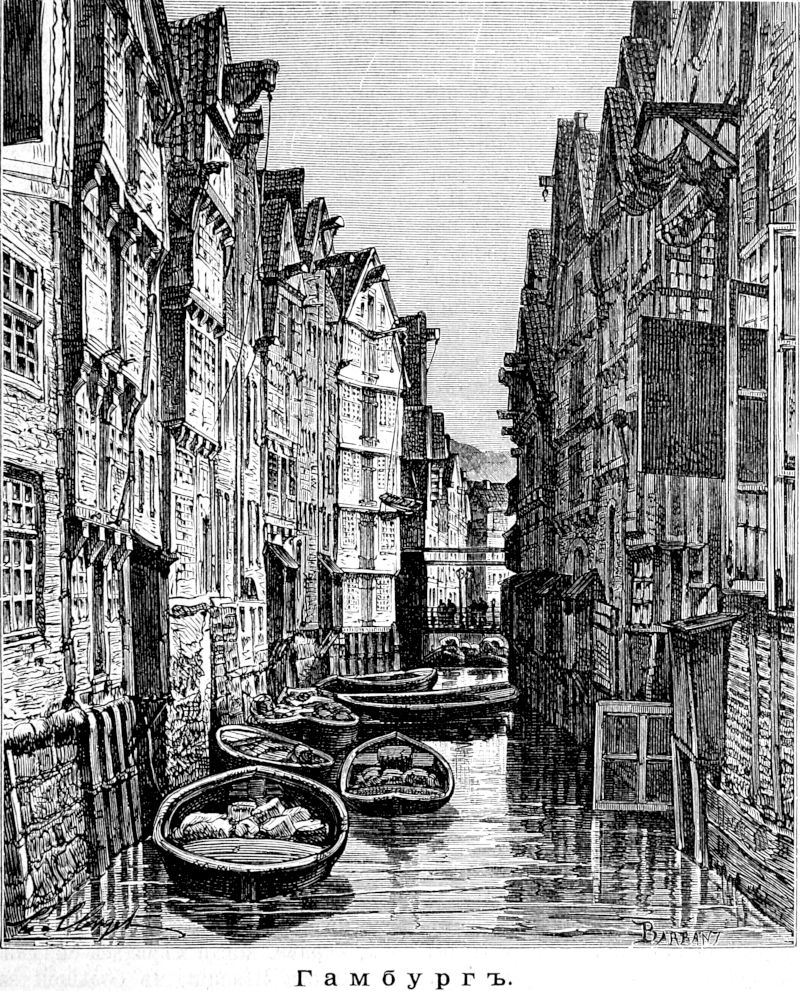
Британский флаг—47 процентов; Гамбургский—35; другие германские—6,5; Норвежский—3,9; Датский—2; Голландский—1,8; Французский—1,1; Шведский—1,1; Испанский—0,6; прочие флаги 1,6 процентов.
Пароходы, совершающие правильные рейсы, соединяют порт Эльбы с Россией, с городами скандинавского побережья, со всеми приморскими городами Западной Европы, с Северо-Американскими Соединенными Штатами и с Южною Америкою. Торговые сношения Гамбурга с портами крайнего Востока весьма значительны, и некоторые из гамбургских судохозяев пользуются монополиею коммерческой эксплоатации во многих архипелагах Южного моря. Наконец, эмигранты ежегодно отправляются из Гамбурга за океан почти в столь же большом числе, как и из Бремена; так, с 1882 по 1891 г. из гамбургского порта отплыло 365.360 переселенцев.
Благородный ганзейский город, гордящийся своими древними вольностями и своим богатством, долгое время смотрел на себя, как на совершенно самостоятельную республику, как на отдельное государство, не входящее в состав Германской империи; жители его называли «имперцами» или чужестранцами (Buten Minschen) всех, кто не имел счастия родиться в пределах их «вольного города». До 1888 г. гамбургский порт не принадлежал к Немецкому Таможенному Союзу, и граждане его энергично, но без успеха, противились включению их города в пояс таможен империи. Гамбург, главный город маленького государства в государстве, сохранил свою административную автономию и управление частью окружающей его территории. Бюджет его в 1895 году представлял следующие цифры:
Доходы—77.489.262 марки; расходы—83.959.674 марки; сумма долга—310.000.000 марок.
Многие из уроженцев Гамбурга достигли известности в ученом мире, между прочим, физик Поггендорф, астрономы Боде и Энке, путешественники Генрих Барт и Овервег.
Город в собственном смысле, перерезанный во всех направлениях каналами, через которые устроено шестьдесят мостов, и окруженный поясом бульваров, заменивших старый городской вал, составляет лишь незначительную часть гамбургской аггломерации; но в этой части сосредоточено торговое движение и возвышаются главные здания: биржа, дворец искусств, здание Johanneum (где помещаются учебные заведения, гимназии и реальное училище, а также публичная библиотека, состоящая из 300.000 томов, и различные музеи и коллекции), церкви св. Михаила и св. Николая, из которых последняя построена недавно в готическом стиле тринадцатого века, и с колокольни которой открывается обширный вид на Гамбург (изящный шпиц этого храма поднимается на высоту 147 метров); здесь же, вокруг большого бассейна, известного под именем «Внутренней Альстер», находятся самые красивые кварталы, выстроенные после страшного пожара 1842 года, истребившего треть внутреннего города. Ученые общества, между которыми есть также географическое общество, банки и торговые компании имеют местопребывание в старом городе, тогда как внешния предместья наполнены фабриками и верфями. На северной стороне Гамбурга резервуар, или, вернее, озеро, называемое «Большой Альстер», уже совершенно окружено группами домов, которые составляют общины: Гогенфельде, Уленгорст, Эйльбек, Бармбек, Гарвстегуде, Ротербаум; на восточной—предместье св. Георгия скоро сольется с Гаммом и другими передовыми кварталами; на западной—ботанический сад и зоологический сад, один из лучших в Европе, образуют сплошной остров зелени; в соседстве с Эльбою, предместье св. Павла соединяет Гамбург с прусским городом Альтоною, который, без сомнения, играл бы видную роль между портовыми городами Германии, если бы не имел такого соседа, как Гамбург. Альтона продолжается по берегу реки предместьями или подгородными селениями Неймюлен и Оттензен; а на северной стороне деревнею Эймсбюттель. Другое предместье Гамбурга, Штейнвердер, построенное с большим трудом на топкой, почти жидкой почве, продолжается на болотистых островах вдоль левого берега Северной Эльбы. Ганноверский городок Гарбург, соединенный с Гамбургом великолепным железнодорожным мостом, и голштинское местечко Вандсбек тоже находятся в торговой зависимости от вольного города, а хорошенькия деревни, Нинштедтен, Бланкенезе, расположенные на холмах правого берега, ниже Альтоны, состоят большею частию из вилл, принадлежащих гамбургским жителям. Острова Эльбы покрыты роскошными лугами, с которых «течет молоко» для громадного города, а Фирланды или «Четыре земли», которые тянутся на юго-востоке, вокруг местечка Бергедорф, усеяны садами и огородами, и снабжают Гамбург плодами и овощами. Фирландцы, красивый и сильный народ, суть потомки голландских колонистов, поселившихся в двенадцатом столетии в болотистой местности, которую они съумели преобразовать в цветущую, плодородную равнину, какую мы видим там в настоящее время; До 1867 года Фирландский округ принадлежал совместно Любеку и Гамбургу; теперь же он состоит в исключительном владении последнего из этих двух государств.
На берегу моря и рейда, где корабли ждут попутного ветра, чтобы пуститься в морское плавание, Гамбургская республика имеет передовой порт Куксгафен, очень полезный в зимнее время, когда Эльба замерзает ниже Гамбурга: теперь там строят обширные доки, набережные и жете. На западе от Куксгафена выступает в море мыс Рицебюттель, где видны еще древние могилы и следы каких-то доисторических укреплений, и где возвышается старинный замок или крепостца, построенная лет пятьсот тому назад и превращенная ныне в гражданскую резиденцию. Общее население республики в декабре 1895 года: 681.632 жит.
Любек, лежащий, как и Гамбург, в одном из южных углов полуострова Голштинии, был некогда важнейшим торговым городом Германии и главным членом Ганзейского союза; знаменитое «Любское право» было известно и уважаемо во всей средней Европе, от Кракова до Кёльна, от Новгорода до Амстердама. Флоты, собиравшиеся в лимане реки Траве, могли меряться силами с флотами Дании и Швеции; в большой зале городской ратуши Любека заседали одновременно представители восьмидесяти слишком городов, членов Ганзейского союза: без завоеваний, единственно посредством торговых связей, республика, образовавшаяся из многочисленных, рассеянных в разных странах, общин, сделалась одним из могущественных государств нашей части света. Впрочем, города, входившие в состав союза, не имели в отношении друг друга никакой непосредственной власти, никакого политического влияния; сейм или общее собрание представителей Ганзы могло только исключать (verhansen) из среды Союза города, интересы которых расходились с интересами федерации. Процветание Ганзейского союза и его главы или столицы, Любека, относится к той эпохе, когда Балтийское море было еще сравнительно одним из главных бассейнов всемирного мореходства; в то время корабли еще не знали пути ни в Индию, ни в Америку, и переход от Любека до Риги составлял для них уже дальнее плавание. Но с той поры, как морской горизонт расширился, и океан был открыт для мореплавателей на всем его пространстве, Балтика, представляющая не более как залив, на половину замкнутый, утратила свою исключительную важность, и Любек мало-по-малу снизошел на степень второклассного города. К этому присоединились еще другие причины, способствовавшие его упадку: сельди исчезли из мелей Скании и перешли на западные берега Швеции, в Северное море. Религиозные войны разорили все ганзейские города внутренней Германии, и местное самоуправление было совершенно подавлено господствующей буржуазией. В 1669 году собирался последний сейм Ганзы, но он не мог уже возродить отжившей республиканской федерации: начался новый порядок вещей.
В наши дни Любек гораздо менее важен, чем его сосед Гамбург, над которым он прежде первенствовал по роли в Ганзейском союзе и по размерам торговли, и который он и теперь еще превосходит юридическим достоинством, так как в нем имеет пребывание высший апелляционный суд Ганзы, а по делам о государственной измене юрисдикция его распространяется на всю Германию. В отношении торговли, Любек отчасти находится в зависимости от своего бывшего соперника и может быть рассматриваем как его порт на Балтийском море; но, с другой стороны, именно благодаря своему упадку, он гораздо лучше сохранился, чем Гамбург, и его памятники, башни, укрепления, еще не совсем разрушенные временем, придают ему более оригинальный вид; некоторые из его кварталов имеют еще чисто средневековую физиономию. Городская ратуша, готическая церковь Пресвятой Девы Марии, кафедральный собор, Голштинские ворота свидетельствуют о богатстве и могуществе прежнего Любека, равно как и о любви его жителей к архитектурной роскоши. Бывшая столица Ганзы замечательна, как место рождения живописцев Кнеллера и Овербека и историка Курциуса. В настоящее время город опять растет в отношении населения и торговли; он имеет верфи, фабрики, металлургические заводы; его морские бассейны или доки, которые, вместе с старыми рвами и прудами, делают его островным городом, наполнены большими барками, парусными судами и пароходами. Глубоко сидящие в воде суда, которые прежде должны были останавливаться в Травемюнде, т.е. в лимане реки Траве, теперь могут подниматься до самого Любека, по судоходному каналу, который идет извилистою линиею из озера в озеро и в излучистой реке.
В 1894 г. в любекский порт прибыло 2.465 морских судов, вместимостью 1.520.023 куб. метр. Общая ценность привоза—295.500.000 марок.
Торговый флот Любека в конце 1894 г.: 33 судна, из них 29 паровых; общая вместимость 35.218 куб. метров.
Самую деятельную торговлю Любек ведет с Швециею (лес) и Россиею (хлеб): любекский флаг, в его собственном порте, по количеству судов, занимает третье место после флагов этих двух северных государств.
Висмар, другой порт Балтики, имеет над своим соседом, Любеком, то преимущество, что он расположен на берегу моря, при лимане, где вода во время прилива поднимается, средним числом, на 60 сантиметров, и который защищен островом Пель от ветров, дующих с открытого моря; но суда, имеющие больше 3 метров водоуглубления, не могут переходить через бар. Висмарский порт посещается преимущественно судами, нагруженными английским углем и лесом из северных стран. Висмар долгое время (с 1648 до 1803 года) принадлежал Швеции, вследствие чего на жителей его еще недавно смотрели, как на иностранцев; и теперь еще они не пользуются одинаковыми избирательными правами с другими жителями Мекленбурга. А между тем Висмар есть порт столичного города. Город этот Шверин, столица главного из двух Мекленбургских великих герцогств, есть один из тех, многочисленных на севере Германии, городов, которые разделены озерами на несколько отдельно лежащих частей или кварталов; но между этими озерными городами мало найдется таких, где дома были бы так живописно сгруппированы на перешейках и полуостровах, как это мы видим в Шверине. Великогерцогский замок, построенный на острове, на месте древней славянской крепостцы, по красоте архитектуры и великолепию внутреннего убранства, принадлежит к лучшим дворцам Германии. Посредством своих озер, ручьев, вытекающих из этих озер и впадающих в них, и искусственных каналов, Шверин сообщается с Висмаром, с Любеком и с городами, стоящими на Эльбе. На этом же скате находятся Пархим, родина генерала Мольтке, и Лудвигслуст, летняя резиденция великого герцога. Древний замок славянского племени венедов, Микилинборг или Мекленбург, от которого получила название вся эта страна, не существует уже с четырнадцатого столетия: заменившая его деревня лежит в 6 километрах к югу от Висмара.
Портовый город Росток расположен, как и Висмар, у южной оконечности одного лимана Балтики, куда изливается река Варнов; но суда с водоизмещением более, чем в 300 тонн, не могут подниматься до самого города и принуждены останавливаться при входе в лиман, в рейде Варнемюнда. Росток—самый оживленный порт и самый значительный город Мекленбурга; несколько лет тому назад его торговый флот был первый в Германии и превосходил численностью судов даже флоты Гамбурга и Бремена. В настоящее время Росток занимает уже лишь третье место, но судов у него все еще гораздо более, чем сколько нужно для его собственной торговли, и потому судохозяева употребляют их большею частью для перевозки грузов иностранных негоциантов.
Флот Мекленбург-Шверина (принадлежащий главным образом Ростоку и отчасти Висмару), в конце 1894 г.: в Ростоке 136 морских судов (из них 27 пароходов) в 64.832 тонны; в Висмаре 44 морских судов в 3.187 тонн.
Впрочем, Росток отправляет за границу большое количество хлебного товара, доставляемого ему из Гюстрова, Тетерова и других внутренних городов.
Росток, имеющий много старинных зданий, которые придают городу очень живописный вид, и окруженный прекрасными гульбищами, отличается также, между городами Мекленбурга, своим университетом, который гордится тем, что имел в числе своих профессоров знаменитого Кеплера. В 1894-95 году в Ростокском университете числилось 420 студентов, а библиотека его состояла из 145.000 томов. На одной из внешних площадей стоит статуя Блюхера, который родился в этом городе. В летнее время Варнемюнде, передовой порт Ростока, посещается многочисленною публикою, пользующеюся купаньем в море, так же, как и Хейлиге-Дамм (т.е. «Священная плотина»), лежащий несколько западнее, на прекрасном морском берегу, защищенном плотинами. Хейлиге-Дамм замечателен, как первая, по времени основания, морская купальня Германии, чему он обязан соседству велико-герцогского замка Добберанн, который расположен подле великолепной готической церкви, построенной в четырнадцатом столетии.
К востоку от реки Рекниц, которая служит границею между Мекленбург-Шверином и прусскою провинциею Померанией, встречаем портовый город Барт, лежащий на берегу маленького внутреннего моря или залива Бартер-Бодден и почти не уступающий своему соседу, знаменитому Штральзунду, по важности своей торговой флотилии, заключающей свыше 200 судов, вместимостью в 50.000 тонн.
Штральзунд, окруженный со всех сторон водою и построенный на берегу пролива, отделяющего остров Рюген от Померанского побережья, есть один из тех укрепленных пунктов, обладание которыми составляло предмет постоянных споров между соседними державами: более полутораста лет, с 1648 до 1815 года, он был, так сказать, тет-депоном шведов на континенте Европы. В прежнее время это был важный торговый город, так что в четырнадцатом столетии из членов Ганзейского союза один только Любек превосходил его размерами торговых оборотов; да и теперь еще он ведет довольно обширную торговлю с другими портами Балтийского моря. Небольшие портовые города Грейфсвальд, Вольгаст, Анклам, следующие один за другим вдоль морского берега, по направлению к Одеру, имеют гораздо менее значительную торговую деятельность, чем Штральзунд.
Город Грейфсвальд так-же, как и Анклам, лежит в некотором расстоянии от моря, на судоходном канале; порт его находится против бывшего аббатства Эльдена. Обширные имения и леса этого монастыря были подарены в 1634 году Грейфсвальдскому университету, который с той поры сделался одною из богатейших главных школ Германии, если не одною из первых по числу слушателей. В 1893-94 году в этом университете было 75 профессоров и 747 студентов, а библиотека его состояла из 150.000 томов. Земледельческая академия в Эльдене, помещающаяся в зданиях аббатства и соединенная с университетом, имеет в своем распоряжении более 300 гектаров пахатной земли.
Некоторые города, лежащие внутри страны, на восточном скате плоской возвышенности, тоже заслуживают внимания, как значительные торговые пункты или центры населения: таковы, в бассейне реки Пене, впадающей в море у Анклама: Малхин в Мекленбурге, славящийся своими конскими ярмарками, и Деммин прусский, древнейший город Померании; таковы же в великом герцогстве Мекленбург-Стрелицком: столица Ней-Стрелиц, построенная вокруг велико-герцогского замка, в форме звезды с восемью расходящимися лучами; Новый Бранденбург, живописно расположенный среди озер, лесов и текущих вод; Фридланд, самый богатый город великого герцогства. На юге от Штеттинского Гафа, в прусской долине реки Уккер, называемой Уккермарк или «мархией по Уккеру», главные города—Пренцлау, Пазевальк и Страсбург.
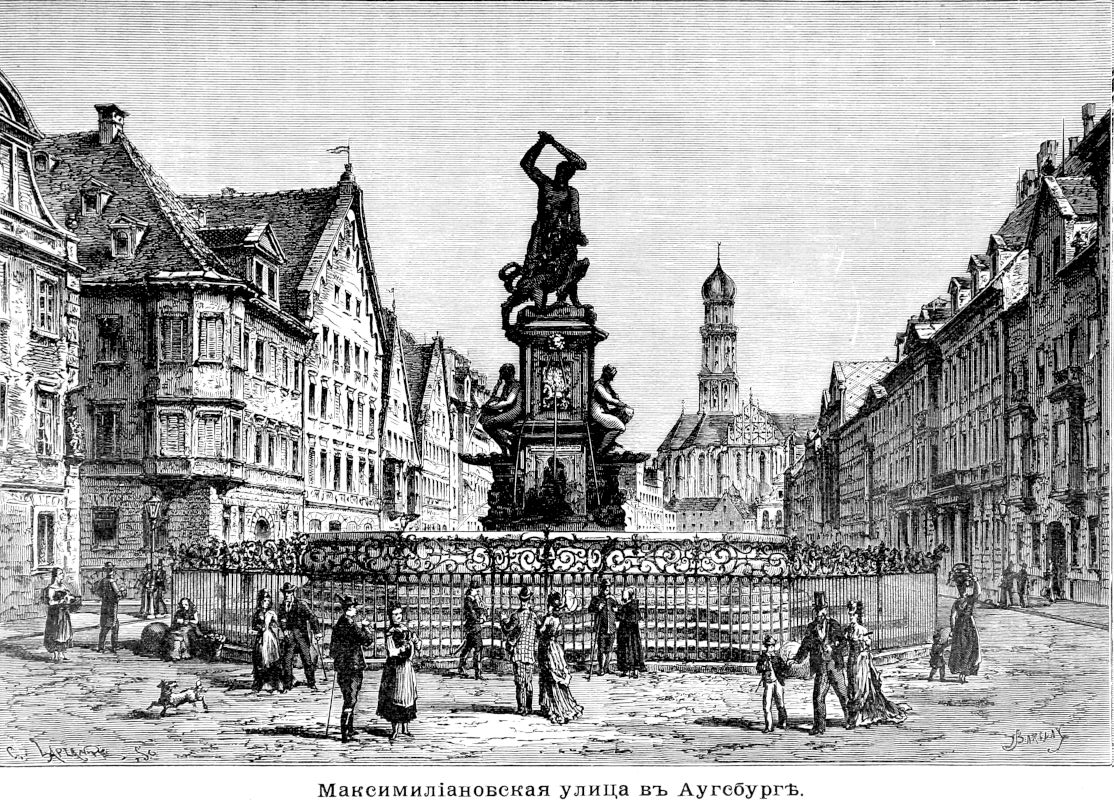
Важнейшие общины побережья и Мекленбургской плоской возвышенности, между Эльбою и Одером, с числом жителей в тысячах, по переписи 1890 г. (в скобках цифра населения в 1895 г.):
Любек (вольный город с его областью) 64 (71).
Мекленбург-Шверин: Росток 44 (50); Шверин 34 (36); Висмар 17 (17); Гюстров 15 (16); Пархим 10; Людвигслюст 7; Малхин 7; Тетеров (7).
Мекленбург-Стрелиц: Ней-Стрелиц 9; Новый-Бранденбург 9; Фридланд 6.
Пруссия: Штральзунд 28 (27); Грейфсвальд 22 (23); Пренцлау 18 (19); Анклам 13; Деммин 11; Пазевальк (10); Вольгаст 8; Барт 6; Страсбург в Укермаке 7.
Прусская Силезия почти вся принадлежит к верхнему бассейну Одера; только на границах Польши и Галиции тянется небольшая цепь холмов, на восточном скате которой берут начало ручьи, текущие через реку Пржемшу в Вислу. Эта водораздельная область между двумя большими реками заключает в себе богатый каменноугольный бассейн Верхней Силезии, вследствие чего там возникли многочисленные промышленные города, группы фабрик, и железные дороги перерезывают край во всех направлениях; месторождения свинца, содержащего серебро, цинка, железа, еще более увеличивают важность этой страны, где сырые материалы промышленности находятся рядом с минеральным топливом, употребляемым для их обработки. Пласты каменного угля разрабатываются только с 1784 года; в первые годы текущего столетия количество добываемого угля не превышало 20.000 тонн; теперь же оно достигает многих миллионов тонн, и ежегодная добыча может держаться на этой цифре еще целые сотни веков, потому что залежи продолжаются на большую глубину, как обнаружили бурения почвы: масса годного к разработке угля, залегающая до глубины 600 метров и на пространстве 1.375 квадратных километров, исчисляется в 500 миллиардов тонн. Общая добыча каменного угля в бассейне Верхней Силезии составляла в 1895 году около 22 миллионов тонн, на сумму 126 миллион. марок. К сожалению, силезский уголь, вообще говоря, далеко не так хорош, как уголь, получаемый с берегов Рура; только некоторые шахты дают уголь, который в отношении качества может выдержать сравнение с углями западной Пруссии и Англии. Что касается цинковых рудников, то они доставляют четыре пятых всего количества этой руды, переплавляемой в металлургических заводах Германии.
Добыча на цинковых рудниках Верхней Силезии:
В 1812 году 678 тонн руды; в 1872 г. 289.922 т.; в 1895 г. 579.977 т. (ценностью 5.622.000 мар.).
Города каменноугольного бассейна, еще недавно простые деревни, все похожи друг на друга, или, лучше сказать, все они составляют один широко раскинутый город, с бесчисленными фабриками и заводами, с грудами шлака, с группами домиков рабочих, над которыми господствует, с вершины какой-нибудь горки, замок владельца фабрики. В течение последних ста лет население края увеличилось более чем в двадцать раз; но оно периодически страдает от финансовых кризисов, и часто голодный тиф производит большие опустошения в рядах жителей. Силезия, как Ирландия, есть «царство нищеты». Самое значительное между населенными местами этой страны—Кенигсхютте, который только в 1869 году возведен на степень города; Бейтен, Каттовиц, Глейвиц, Тарновиц тоже имеют важное значение, как фабричные центры и как административные пункты; Мысловиц важен как место соединения железнодорожных линий и как большая таможенная станция между тремя империями-Германской, Российской и Австро-Венгерской.
Главные общины Бейтенского округа, с числом жителей в тысячах, по переписи 1890 г. (в скобках цифра населения в 1895 г.):
Кенигсхютте 37 (41); Бейтен 37 (46); Глейвиц 20 (22); Катговиц 17 (19); Хропачов 5; Лаурахютте 11; Мысловиц 9; Руда (9); Немецкий Пекар (6); Оржегов (3); Богушюц 8; Бискупиц 7; Николай (6).
Но в этих общинах, состоящих почти исключительно из рабочих, население год-от-году перемещается, смотря по ценам на уголь и железо и условиям рынка. Польские имена многих городов и местечек этой области Силезии были заменены немецкими названиями. Ратибор (по-польски Рациборж), стоящий на Одере, в том месте, где начинается, в благоприятное время года, судоходство; Леобшютц, окруженный амфитеатром живописных холмов; Нейштадт, где шумит вода горных ручьев; Оппельн (по-польски Ополе), через который протекает Одер, отражающий в своих водах деревья, растущие на его островах, и многие другие города, хотя лежащие вне главной каменноугольной области, тоже принимают участие в её промышленной деятельности, и мы находим там всякого рода фабрики и заводы для выплавки руд, производства стекла, прядения и тканья материй. Река Нейса, большой приток Одера, собирающий свои первые воды в одной котловине Судетов, окруженной со всех сторон горами и холмами, также омывает территорию многих городов. В самом центре этого обширного амфитеатра гор находится город Глац (по-чешски Кладско), окруженный укреплениями, откуда прусская армия может, в случае надобности, через несколько часов вторгнуться в Богемию или в Моравию. Нейроде, стоящий при ручье, вытекающем из гор Эйленгебирге, имеет, как и предыдущий город, прядильные и ткацкия фабрики. Франкенштейн замечателен находящеюся вблизи его знаменитою, хотя и бесполезною, крепостью Зильберберг, отчасти иссеченной в вершине скалы и совершенно неодолимой. Пачкау, на Нейсе, важен как промышленный город; но самый деятельный город бассейна—тот, который носит имя самой реки (Нейсе), и который находится уже в равнине, ниже слияния Нейсе с Белою. Это сильно укрепленный пункт, и гарнизон его легко может, в случае надобности, наводнить все окрестности.
Ниже слияния с Нейсою, Одер, увеличившийся почти вдвое, принимает справа реку Штобер, которая, недалеко от своего истока, проходит через город Крейцбург. Далее, Одер протекает мимо Брига (по-польски Бржег), родины Отфрида Мюллера, и близ города Олавы (по-немецки Олау) подходит к реке того же имени, воды которой, берущие начало в горах Эйленгебирге, орошают территорию городов Мюнстерберг и Стрелен. Деревни попадаются все чаще и чаще и, наконец, соединяются в длинные улицы: мы вступаем в Бреславль, столицу Силезии и третий город Германской империи по числу жителей.
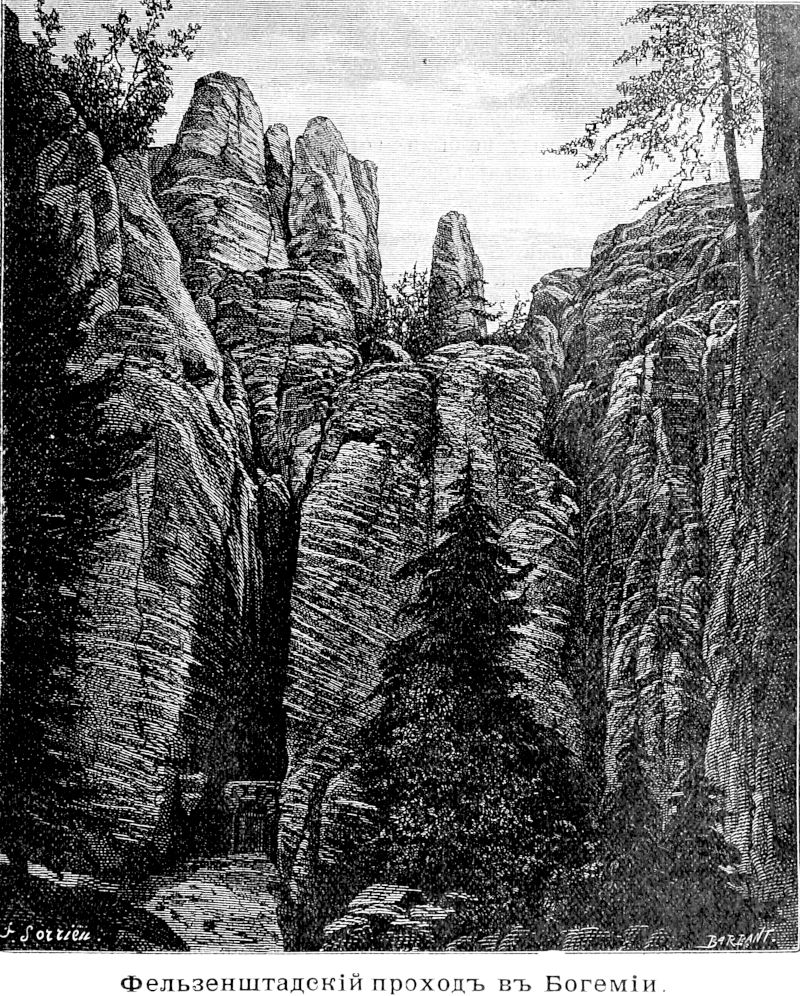
Бреславль, древняя «Вратислава» славян (по-польски—Вроцлав), занимает очень выгодное в торговом отношении местоположение на Одере, при впадении в него Олавы (Оле или Олау), почти в географическом центре большой Силезской низменности, которая вдается в виде бухты между Судетами и лесистыми возвышенностями западной Польши. К этому центральному пункту сходятся естественные пути, идущие из долины Дуная, через горные проходы Судетов, и из равнин России, через Днестр и верхний бассейн Вислы. Бреславль был одним из главных рынков Ганзейского союза, и русские, даже татары, приезжали на его ярмарки обменивать свои продукты на фабричные произведения запада. Многочисленные железные дороги, которые теперь соединяются на бреславльской станции, обеспечивают главному городу Силезии сохранение его торгового преобладания; различные каменноугольные бассейны края, области рудных месторождений, так же, как и местности, занимающиеся земледельческою промышленностью, находят в Бреславле естественный рынок для сбыта своих продуктов, и никакой пункт рассматриваемой страны не представляет более благоприятных условий для переработки сырья в разного рода фабрикаты. Бреславль, один из главных складочных мест на континенте Европы для хлебной торговли, есть в то же время, после Берлина, первостепенный центр шерстяной торговли в Германии, хотя относительная важность его по этой последней отрасли торговли уменьшилась в последние сорок лет, с тех пор, как производство шерсти в Силезии сократилось против прежнего, и на первый план выступили южная Африка, Аргентинская республика, Австралия. Промышленные заведения всякого рода, в особенности металлургические заводы, прядильные фабрики, свеклосахарные заводы, фабрики химических продуктов, образуют вокруг Бреславля второй город, который постоянно расширяется и все далее захватывает окружающие поля вдоль больших дорог.
Старые городские укрепления, взорванные на воздух французами в 1807 году, не были восстановлены, и теперь их заменили прекрасные бульвары. Некоторые из новых кварталов, выстроившиеся вдоль этих аллей, могут поспорить с красивейшими городами Германии: колоннады, резные балконы, скульптурные группы из мрамора и бронзы, цветы и деревья, украшающие эти кварталы, составляют приятный контраст с закоптелыми громадами фабрик и заводов, которые дымятся за городскою чертою. Старый город тоже имеет довольно красивый вид: главная площадь (Ring) его есть бесспорно замечательнейшая из площадей, завещанных славянами германцам; городская ратуша, построенная в четырнадцатом столетии, отличается очень оригинальною архитектурою: она увенчана высокою каланчою или дозорною башнею и украшена резными орнаментами, гербами и фресками; готический собор, сооружение которого относится к концу двенадцатого века, есть один из любопытнейших памятников той эпохи. Бреславль, родина нескольких знаменитых людей, как-то: математика Вольфа, философа Шлейермахера, публициста Генца, живописца Лессинга, Лассаля—замечателен как один из центров умственного движения и научной деятельности. Университет его (Леопольдинский), основанный в 1702 году иезуитами, как католическая главная школа, сделался с 1811 года полным высшим учебным заведением, вследствие присоединения к нему кафедр упраздненного университета во Франкфурте на Одере; он обладает многочисленными коллекциями и драгоценною библиотекою. В 1892-93 году в Бреславльском университете числились 142 профессора и 1.252 студента, а библиотека его состояла из 300.000 томов. Городская публичная библиотека тоже очень богата: в 1877 году она содержала около 200.000 томов. В окрестностях Бреславля, в 7 километрах к северо-востоку от города, находится знаменитый Гундсфельд (Собачье поле), где немцы, под предводительством императора Генриха V, были изрублены в куски польским королем Болеславом III, в 1109 году.
В небольшом расстоянии ниже Бреславля три реки впадают в Одер—справа Вейда, слева Лоэ и Вейстриц (по-польски Выстржица), долины которых сходятся по направлению к Одеру. Города бассейна первого из этих притоков, Вейды, Эльс, Намслау, имеют некоторую важность, но население сгруппировалось в более многочисленные и более значительные города в южных долинах, у подножия гор Эйленгебирге и других разветвлений Судетов, вокруг каменноугольных залежей, которые разрабатываются уже около ста лет. Хотя эти пласты минерального топлива, общая толщина которых местами доходит до 33 метров, далеко не имеют такого обширного протяжения, как верхне-силезские залежи, тем не менее ценность их в общей экономии Пруссии весьма значительна, и вокруг копей сгруппировано множество фабрик и заводов.
Самый многолюдный город этого каменноугольного округа, Швейдниц, древнего происхождения, имеет фабрики всякого рода, но он славится в особенности своими перчатками, которые отправляются даже за пределы Германии, в Россию и в Голландию. Вальденбург, лежащий в центре бассейна, известен главным образом своими фаянсовыми и фарфоровыми изделиями. Все большие общины края, Рейхенбах, Лангенбилау, Диттерсбах, Альтвассер, Готтесберг, Нидер-Гермсдорф, Вейсштейн, Фрейбург, Стригау, отличаются каким-нибудь специальным промышленным производством, рынком для которого служит Бреславль. Но эта область копей и мануфактур есть в то же время страна экскурсий и летнего пребывания; больные и досужие люди приезжают сюда в большом числе, или за тем, чтобы пользоваться минеральными водами в городах Альтвассер, Обер-Зальцбрунн, Шарлоттенбрунн, или затем, чтобы посетить живописные местности в окружающих горах, Исполиновы горы, группы Эйленгебирге, Гейшейр, то поднимающиеся в виде высоких вершин, то продолжающиеся своими хребтами в кажущемся беспорядке, соединяются одни с другими посредством неправильных гребней, усеянных зубчатыми скалами, перерезанных тесными ущельями, поросших лесами; вообще пейзажи разнообразны до бесконечности в этих горных цепях, составляющих границу края со стороны Богемии. Там есть даже так называемый «каменный город», Felsenstadt:—группы иссеченных самою природою обелисков и пирамид, лабиринты камней, по которым ходишь словно по улицам какого-то покинутого города.
Важный город Лигниц находится не на берегу Одера,—главной реки Силезии; он представляет одну из естественных станций на дороге, которая во все времена шла вдоль основания возвышенных земель, из Бреславльской низменности в Лейпцигскую равнину: тотчас же за Бреславлем, на западе от него, эта дорога, параллельно которой теперь проведен рельсовый путь, удаляется от Одера, и через город Неймаркт направляется к Лигницу. Тут проходили как торговые караваны, так и армии, и эта местность прославилась в истории многочисленными битвами, происходившими в ней в разные времена; между прочим, здесь происходила битва 1241 года, в которой было сокрушено могущество монголов. Две башни аббатства Вальштат, лежащего в восьми километрах к юго-востоку от города, указывают место, где сразились армии. Лигниц,—родина знаменитого метеоролога Дове,—очень промышленный и деятельный город; он имеет многочисленные фабрики, так же, как его соседи Яуер, Гольдберг, Гайнау, но специальный его промысел составляет культура овощей, декоративных растений и фруктовых дерев. Лигниц—один из центров огородничества в Германии.
Ниже Бреславля, первый значительный город на берегах Одера—Глогау или Грос-Глогау, крепость, наблюдающая на юге за польским населением Познани. Глогау замечателен, между прочим, как один из городов Германии, где издаются карты и сочинения по географии. Недалеко от этого города с Одером соединяется болотистая река Барч (по-польски Барыча), разделенная на бесчисленное множество рукавов, в роде тех, которыми перерезан Шпревальд и так называемый «Польский ров», водоотводный канал, проведенный из болот, некогда окружавших реку Обру. В этой области силезской Польши главные города: Кротошин и Равич, где очень много евреев; Лешно (по-немецки Лисса), наследственное владение рода Лещинских, у которых нашли убежище протестанты, изгнанные, в шестнадцатом столетии, из Богемии, Силезии, Австрии, которые, взамен оказанного им гостеприимства, принесли в край свои технические знания и основали в городе различные фабрики, суконные, полотняные, канатные; Всхова (по-немецки Фрауштадт), окруженный дюнами, на которых там и сям виднеются ветряные мельницы.
Нейзальц и Грюнберг, богатые виноградниками, которые производят ликер, прославившийся своим терпким вкусом,—последние силезские города на берегах Одера; Цюллихау и Швибус, лежащие в боковых долинах, и Кросно (по-немецки Кроссен), построенный на Одере, находятся уже в провинции Бранденбург; но река Бобер, впадающая в Одер у Кросно, и западная Нейса, соединяющаяся с Одером несколько ниже этого города, проходят в своем течении через многие города, принадлежащие еще к Силезии. Так, в долине Бобера следуют один за другим: живописный Лансгут, Гиршберг, славящийся своими фабриками «турецких» ковров, которые идут даже в Америку; Вармбрунн, город с минеральными водами и исходный пункт при восхождениях на вершины Исполиновых гор; Левенберг, Бунцлау, Шпроттау, окруженный деревнями, из которых каждая представляет лишь одну длинную улицу, Жегань (по-немецки Саган или Заган); город Лаубан лежит на одном из притоков этой реки, а Горлиц (по-славянски Solerz)—нa Нейсе. Этот последний город, одна часть которого носит название вендского квартала, занимает, по числу жителей, второе место между населенными пунктами Силезии; подобно Лигницу, он пользуется, в отношении географического положения, тою выгодою, что находится на естественном пути, который идет вдоль основания гор, из Польши в Тюрингию, и притом как-раз в том месте, где этот пункт пересекается низменностью, соединяющею равнину Одера с равниною верхней Эльбы, на западе от цепи Исполиновых гор: достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что в этой точке пересечения дорог должен был возникнуть важный город. Герлиц—родина известного мистика Якова Беме. В окрестностях его видны еще остатки каких-то древних укреплений, круговых оград и так называемых «тунских могил».
Главные города Силезии (исключая городов Бейтенского каменноугольного бассейна), с числом жителей в тысячах, по переписи 1890 года (в скобках цифра населения в 1895 года):
Бреславль—335 (368); Герлиц—62 (68); Лигниц—47 (50); Швейдниц—26 (26); Нейсе—22 (23); Глогау—21 (21); Ратибор (Рациборж)—21 (22); Бриг (Бржег)—20 (21); Гиршберг—16 (17); Лангенбилау (4 общины)—16 (17); Глац (Кладско)—14; Нейштадт—18 (19); Оппельн (Ополе)—19 (22); Грюнберг—16 (18); Леобшюц—13; Вальденбург—14; Стригау—12; Жегань (Саган)—13; Яуер—12; Лаубан—12; Бунцлау—13; Эльс—10; Фрейбург—9; Альтвассер—10; Франкенштейн—8; Рейхенбах—(14).
Главную промышленность западной Силезии составляет фабрикация тканей, преимущественно полотен и сукон. Города смежной области в Бранденбурге: Зорау, Зоммерфельд, Форст, Губен, так же, как города южной Познани, принимают участие в этой ткацкой промышленности, и их произведения находят сбыт не только во всей Германии, но даже в Америке и на крайнем Востоке. В первом из этих городов, Зорау, в 1875 г. было выделано сукон на сумму 5.625.000 франков, полотен на сумму 9.375.000 франков.
Франкфурт-на-Одере не может равняться ни числом жителей, ни богатством со своим одноименником на берегах Майна; но, тем не менее, он принадлежит к числу важных городов Северной Германии и с каждым годом заметно увеличивается. Промышленность его значительна; его ярмарки, на которые прежде приезжали во множестве поляки и русские обменивать свои продукты на товары промышленной Европы, теперь гораздо менее посещаются славянскими купцами, но ценность торговых сношений с рынками внутренней Германии не перестает увеличиваться. Франкфурт может быть рассматриваем как пристань Берлина на среднем Одере, и потому его коммерческая деятельность извлекает пользу из постоянного возрастания метрополии. На востоке от столицы он играет почти такую же роль, как Магдебург на западе; но между тем как этот последний город есть в одно и то же время большой рынок и передовая крепость Берлина на берегах Эльбы, Франкфурт исполняет совершенно мирное назначение: в наши дни это город открытый, и существовавшие в нем некогда укрепления давно заменены красивыми домами и бульварами. Город Кюстрин, лежащий севернее Франкфурта, на той же реке, при оконечности низменного, перерезанного каналами, полуострова, образуемого мысом Одера и Варты, служит для Берлина военным прикрытием с востока, по сю сторону Познани. В окрестностях Франкфурта и Кюстрина многие места замечательны по происходившим в соседстве их битвам; так, здесь находятся деревни Цорндорф, где Фридрих II одержал победу над русскими в 1758 году, и Куннерсдорф, где он был разбит на голову в следующем году, так что считал себя окончательно погибшим.
Река Варта почти равна Одеру, если не обилием вод, то по крайней мере длиною своего течения: но она орошает область гораздо менее богатую в отношении развития земледелия и промышленности,—область, где многолюдные общины встречаются очень редко. В бассейне её южного притока, Просны, которая составляет границу между прусскою Польшею и Царством Польским, следуют один за другим небольшие города: Кемпно (по-немецки Кемпен), Острово, Плешев (Плешен); далее встречаем город Шрем (Шрим), лежащий в главной долине, на берегах Варты; вблизи соседнего городка, Курника, находится старинный замок, памятник четырнадцатого столетия, обладающий очень богатою библиотекою. Познань, столица великого герцогства Познанского, тоже стоит на Варте, которая судоходна только для маленьких судов. В наши дни более немецкий, чем польский город, Познань не имеет той важности, какую имела в шестнадцатом и семнадцатом столетиях, когда ярмарки её посещались купцами, приезжавшими из России. В те времена население города, как говорят, доходило до 75.000 душ; но войны, иноземное нашествие, завоевание обратили его почти в пустыню: всего каких-нибудь пять тысяч жителей оставалось в обширном пространстве, занимаемом городом, когда Пруссия учредила там местопребывание своей администрации в присоединенной Польше. В настоящее время город Познань важен преимущественно как складочное место для земледельческих произведений края; вместе с тем он имеет первостепенное значение с военной точки зрения, так как это сильная крепость, защищающая немецкую границу на западе от Варшавы. Между достопримечательностями города заслуживают внимания музей графов Мельжинских, драгоценная библиотека Рачинских и библиотека общества друзей науки. В Познанском кафедральном соборе замечательны гробницы древних королей Польши и прекрасная капелла в византийском стиле. На северо-востоке от Познани, в области озер и лесов, находится «священный» город Гнезно (по-немецки Гнезен), который легенда, основанная на сомнительной этимологии, называет «гнездом», откуда вылетел белый орел, представляющий польский национальный герб. Имя города, происходящее от слова knez, kniaz (князь), означает «княжеский или стольный город», и, действительно, Гнезно долгое время был столицею Польши, до 1320 года он был местом коронования польских королей.
Ниже Познани, Варта, поворачивающая мало-по-малу в западном направлении, принимает в себя приток Велну, омывающий стены городка Рогожно (по-немецки Рогазен), затем, на пространстве 100 слишком километров, орошает лишь территории незначительных местечек. За городом Сквержиной (по-немецки Шверин), она вступает в пределы провинции Бранденбург и проходит через промышленный город Ландсберг. Здесь Варта течет уже усиленная водами реки Нотеца (по-немецки Нетце), которая и сама, ниже городка Накло (понемецки Накель), на протяжении около 200 километров, не касается ни одного города с населением свыше 4.000 душ, но которая на померанском склоне своего бассейна заключает две большие городские общины—Шнейдемюль и Дейтш-Кроне. К западу от Ландсберга страна делается гуще населенною; на севере от Варты, в области, известной под именем Неймарка или «Новой мархии», главные города—Фридеберг, Сольдин, Арснвальде, Кёнигсберг, родина Адальберта Куна, а на юге—Циленциг, Дроссен, Зонненбург.
По окраине высоких берегов, господствующих над болотистыми, но очень плодородными равнинами Одербруха, встречаем города Врицен, Фрейенвальде, Нейштадт-Эберсвальде, которые отчасти обязаны своим относительным многолюдством и оживленною деятельностью соседству Берлина. На севере от низменности, по которой идет канал Финов, город Ангермюнде тоже расположен на западной террасе, но далеко от реки. Шведт, более важный город, стоит на левом берегу Одера; Грейфенгаген, лежащий уже в соседстве со Штеттином находится на правом берегу реки Реглиц, восточного рукава Одера.
Штетин, главный порт нижнего Одера и важнейший приморский город Пруссии в собственном смысле, расположен на западной стороне дельты этой реки, опираясь о скат плато, откуда видны расстилающиеся внизу болотистые пространства, извилистые воды Одера и аллювиальные косы, выступающие далеко в озеро Дамше-Зее, остаток древнего залива. Штетин служит портом Берлина на Балтике, подобно тому, как Гамбург может считаться портом его на Северном море; но первый имеет в этом отношении то преимущество, что он вдвое ближе к столице, чем вольный город Ганзы. Коммерческий флот Штетина: 118 парусных судов и 80 пароходов; общая вместимость тех и других 41.675 тонн.
Движение судоходства в Штетинском порте в 1895 году:
В приходе: 4.129 судов, вместимостью 1.335.664 тонн; в отходе: 1.163 судов, вместимостью 1.339.363 тонн; всего 8.292 груженых судов вместимостью 2.674.927 тонн.
Движение судоходства в порте Свинемюнде в 1894 году:
В приходе: 606 морских судов, вместимостью 303.103 тонн; в отходе: 601 морских судов, вместимостью 296.960 тонн; всего 1.207 морских судов, вместимостью 600.063 тонн.
Благодаря своему счастливому географическому положению, Штетин быстро увеличивается; но расширению его мешают окружающие его укрепления, и многие промышленные кварталы принуждены были расположиться в некотором расстоянии от городских стен с южной и с северной сторон, на внешних скатах плато. Одно только предместье заключено в городской черте—это Ластади, или «город баласта», построенный, по другую сторону Одера, на топкой земле, укрепление которой потребовало больших трудов и расходов. Чтобы устроить сообщение с городом Дамм, лежащим на востоке от дельты, принуждены были сделать насыпь в несколько верст длиною. По всей вероятности, форты Штетина скоро будут перенесены на другое место, чтобы дать больше простора распространению города. Впрочем, хотя и запертый укреплениями, Штетин довольно хорошо построен. В замке, образующем одну из сторон главной городской площади, родилась императрица Екатерина II.
Как промышленный центр, Штетин занимает одно из первых мест между городами Германии; он имеет кораблестроительные верфи, фабрики локомотивов и машин всякого рода; другие его фабричные заведения производят цемент, глиняную посуду, печи, стеарин, мыло, свекловичный сахар; кроме того, здесь есть водочные и пивоваренные заводы и большие мельницы, перемалывающие зерновой хлеб в огромных количествах. Суда, сидящие в воде не глубже 5 метров, могут подниматься до самого Штетина, выгружать привезенные продукты или товары в склады и брать новый груз на набережной. Пароходы, отправляющиеся в балтийские порты, в некоторые портовые города Англии и даже в Нью-Йорк, отходят из городской гавани; но самые большие суда должны останавливаться в Свинемюнде, передовом порте Штетина и его главной станции морских купален. Города Воллин и Каммин, на Дивенове, восточном протоке Большого гафа, тоже могут быть рассматриваемы, как маленькия передовые гавани Штетина. Воллин или Юлин есть древняя славянская Винета (или Венета, то-есть «город венедов»), о которой летописец Адам Бременский говорит, во второй половине одиннадцатого века, что это «по истине величайший из всех городов Европы». Каково бы ни было истинное его значение между европейскими городами того времени, уцелевшие следы городских стен и других строений несомненно свидетельствуют, что прежде Воллин занимал в тридцать раз более значительное пространство, чем в наши дни; в нем найдены, между прочим, арабские монеты в большом количестве.
На востоке от Штетина несколько рек изливают свои воды в Большой гаф. Одна из них орошает хлебородные поля, окружающие город Старгарт, который некогда был членом Ганзы, и город Гольнов, до которого свободно могут подниматься пароходы. Гольнов тоже принадлежал к Ганзейскому союзу.
Важнейшие города бассейна Одера, на севере от Силезии, с числом жителей в тысячах, по переписи 1890 г. (в скобках цифра населения в 1895 г.):
Великое герцогство Познанское: Познань 70 (71); Гнезно 18 (20); Равич 12 (12); Лешно (Лисса) 13; Шнейдемюль 14 (16); Острово (10); Кротошин 11; Всхова (Фрауштадт) 7; Плешев (Плешен) (6); Кемпно (Кемпен) 5; Накло (Накель) 7; Рогожно (Рогазен) (5).
Бранденбург: Франкфурт-на-Одере 56 (57); Губен 29 (31); Ландсберг 28 (30); Форст 24 (28); Зорау 14; Кюстрин 17 (18); Зоммерфельд 11; Нейштадт-Эберсвальде 16 (19); Шведт (10); Швибус (8); Арнсвальде 8; Кросно (Кроссен) 7; Ангермюнде 7; Кёнигсберг (в Неймарке) 6; Фрейенвальде-на-Одере 7; Фридеберг 6.
Померания: Штетин 116 (132); Старгард 24 (25); Свинемюнде 9; Гольнов 8; Пириц (8); Грейфенгаген 7.
Западная Пруссия: Дейтш-Кроне 7.
Морской склон восточно-померанской плоской возвышенности не благоприятствовал возникновению значительных городов. Берег, обращенный к северо-западным ветрам, опасен для судов и не представляет для них надежного, хорошо защищенного убежища; реки, устья которых служат портами, отчасти заграждены при входе песчаными мелями, да и течение их слишком коротко для того, чтобы на них могли основаться важные рынки; наконец, и плодородные местности встречаются редко; климат там суровый, и посевы медленно зреют. Несмотря на то, постоянно увеличивающееся заселение края и успехи местной промышленности способствовали, совокупно с административною централизациею, превращению незначительных местечек в настоящие города. Шифельбейн, Лабес, Регенвальде, Грейфенберг, Трептов—главные города области, через которую протекает река Рега, между Штетином и Кольбергом (Колобржег); этот последний город, лежащий при устье реки Персанте, и Кеслин или Цеслин, близ прибрежного озера или лагуны Ямунд, тоже достигли значительной степени благосостояния; Рюгенвальде, при устье реки Виппер, которая перед тем протекает через городок Шлаве и его округ, есть самый оживленный и наиболее торговый порт на всем этом побережье; Штольп или Штольпе, стоящий на реке того же имени, замечателен как самый многолюдный город восточной Померании; Белгард, древний Бялыгрод или Белгород славянских поморов, сохранил до сих пор свое относительно важное значение между городами внутренней части края; Драмбург, Новый Штетин стоят на водораздельном кряже между скатом прибрежья и скатом, обращенным к Варте; наконец, на востоке встречаем город Лауенбург, лежащий уже в круге притяжения Данцига.
Значительнейшие города восточной Померании, между Одером и Вислою, с числом жителей в тысячах, по переписи 1890 года (в скобках цифра населения в 1895 г.):
Штольп (Штольпе) 24 (25); Кеслин (Цеслин) 18 (18); Кольберг (Колобржег) 17 (17); Лауенбург 8; Бельгард (Белград) 7; Грейфенберг 5.
Торн, древний Торунь поляков, стоит на правом берегу Вислы, в том месте, где эта великая река вступает на территорию нынешней Пруссии; его старый деревянный мост, недавно сгоревший, был единственный постоянный мост на нижнем течении Вислы; теперь Торн имеет великолепный железнодорожный путевод, длиною около 800 метров, один из самых длинных мостов, построенных через могучую реку. Торн был театром одного из чудовищных преступлений, внушенных религиозною ненавистью,—театром избиения протестантов в 1724 году; но этот город имеет и другие, более светлые, исторические воспоминания: на одном из его домов начертано имя одного из тех гениев, которым человечество наиболее обязано своим умственным величием: Торн есть родина польского астронома Коперника, «terrae motor, solis stator» («двинувшего землю и остановившего солнце»). «Царица Вислы», как прозвали Торн, не играет, как прежде, роли посредника торговых сношений, но как стратегический пункт, наблюдающий за границами русской Польши, он все еще имеет для Германии первостепенную важность. Река Дрвенца (по-немецки Древенц), впадающая у этого города в Вислу, служит общею границею двух империй в большей части своего течения, между Торном и Страсбургом (по-польски Бродница). На юго-западе, Иноврацлав, бывший главный город польского Палатината, занимает вершину гипсовой скалы, которую недавно пробуравили в окрестностях до глубины 130 метров, где оказались огромные пласты каменной соли Этот город важен, как земледельческий центр Куявии, одной из самых хлебородных областей центральной Европы.
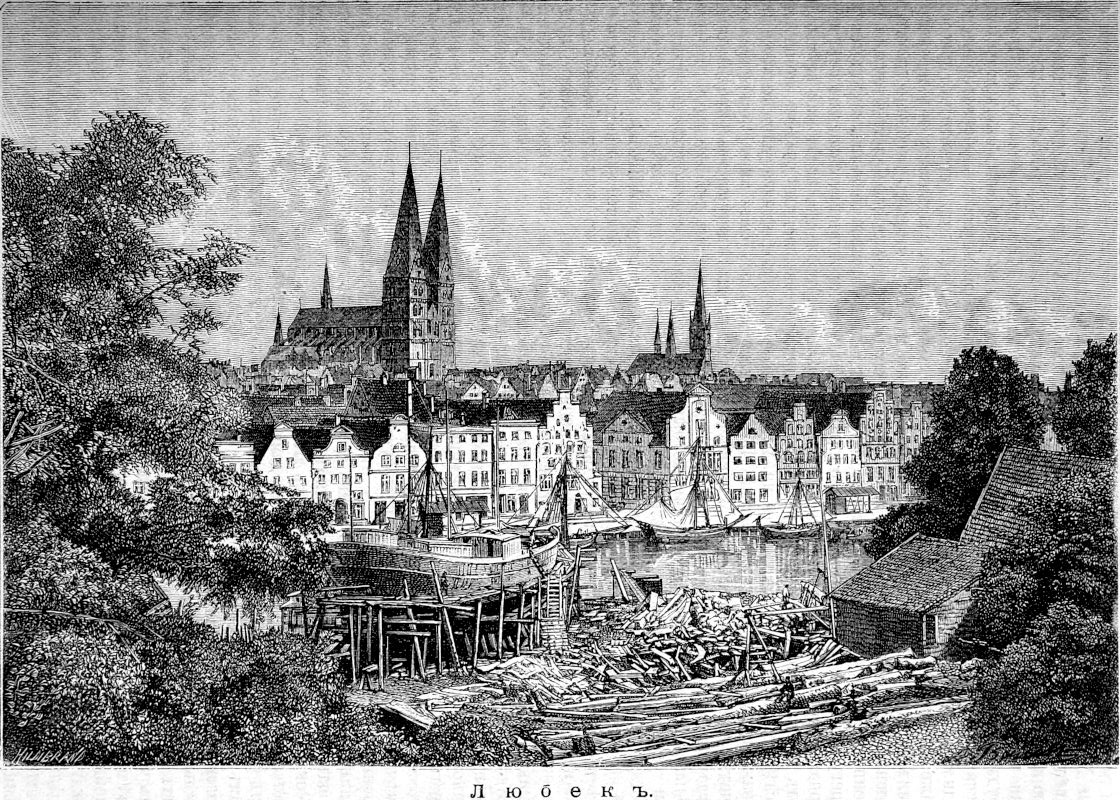
Бромберг (по-польски Быдгощ), самый многолюдный город в бассейне Вислы, между Варшавою и Данцигом (Гданском), стоит не на главной реке, а на её притоке, Браге (Брда), боковой речке, которая захватывает в нижней части своего течения поперечную низменность, где текут Нотец (Нетце), затем Варта, главный приток Одера. Таким образом, Бромберг находится как-раз у оконечности естественного пути, который идет из Магдебурга и Берлина к Висле. Основанный рыцарями Тевтонского ордена, которые вообще умели удачно выбирать местоположение для своих замков, укрепленных и торговых пунктов, Бромберг, благодаря своему счастливому географическому положению, скоро сделался центром очень деятельных торговых сношений; особенно в четырнадцатом столетии он пользовался большим значением, как один из складов хлебного товара, для гданских хлеботорговцев. В новейшее время проходящие через него железные дороги и соединительный канал между бассейнами Вислы и Одера (канал этот проведен из р. Нотец или Нетце в р. Браге или Браа, от города Накло до Бромберга) возвратили ему его прежнюю важность. Кониц, который тоже был одною из крепостей Тевтонского ордена в верхнем бассейне реки Браге, занял видное место между городами Пруссии.
Ниже колена, где Висла принимает в себя приток Браге, она извивается вдоль основания террасы, на которой стоит город Кульм или Хелмно, затем, у городка Свец или Швец, получает новый приток, реку Черную или Шварцвассер, и омывает набережные торгового города Грауденца (по-польски Грудзионж), стоящего на месте древнего языческого города Радзынь, и близ которого находилась крепость, выдержавшая много осад. Ниже встречаем Мариенвердер (Квидзынь), один из древнейших городов Тевтонского ордена, расположенный вокруг своей укрепленной церкви; он построен не на самом берегу Вислы, но на скатах высокого или нагорного берега, господствующего, на западе, над аллювиальною равниною реки. Вскоре после того, могучий поток делится на два рукава: меньший из них, называемый Ногат, течет на северо-восток к Мариенбургу, тогда как главный, известный под именем Большой Вислы, ударяется о массивные быки или устои диршауского железнодорожного моста, одного из колоссальнейших сооружений новых времен; этот громадный путевод имеет шесть пролетов, а общая длина его 837 метров. Город Диршау, хотя зависящий от округа, в котором на степень главного административного пункта возведен городок Прусский Старгард, быстро увеличивается в отношении числа жителей и развития промышленной деятельности; благодаря железным дорогам, которые сходятся на его станции, он сделался фабричным городом. Диршау замечателен как родина известного путешественника Рейнгольда Форстера.
Данциг, по-польски Гданск. очень древний город, стоит при устье Вислы, опираясь на высокие холмы, у основания которых расстилаются равнины речной дельты, и с давних пор служит естественным складочным местом для товаров, составляющих предмет торговых сношений между областью низовья Вислы и заморскими странами. С окружающих гор данцигские жители могут обозревать часть своей территории, извилистые воды могучей реки, блистающие там и сям среди зелени деревни, группы домов, рассеянные между деревьями, правильную цепь дюн, которая тянется на северо-востоке в виде бесконечной кривой, и по ту сторону залива, усеянного судами, длинный белый полуостров или косу Гола. «Вид Данцигского залива—говорят жители—один из семи первых видов в свете». И точно, вид этот необыкновенно красив, особенно с лесистых высот, обрамляющих его на западе. На одной из этих возвышенностей находится древнее аббатство Олива, прославившееся своею знаменитою хроникою, которая составляет один из драгоценнейших письменных памятников для местной истории.
Именно по причине своей важности, Данциг испытал много превратностей судьбы. После отделения от Тевтонского ордена, в половине XV столетия, он отдался под защиту Польши, на правах вольного города, затем в 1793 году отошел к Пруссии, потом в 1807 году опять стал вольным городом, с французским губернатором, и, наконец, в 1814 году окончательно присоединен к прусским владениям. Он перенес много осад, из которых особенно замечательны осады, выдержанные Калькрейтом, в 1807 г., против маршала Лефевра, затем генералом Раппом против пруссаков в 1812 и 1813 г.: часто торговля его, вследствие войны, приходила в совершенный упадок, но он каждый раз снова поднимался, как только населению возвращались блага мира. Во времена его республиканского могущества и процветания, когда он был одним из главных городов Ганзейского союза, и даже под польским владычеством, Данциг имел свои собственные законы (Danziger Willkur), собственную монету, свои особенные обычаи; это была «Северная Венеция», не только по каналам, которые пересекают ее, и по строениям, воздвигнутым на сваях, но также по значительному влиянию, которое она оказывала, на все окрестные населения. От этой славной эпохи город сохранил еще во многих кварталах многочисленные здания, придающие ему оригинальный вид: старинные церкви, средневековая ратуша с дозорною башнею, биржа, высокие дома с резными фронтонами и широкими лестницами, украшенными львами и другими статуями, из которых многие вывезены из Венеции и других мест Италии. Филипп Клювье, один из творцов исторической географии, физик Фаренгейт, философ Шопенгауэр, живописец Мейергейм родились в Данциге.
Один из островов старого города, окруженный рукавами медленно текущей реки Мотлавы, которая впадает в Вислу за чертою укреплений, застроен колоссальными хлебными амбарами в шесть и семь этажей; в этих-то громадах помещается большая часть богатства Данцига. Прежде из боязни пожаров, ни надзиратели, ни работники никогда не оставались на этом острове в ночное время; там никогда не зажигали никакого огня, ни даже лампы; мосты через Мотлаву вечером запирались, и свирепые цепные собаки бродили на воле вокруг амбаров. Вообще хлебная торговля во все времена была главным источником обогащения для жителей Данцига. С наступлением весны начинается подвоз к порту хлебного товара из внутренних местностей. По различным судоходным рекам бассейна Вислы, немецкой, польской, даже галицийской, спускаются плоскодонные суда, нагруженные хлебом, которые иногда употребляют целые месяцы на плавание по течению главной реки; если лето жаркое и сырое, то зерно нередко пускает ростки в поверхностном слое, что придает баркам вид пловучих лугов. По прибытии к месту назначения, экипажи—немецкие, польские или pyсинские—этих флотилий выбрасывают в реку попорченное зерно, выгружают свои ладьи, затем рубят их на дрова и возвращаются пешком на родину. Но, понятно, этот первобытный способ перевозки должен исчезнуть рано или поздно; пароходы и железные дороги, заменяющие прежния барки, привозят зерно в лучшем состоянии и тем самым дают возможность негоциантам скорее и выгоднее сбывать товар. В последние годы эта отрасль торговых сношений Данцига стала даже уменьшаться, потому что рельсовые пути отчасти дали хлебной торговле более западное направление; в 1862 г. он вывез слишком 300.000 тонн хлеба, а десять лет спустя уже только треть этого количества.
Но город, который прежде был вторым приморским портом Германии, а теперь сделался уже только пятым, сохраняет еще важное значение по торговле лесом, которого он отправляет ежегодно на сумму около 30 миллионов франков. Кроме того, он ввозит в большом количестве колониальные товары, мелкие железные и медные изделия, каменный уголь, в обмен на продукты, отправляемые им в английские порты, с которыми его судохозяева ведут наиболее обширные сношения.
Торговый флот Данцига в 1892 году состоял из 45 парусных судов и 36 пароходов, общей вместимостью 31.096 тонн.
Обороты морской торговля в 1891 г.:
Привоз—на сумму 621/4 миллионов марок, вывоз—на сумму 1091/2 миллионов марок. Движение судоходства: в приходе 1.836 судов, вместимостью 640.032 тонн; в отходе 1.831 судно, вместимостью 634.117 тонн.
Промышленность Данцига возрастает с каждым годом; фабрики суконные, бумажные, химических продуктов, водочные заводы, приготовляющие знаменитые данцигские ликеры, мастерские машин, верфи всякого рода все более и более увеличивают пояс предместий за чертою городских валов.
Старинный город Мариенбург (Мальборг), стоящий на правом берегу Малой Вислы или Ногата, никогда не имел такого важного торгового значения, как Данциг, но зато он был столицею обширного владения, границы которого беспрестанно менялись, смотря по результатам бесконечных войн. Тевтонский орден, владевший этою державою, в 1400 г., в эпоху своего наибольшего могущества и процветания, насчитывал в своей среде более 3.000 рыцарей и слишком 6.000 оруженосцев, не считая армий из крестьян, и имел 55 городов, 48 крепких замков, 18.368 сел и деревень. Орденская крепость, бывшая в то же время церковью и дворцом, и теперь еще господствует над городом своею громадною массою. Эта мариенбургская крепость-монастырь, несмотря на свой мрачный и грозный вид, по некоторым из её зал может быть причислена к лучшим зданиям готической архитектуры в Германии; особенно замечательна аудиенц-зала, свод которой держится на одной колонне. Орнаменты дворца принадлежат к разнообразнейшим стилям, что объясняется участием в постройке рыцарей-зодчих, пришедших из всех частей Германии; но общий вид отличается замечательною гармониею. Впрочем, в новейшее время пришлось реставрировать почти всю внутренность здания, которая была повреждена и обезображена всякими манерами, особенно в первый период прусской оккупации, с 1772 по 1804 год. Мариенбург имеет еще другой памятник внушительного вида: это—прекрасный железно-дорожный мост о двух пролетах, перекинутый через Ногат.
Эльбинг, древний Трузо,—чисто немецкий город; основанный в 1237 году, среди славянских племен и боруссов или пруссов, он получил своих первых обитателей из Любека и Мейсена; сделавшись, два века спустя, маленькою республикою под протекторатом Польши, он называл себя соперником Данцига. И, действительно, местоположение его имеет много сходства с географическим положением Данцига; подобно городу, с которым он часто враждовал, Эльбинг стоит в одном из нижних углов аллювиальной равнины, не на самой Висле, а при соседней боковой реке, носящей одинаковое с ним имя; к несчастию, мелководность его порта не позволяет ему более бороться с «Северною Венециею» в отношении морской торговли. Он принужден был обратиться к промышленности, и теперь в нем существует большое число фабричных заведений всякого рода. Эльбинг—естественный рынок всей озерной области, которая тянется на юго-востоке по направлению к городу Остероде, и которую пересекают каналы, очень полезные для лесной промышленности. На юге от Остероде, у деревни Танненберг, произошла, в 1410 г., решительная битва, сокрушившая могущество Тевтонского ордена: грозная девяностотысячная армия немецких рыцарей была почти совсем истреблена войском польского короля Ягелло или Владислава II. В этой кровопролитной сече пал сам великий магистр, или гросмейстер ордена, с шестьюстами рыцарей и оруженосцев и 40.000 орденских солдат.
Главные города прусской области бассейна Вислы, с числом жителей в тысячах, по переписи 1890 года (в скобках цифра населения в 1895 г.):
Данциг (Гданск) 120 (125); Эльбинг (Эльблонг) 42 (45); Бромберг (Быдгощ) 41 (46); Торн (Торунь) 27 (30); Грауденц (Грудзионж 20 (23); Диршау 12; Кульм (Хелмно) 10; Иновроцлав 17 (19); Мариенбург (Мальборг) 10; Кониц 10; Мариенвердер (Квидзынь) 9; Остероде (11).
Браунсберг, на северо-востоке от Эльбинга, лежит, как и этот последний, близ берегов залива Фришгаф, при судоходной реке Пассарге, по обе стороны которой тянутся превосходно возделанные сады; фарватер его порта недостаточно глубок и потому недоступен для больших судов. Этот город есть главная станция между Эльбингом и столицею Восточной Пруссии, растущим городом Кёнигсбергом, основанным в 1255 г. тевтонскими рыцарями, которые дали ему это имя (Konigsberg—королевская гора) в честь богемского короля Оттокара.
Кёнигсберг (по-польски Кролевец, по-литовски Каралаучиус), состоящий из трех отдельных городов, слившихся в один, сохранил в своем королевском замке кое-какие остатки древней крепости тевтонских рыцарей. Великое имя Канта все еще парит над университетом, где читал свои лекции автор «Критики чистого разума». Под аркой собора, в «Stoa Kantiana», стоит бюст философа, с надписью: «Звездное небо над моей головой, а нравственный закон в моей совести». Кёнигсбергский университет (Collegium Albertinum)—одна из богатейших главных школ Германии, одно из тех высших учебных заведений, которые пользуются наибольшим пособием из прусской государственной казны, хотя по числу слушателей он далеко не из первых между немецкими университетами. В 1882 году в Кёнигсбергском университете числилось 90 профессоров и 876 студентов; библиотека его состояла из 220.000 томов; годовой бюджет университета составлял около 800.000 франков. Кроме того, в этом городе существуют различные ученые общества; но самое многочисленное общество—это торговая корпорация, которой город обязан постройкою биржи и основанием коммерческого училища. Торговая деятельность Кёнигсберга весьма обширна; по размерам, она почти вдвое превосходит торговые обороты Данцига. Глубоко сидящие в воде суда не могут подниматься до самого города, потому что река Прегель не имеет более 3 метров глубины; тем не менее, парусные суда и пароходы толпятся вдоль набережных и в доках. Будучи складочным пунктом для произведений земледельческих и лесных стран, Кёнигсберг отправляет за границу преимущественно лен, пеньку, паклю, лес; здесь же локализировалась торговля янтарем. Многочисленные фабрики и заводы рассеяны в самом городе и во внешних предместьях, вокруг сильных укреплений, которые ставят Кёнигсберг на степень первоклассной крепости. К несчастию, столица Восточной Пруссии есть один из тех городов Германии, где бедность делает наиболее жертв: целая четверть городского населения считает по 6 жителей на комнату; эта скученность является следствием нищеты. Двое из прусских королей, Фридрих I и Вильгельм I, короновались в Кёнигсберге.
Порт Пиллау, лежащий при протоке залива Фришгаф, может быть рассматриваем как предместье или пригород Кёнигсберга, хотя он находится в расстоянии около 40 километров по прямой линии, в западном направлении; почти все суда, приходящие в этот порт с берегов Балтики и океана, нагружены товарами, предназначенными для негоциантов соседнего большого города; Пиллау есть не более, как передовая гавань Кёнигсберга; сам же по себе этот городок не имеет независимого существования. С той поры, как русская железнодорожная сеть соединена с Кёнигсбергом и Пиллау рельсовым путем, торговля этого порта Балтики учетверилась. Так как Пиллау не бывает зимою заперт льдом, как порты Риги, Ревеля, Петербурга, и следовательно в продолжение всего года открыт для судоходства, то это важное преимущество давало ему все шансы сделаться главным местом для отправления морем произведений России. В виду этого, должны были предпринять обширные работы, чтобы увеличить площадь доков; но, с другой стороны, обустройство Либавского порта позволило русским перевести большую часть торгового сообщения на свою территорию.
Движение судоходства в портах кёнигсбергском и пиллаусском в 1893 году:
В Кенигсберге: прибыло 1.320 морских судов, вместимостью 371.719 тонн, в том числе 913 пароходов, вместимостью 336.372 тонны; вышло 1.545 морских судов, вместимостью 451.394 тон., в том числе 1.078 пароходов, вместимостью 411.753 тонны.
Товарное движение в портах и на станциях железных дорог в 1893 году представляло в сложности ценность:
По привозу—191.943.863 марок, по вывозу—151.894.359 марок.
В Пиллау: прибыло 370 морских судов, вместимостью 179.700 тонн; вышло 279 морских судов, вместимостью 180.832 тон.
Многие городки и деревни побережья также обязаны своим важным значением городу, стоящему при устьях Прегеля: это станции для морского купанья, рассеянные по берегу моря. Из этих станций жители Кёнигсберга всего более посещают, во время купального сезона, деревню Кранц, расположенную на великолепном пляже Курляндской косы (Курише-Нерунг).
Города, рассеянные на юге от Кёнигсберга, среди лесов и озер, Алленштейн, Гейльсберг, Бартенштейн, Растенбург, замечательны как маленькие рынки для окрестных деревень; Лык, обогащается контрабандой; но торговая жизнь устремилась главным образом на восток, в долину Прегеля, по которой поднимается железная дорога, разветвляющаяся по другую сторону границы,—к Петербургу и Москве; в этой долине следуют один за другим, на прусской территории, города Веллау, Инстербург, Гумбиннен; далее встречаем станцию Эйдкунен, сделавшуюся одним из богатейших местечек края. Форт Бойен, имеющий назначение защищать границу со стороны России, стоит на узком перешейке среди Мазовецкой области: из многочисленных укрепленных мест Германии—это единственная крепость, не заключающая гражданских жителей в своих стенах.
Один важный город лежит на берегу реки Мемеля или Немана, уже в аллювиальной равнине дельты, но выше точки разделения многочисленных рукавов, текущих к заливу Курише-гаф: это Тильзит (по-литовски Тыльжа), вблизи которого возвышается Ромбинус, некогда священная гора литовцев. Тильзит, славящийся ныне своими ярмарками, приобрел в 1807 году всемирную известность, как место подписания трактата, создавшего два новые государства—королевство Вестфалию и герцогство Варшавское, из земель, принадлежавших до того времени Пруссии и России. Две великия битвы подготовили этот трактат: одна при Прейсиш-Эйлау, в 38 километрах к югу от Кёнигсберга, другая при Фридланде на р. Алле, почти в таком же расстоянии на юго-востоке от главного города края.
В узкой полосе прусской территории, продолжающейся на север, между русскими владениями и водами Балтики, Мемель (по-литовски Клайпеда) есть единственный город, заслуживающий этого названия. Расположенный далеко от реки того же имени, при протоке или узком проливе, через который воды Курляндского залива (Курише-гаф) изливаются в Балтийское море, Мемель представляет скорее русский, чем немецкий порт по месту происхождения и месту назначения продуктов, складываемых в его амбарах и перевозимых на его судах. Он отправляет преимущественно лесной товар, привозимый из лесов внутренней части страны (леса вывозятся, ежегодно, на сумму от 20 до 25 миллионов франков), хлеб, лен, пеньку, присылаемые ему земледельцами Литвы и Самогитии. Его заводы, лесопильные и литейные, фабрики машин и искусственных удобрений тоже работают главным образом для жителей соседней империи.
Торговый флот Мемеля в 1893 году: 33 морских судна, в том числе 13 пароходов; общая вместимость: 12.993 тонны.
Движение судоходства в 1893 году: в приходе: 801 морское судно, 229.550 тонн; в отходе: 824 судно, вмест. 234.195 тонн; торговый оборот: 134 миллиона марок.
Тильзит и Мемель замечательны, кроме того, как самые значительные складочные места для контрабандных товаров, которые прусские купцы переправляют, при помощи посредников еврейского племени, через тройной кордон русских таможень. Почти все предметы, принадлежащие к произведениям мануфактурной промышленности, которые вы увидите в русской Литве и Самогитии, пришли через немецкую границу без уплаты таможенной пошлины. Мемель—родина астронома Аргеландера.
На севере от Мемеля тянутся до русской границы низменные земли мало плодородные, покрытые песком и валунами, где растут кучками слабосильные сосны. Деревня Ниммерзат (ненасытный) есть последняя группа немецких домов, окруженная настоящею пустынею.
Важнейшие города Пруссии, на восточной стороне бассейна Вислы, с числом жителей в тысячах, по переписи 1890 г. (в скобках цифры населения в 1895 г.):
Кёнигсберг (Кролевец) 162 (171); Мемель 19 (20); Тильзит 25 (26); Инстербург 22 (23); Браунсберг 11; Гумбиннен 12; Бартенштейн 6; Алленштейн 19; Растенбург (8); Лык 10.