Глава VI Венгрия, страна мадьяр.
Венгрия и Трансильвания, которые, в силу конституционной фикции, политически отделены от остальной Австрии и действительно отличаются от неё в отношении внутреннего управления, пользуются, в сравнении с провинциями другой половины империи Габсбургов, Цислейтаниею, тою немаловажною выгодою, что они имеют истинное единство в географическом смысле. Правда, сербские и хорватские земли, лежащие за Дунаем, а также территория Реки (Фиуме), были присоединены к Венгрии вопреки их естественному сродству; но если не брать в рассчет этих областей, населенных почти исключительно славянскими народностями, то Венгерское королевство является одною из тех частей Европы, которые представляют, несмотря на различие живущих в нем рас, наиболее однородное и сплоченное целое.
| Пространство, кв. кил. | Население 31 дек. 1890 г. жит. | Километрическое население, жит. | |
| Венгрия и Трансильвания | 282.804 | 15.232 159 | 54 |
Много уступая немецкой Австрии числом жителей, богатством и цивилизациею, Венгрия, взамен того, превосходит ее, с политической точки зрения, формою своей территории и группировкою населяющих ее народов. Тогда как цислейтанская Австрия тянется от берегов Рейна до берегов Днестра длинною неправильною полосою гор и равнин, которая последовательно съуживается и расширяется, принимая странные формы, Венгрия является в центре континента под видом почти правильного овала низменных земель, окруженного естественною оградою из гор. Середину этой столь отчетливо ограниченной страны занимает обширная равнина, которая некогда была огромным озером; другие второстепенные бассейны, на западе—Пресбургский, на востоке—Трансильванские, наполняют остальную часть этого громадного амфитеатра, но соединяясь с равнинами центральной Венгрии покатостью почвы и водоскатами. Точно также важнейшая раса края, та, которая силою оружия, равно как влиянием языка, нравов и упреждений, приобрела уже много веков тому назад преобладающее значение в области Карпатских гор, занимает обширную центральную равнину по обоим берегам Дуная, а другие народности размещены по окружности таким образом, что они необходимо должны тяготеть к господствующей национальности всеми своими материальными интересами. Оттого-то, несмотря на вражеские нашествия и войны, не взирая на взаимную национальную ненависть, различные народы Венгрии обязаны были именно этому замечательному географическому единству их территории тем, что они почти всегда оставались сгруппированными, добровольно или насильно, под одним и тем же политическим режимом. Порабощенные все вместе сначала турком, потом австрийцем, они соединились теперь в одно самостоятельное государство, гордящееся тем, что оно снова завоевало внешние знаки своей независимости. Какая судьба предстоит ему в ближайшем будущем? Все с беспокойством следят за большой переменой равновесия, которая быстро совершается в придунайской Европе, давая южным славянам большую связь и сознание своей роли; но какова бы ни была будущая политическая группировка населений Востока, нация, водворившаяся на обширной арене, окруженной Карпатами, без сомнения, всегда будет иметь самую широкую долю влияния в завоеванной и защищаемой ею территории. Часто утверждали, что владычество над миром должно принадлежать исключительно людям арийской расы, и что другие этнические семьи обречены носить ярмо: хорошо, для будущности человечества, что в самой Европе, и при том в жизненной части континента, именно нация не арийского племени, хотя и сильно породнившаяся с другими европейскими народностями посредством скрещений, играет главную роль. На высокомерные притязания индо-европейцев мадьяры отвечают своею историею. Как все народы, они имели большие слабости и недостатки; но, тем не менее, кто из их соседей осмелится сказать, что он выше их умом, храбростью или любовью к свободе!
Альпы лишь в незначительной степени участвуют в образовании громадной ограды из гор, окружающей Венгрию. С высот, господствующих над Веною, можно различить на восточном горизонте силуэт синеватых холмов, за которыми в средние века начинался уже таинственный Восток. Эти холмы, называемые Лейтанскими горами, по имени реки, омывающей их западное основание, составляют продолжение Штирийских Альп, но они представляются почти уединенными: долина реки Вульки, пески и слои гравия отделяют их на юге от известковой цепи гор Розалии, соединяющихся с группою Земмеринг. Многие другие гряды высот, отделяемые одна от другой небольшими притоками рек Рабы, или Рааба, и Мура, тоже примыкают к альпийским массивам Штирии.
На севере от Балатона или Платтенского озера самостоятельная горная группа, Баконьи (Bakonu), совершенно отделенная от разветвлений Альп равниною, состоящею из третичных каменных пород, представляет несколько прекрасных вершин в форме куполов, между которыми открываются глубокия ущелья, имеющие очень живописный вид, благодаря разнообразию окружающих масс и окаменелым потокам лавы, вылившимся из древних вулканов: общая ось гребня параллельна оси западных Карпатов. В своей совокупности, эти горы, называемые немцами «Баконьевским лесом» (Bakonyer Wald), следуют тому же направлению, как и Венские Альпы, то-есть с юго-запада на северо-восток; равным образом горы, составляющие продолжение их к стороне Дуная, Вертеш (Vertes, т.е. «одетые в латы»), Пилиш, тянутся в том же направлении, поднимаясь своими юрскими верхушками до высоты от 400 до 700 метров. Гора Пилиш, так же, как Лейтанские холмы и Лысые горы (Каленгебирге) в окрестностях Вены, представляет один из поперечных барьеров, заставляющих Дунай уклониться в сторону от своего нормального течения: эта гора возвышается как один из столбов Вышеградских ворот, через которые проходит река, прежде чем повернуть на юг к большому колену, которым она вступает в Венгерскую низменность, и которое образуется вследствие впадения её притока, реки Вац (Vacz).
Высота главных горных вершин Венгрии к югу от Дуная: Гешрибенштейн (предгорья Штирийских Альп)—876 метров; Зонберг (Лейтанские горы)—488 метров; Мечек (Mecsek)—671 метр; Кёрёшгедьи (Koroshegy) или Кёришгедьи, в цепи Баконьи—707 метров; Пилиш (Pilis)—775 метров.
Долины, перерезывающие оба склона этих горных групп западной Венгрии, отличаются поразительным параллелизмом, они все одинаково направляются на северо-запад или на юго-восток, и все овраги, все углубления почвы в равнинах, все ручьи, а следовательно почти все дороги и тропинки следуют тому же направлению: при взгляде на карту кажется, что местности, лежащие по обе стороны гор, словно были тщательно расчесаны, как руно шерсть. На западе от Балатона, бреши, открывающиеся между горными группами, тоже параллельны между собою, но там холмы разрезаны геологическими деятелями по направлению с юга на север. Наконец, вся территория треугольной формы, ограничиваемая Платтенским озером, Дравою и Дунаем, представляет подобное же явление в своих различных массивах и особенно в группе Мечек (Mecsek), окруженной со всех сторон низменными землями, которые выравнены водами древних потоков. Там долины и углубления равнины расположены так же, как и в цепи Баконьи, то-есть направляются на северо-запад или на юго-восток, смотря по скату гор.
Чем объяснить это рассечение гор и холмов на куски, отличающиеся такою замечательною правильностью? Очевидно, долины были размыты таким образом водами, но только не проточными водами, как это мы видим в обыкновенных долинах. Вообразим себе равнины Венгрии совершенно наполненными двумя внутренними морями, из которых одно заперто в нижней своей части горами Пилиш, у Вышеградского ущелья, а другое, гораздо более обширное, поддерживается на определенном уровне горами, ограничивающими Банат на востоке; между этими двумя морями группы холмов явятся там и сям в виде удлиненных островов или в виде архипелагов. Но как только преграда, задерживавшая такое море или озеро, уступит напору жидкой массы, вода быстро начнет спадать или выливаться, образуя рытвины в почве по направлению, перпендикулярному к центру озерного бассейна. Это совершенно то же явление, которое мы увидим в миниатюре на тинистых берегах живорыбного садка, если вдруг поднимем его затвор: на этих берегах тотчас же образуются параллельные борозды, которые делаются все глубже и длиннее по мере того, как понижается уровень жидкой поверхности. Таким образом, когда воды обширного озера, расстилавшагося у подошвы гор Баконьи и Вертеш, нашли себе выход, на скатах этих гор мало-по-малу образовались правильные долины, направленные на северо-запад, то-есть к середине бывшего озера; далее на западе, долины, напротив, открываются в северном направлении, следовательно опять-таки по направлению нормальной покатости почвы; словом, каждая группа высот перерезана долинами, спускающимися к центральной впадине, которая разделяет эти высоты. По обеим сторонам бассейна, дно которого и теперь еще занято Платтенским озером и его продолжением, озером Валенце (Valencze), затем на юге, на склоне, обращенном к месту слияния Дравы и Дуная, все борозды, вырытые бежавшими некогда потоками, также указывают на быстрое отступательное движение, которому следовали эти воды с той и другой стороны. Вследствие обширных размывов, которые имели здесь место, многие застывшие потоки лавы сделались уединенными плато, а массы базальта, освобожденные от горных пород, составлявших их верхнюю оболочку, образуют теперь выступы на подобие башен.
Если часть ограды, образуемая на юго-западе Венгрии горами альпийской системы, перерезывается широкими брешами, то большой полукруг высот, за которым географы со времен Птоломея сохранили славянское название Карпатов, представляет, напротив того, сплошной вал, длиною около 1.450 километров, прерываемый лишь небольшим числом долин и ущелий, где горные ручьи с трудом прокладывают себе дорогу через груды каменных глыб. По направлению от северо-запада к востоку и югу бассейн Венгрии со всех сторон ограничен холмами и горами, которые отделяют его от Моравии, Галиции, Буковины и Румынии. Если не считать нескольких дефиле и горных проходов, которыми теперь воспользовались для постройки обыкновенных и железных дорог, венгерцы не имеют других путей сообщения с Западом и Востоком, кроме двух ворот, которые Дунай пробил себе между Альпами и Карпатами. Вверху—так называемые «Венгерские Ворота» (Porta Hungarica), у Пресбурга, внизу—знаменитые «Железные Ворота», у Оршовы, суть единственные естественные выходы, посредством которых население Венгерской низменности, окруженное оградою из гор, может иметь удобное сообщение с внешним миром. Понятно, какое огромное влияние эта непрерывная стена Карпатских гор, вдающаяся, как громадный бастион, в низменные равнины, прилегающие к Черному морю, должна была оказывать на переселения народов, на их вооруженные столкновения и их исторические судьбы.
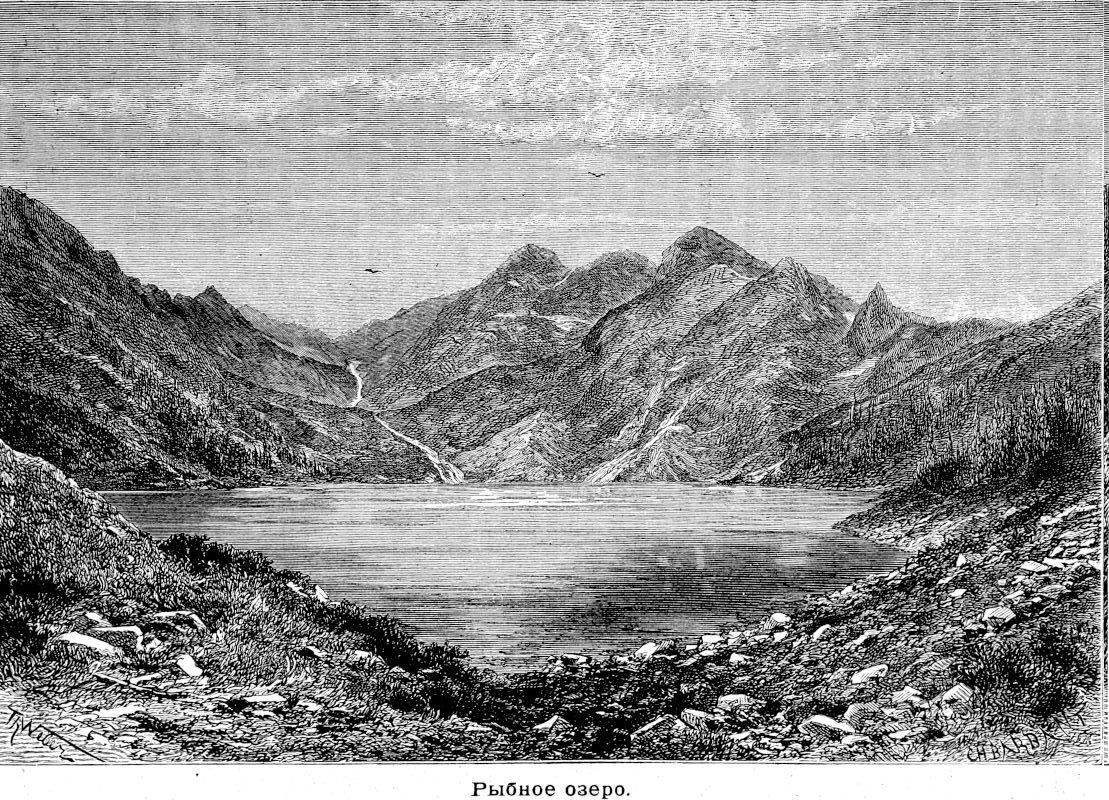
Однообразная в целом, сравнительно с западною частью Альп, цепь Карпатских гор представляет большое разнообразие в деталях своих массивов и второстепенных кряжей и отрогов. Она начинается против последней возвышенности Альпийской системы, непосредственно выше слияния Моравы (по-немецки Марх) и Дуная. Первая вершина, Тебнеркогель или Девеньитето (Devenyiteto), есть самый высокий бугор почти уединенной горной группы; но на севере от впадины или долины, где проходит пресбургская железная дорога, горная цепь снова поднимается и образует более высокий хребет, известный под именем Малых Карпатов. Эта гряда, ограничиваемая еще другою низменностью, продолжается в северном направлении, во-первых, «Белыми горами», получившими такое название от голых скал их доломитовых вершин, затем различными другими маленькими цепями, продолжением которых служат Яворник и группа Бескидов, изгибающиеся постепенно к востоку до бреши хребта Яблунка. В этой части Карпатской системы вершины имеют, средним числом, от 700 до 900 метров высоты; две из них поднимаются даже выше 1.000 метров, и скалы, состоящие во многих местах из метаморфических сланцев, принимают уже кое-где вид настоящей горы; леса и альпийские пастбища еще более увеличивают красоту горного пейзажа.
Далее на востоке, цепь делается очень неправильною в отношении формы и очертаний. Высокие долины, в которых текут река Ваг (по-венгерски Ua’g, по-немецки Waag) и её притоки, равнины, некогда наполненные водами озер, обрывистые ущелья разрезывают горную массу на множество кусков странной формы. Страна имеет более дикий вид, и вершины, между которыми царит Бабья-Гора (Babia Gora), названная так по сходству её формы с фигурою сидящей женщины, поднимаются на более значительную высоту. Все это указывает на близость главной горной группы. Эта группа, Татры, возвышается почти уединенно, на расстоянии около половины градуса к югу от линии, которую описала бы нормальная кривая Карпатов, между кругом долин, образуемых на западе реками Ваг и Арвою, на востоке реками Попрадом и Дунайцем. Если бы какие-нибудь преграды задержали течение этих рек при выходе их из горных ущелий, то воды мало-по-малу поднялись бы и образовали бы обширное круглое озеро вокруг основания группы, о которой идет речь; один только перешеек возвышенных земель, плоскогорье «Высокого Леса», поднимающееся почти на 100 метров выше поверхности бассейнов Вага и Попрада,—на 900 метров над уровнем моря,—соединял бы Татру с горами внутренней Венгрии. На севере порог так называемых «Черных Болот», который в настоящее время скорее соединяет, чем разделяет бассейны Дунайца и Арвы, снова покрылся бы, как и долины самих рек, озерными водами.
Хотя группа Татров гораздо выше окружающих ее гор, средним числом на 1.500 и 1.800 метров, но она значительно уступает, в отношении высоты, большим Альпам, и вершины её не достигают области постоянных снегов; во всех её цирках, где собираются первые вешния воды, можно заметить, даже среди лета, полоски снега и настоящий лед, которых не могут растопить жаркие лучи солнца; но на верхних склонах летом видна только голая скала, хотя облака, содержащие снежные хлопья, часто ударяются о стены горных вершин, даже на высоте 1.800 метров. Это быстрое исчезновение снегов на Татре приписывают сильному наклону вершин. Между большими Альпами и Кавказом—это самая величественная горная группа. Когда смотришь на Татру с гор, которые возвышаются на юге от неё, в виде естественной обсерватории, она поражает крутизною своих стен, мощностью своих хребтов, резкими контурами своих выступов, пирамид, зубчатых гребней; хотя масса её состоит из кристаллических горных пород, но она отличается тою же смелостью профиля, тою же причудливостью очертаний, какие свойственны горам, образованным из песчаников и известняков. На Татре нигде не увидишь длинных хребтов, ни пологих скатов; луга редко где встречаются; везде над зеленым поясом лесов виднеются крутые каменные стены и откосы из обвалившихся камней, лежащих в хаотическом беспорядке. Две её вершины, Ломниц (Lomnicz) и Кешмарк (Ke-mark), разделенные глубокою впадиною или выемкою, которую туземцы называют ущельем, принадлежат к самым величественным по виду горам; оттого первая из них долгое время считалась высочайшею вершиною Татров. Теперь, однако, оказалось, что Ломниц, в отношении высоты, уступает другой вершине, Накотлу или Герлахфальва, которая возвышается в середине этой группы; к северу от Балканского полуострова, это—самая высокая гора восточной Европы.
Удивительно, что такая небольшая группа гор, как Татры, представляющая к тому же со всех сторон очень крутые скаты, содержит такое множество озер. Градский (Hradszky) насчитал их 112, из которых 74 находятся на южном склоне. Впрочем, эти озера по большей части очень маленькия: самое обширное из них, называемое поляками «Большим прудом» (Wielki staw), имеет поверхность менее 35 гектаров. Эти озера или пруды похожи на бассейны, встречающиеся в центральной части Пиренеев, и, подобно пиренейским бассейнам, наполняют своими прозрачными водами гранитные водоемы, расположенные ярусами один над другим в возвышенных долинах. Карпатские горцы называют их поэтически «очами моря» (по-словацки Morskie oko, по-мадьярски Tenherszem, по-немецки Meeraugen), как будто океан подземными ходами поднимает свои воды на высоту гор для того, чтобы они отражали в себе красоты горной природы, живописные картины скал и снегов. Туземные жители уверены, что каждая буря на море производит в то же время волнение в озерных резервуарах Татры. По общераспространенному между местным населением мнению, эти маленькия озера «бездонные», хотя некоторые из них, очевидно, обязаны своим названием «Краснаго», «Чернаго» или «Зеленаго» озера цвету песка, покрывающего дно и виднеющагося сквозь прозрачную воду. Так называемое «Рыбное озеро» (Rybi staw), почти столь же обширное, как и «Большое озеро», имеет только 60 метров глубины в самом глубоком месте; озеро Чорба (Csorba) имеет около 21 метра глубины; глубина другого, тоже якобы «бездоннаго» бассейна, не превышает 5 метров.
Горы Татры не богаты рудными месторождениями, исключая залежей железной руды; однако, жители окружающих долин воображают, что огромные сокровища сокрыты в глубинах горных озер; одно из них будто-бы содержит карбункул (красная вениса) громадной величины, который когда-то блестел, как солнце, на одной из самых высоких вершин; другие озера, по народному поверью, наполнены кусками самородного золота и серебра, состоящими под охраною жаб, имеющих драгоценные камня вместо глаз и держащих в лапах кусочки золота. Одни только колдуны могут, при помощи своих заклинаний, черпать из этого неизсякаемого источника богатств, но и то не без опасности для местного населения, ибо они могут при этом проломить естественные запруды озер и выпустить из них воду в равнину. В 1813 г. знаменитый шведский натуралист Валенберг, которого кто-то из местных жителей видел погружавшим термометр в одно из горных озер, навлек на себя подозрение в намерении спустить воду и затопить соседния поля; по счастью, одна старая женщина сжалилась над несчастным ученым, и ей удалось, хотя и с большим трудом, спасти его от ярости горцев.
Как центральная группа северных Карпатов, Татра окружена со всех сторон более низкими горами, которые, в свою очередь, окружены рядами высот, постепенно понижающихся и, наконец, сливающихся с равнинами. По направлению к югу, на другой стороне долин Вага и Попрада, возвышаются, против высоких вершин Татры, тоже гранитные горы, называемые Малою Татрою или Липтавскими Альпами. Некоторые из их вершин поднимаются выше чем на 2.000 метров; но на западе группы Фатра и Криван-Фатра уже не так высоки: первая из них на 900, а вторая на 400 метров ниже предъидущих. На юге различные отрасли рудных гор и Островские горы не достигают даже высоты 1.500 метров; наконец, между группами, более или менее уединенными, которые вдаются на подобие мысов в равнины Дуная и Тиссы, и которым размывающее действие вод придало самые неправильные формы, самые странные очертания, только одна возвышается почти на 1.000 метров: это Матра, прекрасная вершина которой, имеющая форму конуса, обрисовывается на отдаленном горизонте в виде синеватого шатра. Эта группа составляет часть ряда высот, которыми продолжается в северо-восточном направлении цепь Пилиш (Pilis), прерываемая течением Дуная у Вышеградского прохода.
Почти все массивы, расположенные вокруг Малой Татры, состоят из эруптивых пород, трахитов, базальтов, туфов, образовавшихся из вулканического пепла. Фатра, Островские горы, Бюк, возвышающиеся в соседстве с существовавшим здесь некогда внутренним морем, были пробиты многочисленными каменными породами огненного происхождения так же, как знаменитая гора Токай, камни которой, выставленные действию солнца, питают виноград, сделанный, по местному выражению, из «сахара и огня». Из всех вулканических формаций Венгрии наилучше сохранившиеся находятся в соседстве с Матрою; но предполагаемый кратер, усмотренный некоторыми геологами в центральной области этой горной группы, не существует в действительности; то, что принимали за жерло вулкана, есть не что иное, как простой овраг, глубиною около 50 метров, открывающийся в массе трахита. По мнению некоторых этимологов, название Матра означает «очаг», и дано, вероятно, или потому, что туземцы сохранили воспоминание о лавах, горевших некогда на берегу великого венгерского моря, или потому, что они сами имели привычку зажигать свои языческие жертвенники на этой высокой горе, господствующей над обширным пространством. Страсть к аллитерации (повторение одинаковых слогов), свойственная всем младенческим народам, была причиною того, что древние мадьяры прославляли Татру, Фатру и Матру, как три свои главные горы, и три горные вершины, фигурирующие в их национальном гербе, вероятно, изображают собою эти знаменитые высоты.
На востоке от долины и ущелий реки Попрада, которые ограничивают Татру и её предгорья, называемые Магурою, равно как многие другие горные группы, цепь собственно так называемых Карпатов тянется на юго-восток с большою правильностью. Эти горы, состоящие главным образом из песчаников, разложение которых производит бесплодные земли, очень мало населены; селения встречаются чаще только в тех долинах, где есть залежи каменной соли, каменного угля или какие-нибудь рудные месторождения, привлекающие рудокопов. Обширные леса, еще недавно совершенно сплошные, почти без полян, покрывают как главный хребет Карпатов, так и боковые отроги, простирающиеся далеко вглубь равнин Венгрии. До этого последнего времени непроходимые леса, отсутствие населенных мест, значительная ширина гористой области были причиною того, что край этот редко посещался учеными исследователями, хотя скаты гор удобны для восхождения, и вершины их поднимаются на незначительную высоту, всего на каких-нибудь 1.000 и самое большее на 1.500 метров. Один из горных проходов, Верецке, носит также название «дороги Мадьяров», может быть, потому, что древние алтайские племена нашли здесь путь, по которому они и вступили в свое будущее царство на берегах Дуная.
За этою брешью Карпаты постепенно повышаются, сохраняя свое общее направление на юго-восток. Гранит снова появляется в высоких вершинах Поп Иван и Черная Гора (Czerna Hora), которые поднимаются на высоту 2.000 метров, гораздо выше пояса лесов; здесь были открыты первые очевидные следы древнего прохождения ледяных потоков в долинах Карпатов: во многих местах бока скал отшлифованы трением двигавшихся здесь ледяных масс, и многие долины завалены частью глетчерными моренами. Этот альпийский массив, уступающий, по высоте своих вершин, цепи Татра, имеет, однако, более важное значение с гидрографической точки зрения. В этом месте главный хребет Карпатов выделяет из себя в западном направлении боковую ветвь, которая огибает истоки Тиссы и способствует образованию двух передовых естественных твердынь венгерской земли: на севере—комитата Мармарош, на юге—Трансильвании. На этой раздельной цепи высятся Унеке (Unoko, т.е. «гора телиц»), Циблеш (Czibles) и другие большие вершины; самая величественная из них—Пиетрос, имеющая вид исполинской выпуклой стены, покрытой лесами и дерном, и оканчивающаяся на оконечностях гребня двумя пиками, похожими на башни. В самом узле, из которого разветвляются горы, берут начало четыре реки, направляющиеся к четырем главным странам света: Тисса, Самош, Золотая Быстрица и Белая Черемош. Этот порог Карпатов представляет своего рода Сен-Готард.
Отсюда начинается та часть Карпатских гор, которую можно рассматривать как крайний мыс истинной Европы, выдвинутый в полуазиятские равнины сарматского Востока. Этот сплошной полукруглый горный вал, подобно водорезу корабля, останавливающему налетающие на него волны, много раз задерживал поток народов, устремлявшихся в разное время на Европу. Между выдающимися чертами континентального рельефа мало найдется выпуклостей, которые имели бы такое важное значение в истории, как рассматриваемая нами возвышенность. В своей совокупности, полукруг восточных Карпатов служит крайним пределом гористому плоскогорью, которое возвышается, средним числом, на 450 метров и общий скат которого обращен к стороне Венгрии. Эта плоская возвышенность есть Трансильвания (Ardealul по-румынски, Erdely по-мадьярски), получившая это название от обширных лесов, которыми некогда были покрыты горы её окружности. Легко доступная на всем своем западном склоне, по причине широких долин, открывающихся в этом направлении, и относительно небольшого возвышения горных цепей, Трансильвания была, напротив того, прежде почти совершенно неприступна с южной и с восточной стороны; на этих фронтах естественной твердыни поднимаются самые высокие вершины, и наружный скат плоскогорья отличается гораздо большею крутизною, следовательно, гораздо менее доступен, чем покатость, обращенная к внутренней части Венгерской низменности. Таким образом, географическое положение Трансильвании представляло большие выгоды для защиты, чем и объясняется тот факт, что страна эта всегда пользовалась относительною независимостью в период турецкого владычества.
На юг от Мармароша главная цепь Карпатов, постепенно изгибающаяся по направлению меридиана, сохраняет свою среднюю высоту, колеблющуюся между 1.250 и 1.550 метрами. Кроме того, эту цепь сопровождает на западе внутреннее плоскогорье Гаргита (Hargita), перерезанное глубокими долинами и увенчанное широкими вершинами и высотами в форме куполов: самая возвышенная точка этой группы Надьи-Гаргита (Nagy Hargita) или НадьиГаваш (Nagy Havas, т.е. большая снежная вершина) имеет более 1.700 метров высоты. Великолепные равнины, бывшие некогда дном озер, не менее обширных, чем озера швейцарских Альп: Гергио, Чик (Csik), Гаромсек (Haromszek), отделяют Карпаты от массивов этой плоской возвышенности, и однообразием своих зеленеющих полей составляют яркий контраст с крутыми склонами гор, покрытыми темным лесом. Каждая из этих равнин, представляющая нечто в роде отдельного редюита в исполинской естественной крепости, какою является Трансильвания, словно была предназначена самою природою сделаться жилищем особой группы населения, и, без сомнения, это разнообразие рельефа поверхности, это чередование равнин, гор, плоских возвышенностей много способствовало сохранению различия племен и языков в этой отдаленной области Карпатов.
Восточная цепь Карпатских гор вдруг обрывается углом на юг от равнины Гаромсек, и затем начинается цепь Трансильванских Альп. По высоте своих вершин, эта горная группа занимает второе место в системе Карпатов; самая возвышенная верхушка её, Негой, только сотней метров уступает высочайшему пику Татры. Правда, эта последняя группа имеет, вместе с тем, более крутые склоны, более изрезана глубокими пропастями, гребень её более усажен остроконечными шпицами, зубцами и пирамидами, хребты богаче снежными полосами; но Трансильванские Альпы, главная масса которых состоит, как и масса Татры, из кристаллических каменных пород, имеют более угрюмый и более величественный вид. С Фогарашских равнин, по которым бежит живописная река Алюта (Ольт, Ольто), Трансильванские горы являются во всем своем величии: можно бы было подумать, что находишься в Швейцарских Альпах, если бы на склонах леса чаще сменялись пастбищами, и если бы взор встречал на выступах гор домики в роде швейцарских шале.
Менее исследованные, чем Татра, Трансильванские Альпы, вместе с тем, сохранили в гораздо большей степени характер девственной природы, который они, разумеется, рано или поздно, и, вероятно, в близком будущем, утратят вместе с исчезновением лесов. Медведи в этих горах очень обыкновенны, так же, как и сурки; серны тоже встречаются многочисленными стадами; в горах Буковины охотники ежегодно убивают около 9.000 оленей и козуль и много хищного зверя—медведей, волков и рысей. Татра гораздо менее населена дикими животными; однако, и там существуют еще медведи и наносят иногда вред стадам и полям, засеянным овсом; недавно серны и сурки, чересчур усердно преследуемые охотниками, едва совсем не исчезли. В 1865 г., по словам одного горца, Новицкого, на Татре было не более пяти семейств сурков и шесть или семь серн; но в следующем году охота на них была строго запрещена, и с той поры обе эти породы животных снова расплодились. Что касается каменного козла, то он несомненно исчез уже на всем пространстве Карпатов. По свидетельству англичанина Бонера, последний зубр был убит в 1775 г., близ Удваргельи, в одном болоте на равнине Дьердио.
Собственно так называемые Трансильванские Альпы занимают пространство гораздо более обширное, чем Татра, они тянутся на севере от Валахии, в виде дуги круга, длиною более 300 километров, похожей на дугу, образуемую Альпами Ломбардии и Пиемонта. На западной своей оконечности, в пределах Баната, эти горы разветвляются на множество второстепенных цепей и отрогов, дробятся на отдельные группы, которые теперь заселяются и привлекают много пришлого народу, благодаря открытым в них залежам каменного угля, рудным месторождением и минеральным водам. Главная цепь, изгибающаяся к югу, постепенно понижается от одной вершины до другой, но она все еще сохраняет вид больших гор в том месте, где Дунай, запертый некогда сплошным валом Карпатов и сербских гор, нашел себе выход через ущелье, известное под именем Железных Ворот. Через главный проход, между Кронштадтом и Плоэшти, теперь проведена железная дорога. Деревни, служащие дачными местами, замки, отели группируются среди лесов и на румынском склоне.
Кроме Дуная, еще три второстепенные реки переходят через стену Трансильванских Карпатов, но в истинно альпийской области гор, там, где эта горная система представляет наибольшую ширину, и где находятся самые высокие её вершины. Близ юго-восточного угла Трансильвании, большое число ручьев, берущих начало на северном склоне гор, соединяются в равнине, которая некогда была озером, с многочисленными разветвлениями странной формы. Это озеро, наконец, нашло себе выход; но вместо того, чтобы излиться на север, в равнину Гаромсек, от которой их отделяли только холмы, гораздо менее высокие, чем Карпаты, воды его открыли проход на юге, в самой толще горной цепи, и под именем Бузео (Bodza по-мадьярски), соединились с румынским Серетом. Далее на западе, река Алюта пересекает всю систему Трансильванских Альп и многие из её побочных отраслей. Соединив в одном речном бассейне воды, бегущие по высохшему дну древних озер Чик, Гаромсек, Бурценланд (или Кронштадтская равнина), по великолепной Фогарашской долине и Германштадтскому бассейну, Алюта, сделавшаяся могучею рекою, переходит Карпаты непосредственно на западе от величественной горной массы Негой, через тесницу, известную под именем «ущелья Красной Башни»,—вероятно, получившую такое название от старинной башни, выкрашенной на венгерский манер, и которая некогда была защищаема от всяких вражеских нашествий «братьями гражданами» Германштадта. Наконец, на западе от большой горы Паринг, другой приток Дуная, образующийся из Мадьярской Шиль (Jiul, Jiullu) и из другой реки Шиль, называемой Валашскою,—хотя она тоже течет на венгерской территории,—переходит цепь Трансильванских Альп, но через ущелье до такой степени дикое, или вернее, через трещину до того узкую и трудно доступную, что жители края, когда им нужно перебраться с одного склона на другой, тщательно избегают этой теснины (Szurduk), и делают большой крюк к западу через высокий перевал Вулкана,—горы, которая, несмотря на такое громкое название, не имеет в себе ничего вулканического. Тысячи тропинок, проложенных стадами, переплетаются до бесконечности на травянистых скатах, чтобы соединиться в каменистые дороги в ущельях и опять разветвляться по их зеленеющему дну. Когда будут окончены постройкой дороги, обыкновенная и железная, через Сурдук, эти пути сообщения получат важное значение для международной торговли, так как венгерский бассейн, где соединяются две реки Шиль, есть бывшее озеро, где отложились петрошанские каменноугольные пласты.
Горные группы западной Трансильвании, составляющие естественную границу Венгерской низменности, должны были, подобно южным Карпатам, уступить напору вод, скопившихся в верхних бассейнах, и открыть им широкия долины. Так, на севере мы находим реку Самош (Szamos), спускающуюся к Тиссе (Tisza, по-немецки Theiss), в центре Быструю Кереш (Sebes Koros), которая соединяется с Белой (Fejer Koros) и Черной Кереш (Fekete Koros) в Венгерской равнине; на юге прекрасная река Марош (Maros), первые воды которой бегут по древней озерной равнине Дьердьо, близ молдавской границы, вырывается через широкую равнину, пройдя перед тем Трансильванию по направлению с востока на запад; наконец, на границах Баната, глубокая борозда, вырытая некогда водами долины Гатсег, перерезывает цепь гор, точно искусственный ров, идущий между двумя валами. Это горный проход, известный под именем «Железных Ворот», которое он получил, по всей вероятности, как и многие другие дефилэ на востоке, от укреплений, защищавших доступ к нему против нападения враждебных народов.
Разделенные реками на множество отдельных групп, горы западной Трансильвании носят различные названия; однако, иногда всю систему их обозначают общим именем «Трансильванских Рудных гор». И действительно, эти горы очень богаты рудными месторождениями и металлоносными жилами, чему они обязаны разнообразию геологических формаций, из которых состоит их масса. Мы находим здесь граниты, порфиры, сланцы, песчаники, известняки разных эпох, трахиты, базальты, лавы. Между прочим, в этой области, недалеко от истоков Араньоша, то-есть «Золотой реки», находится одна из замечательнейших базальтовых гор Европы: это Детуната (Detunata) или «Пораженная громом». Над пологими пастбищами, усеянными сосновыми лесками, высится серая скала, около сотни метров высотою, состоящая сплошь из базальтовых призм, слегка наклоненных вперед; общий вид этой громадной нависшей массы напоминает исполинскую волну океана в тот момент, когда она уже загнула свой гребень и готова разбиться. Впрочем, время неустанно трудится над разрушением этой базальтовой горы, которая, кажется, готова обрушиться каждую минуту; основание утеса усеяно разбитыми стержнями, куски которых в одних местах лежат грудами, в виде столбов, в других—разбросаны по одиночке, как колонны обрушившагося храма.
Залежи руд всякого рода особенно многочисленны в той части горной группы, центр которой занимает гора Детуната. Здесь находятся знаменитые золотые прииски, имевшие весьма важное значение до открытия Нового Света; здесь же существуют жилы серебра, ртути, железа и других металлов. Пласты каменной соли не встречаются в гористой области, но полагают, что они залегают, в виде сплошной формации, под голыми безлесными холмами Мезешега (Mezoseg) или «Шампаньи», которые тянутся волнообразно через всю центральную часть Трансильвании, между долинами Самоша и Мароша. Если бы весь поверхностный пояс этой области вдруг исчез, то мы видели бы перед собою белое соляное море, остаток древнего залива, который в третичную эпоху наполнял этот бассейн Карпатов. Около шестисот источников бьют из этого нижнего слоя, и соленостью своей воды обнаруживают свойство горных пород, через которые они проходят; но местами эти громадные пласты каменной соли выступают на поверхность земли, и дождевые воды размывают их, придавая скале самые причудливые формы и очертания. Близ Парайда, в верхней долине реки Малой Кюкюлле (Kis Kukullo), притока Мароша, возвышается целая гора из чистой соли, пологий купол которой имеет не менее семи километров в окружности, и которая, по объему, в два раза превосходит знаменитую соляную гору Кардона, в Каталонии. Несколько лет тому назад, соляный утес, нависший над рекою, будучи подточен при основании водами, вдруг обрушился: масса соли, объем которой исчисляют, приблизительно, в 2.500 тонн (150.000 пудов), запрудила все русло реки, вследствие чего течение прекратилось на несколько дней.
Область холмов и небольших гор, господствующая на севере над древними озерами верховьев р. Алюты, чрезвычайно замечательна происходящими в ней химическими явлениями. В этой области пласты каменной соли тоже очень близко подходят к поверхности земли, и во многих местах погреба домов вырыты в соляном слое. В соседстве горы Бюдеш-Гедьи (Budos Hegy, то-есть «Вонючая гора») тянутся обширные залежи серы, и даже из скал этой горы выделяются через две трещины сернистые газы, которые местные жители считают очень полезными для лечения различных болезней; но пациенты должны входить в эти воздушные серные ванны и выходить из них со всевозможною поспешностью и задерживая дыхание,—иначе им грозит опасность задохнуться от удушливых испарений. В Вайнафальве, квартале большего местечка Ковасна, угольная кислота выделяется из почвы в таком обилии, что погреба наполнены ею; землекопы, роющие землю, должны очень остерегаться, чтобы не пострадать от этих смертоносных паров. Цыплята, укрывающиеся под крыльями своей матери, всегда задыхаются, если под корзиною, где помещается наседка, не подосланы цыновки. Больные, подвергающие себя целительному действию угольной кислоты, и тело которых погружено в газ, все время держат голову поверх ванны, благодаря покрышке, охватывающей их шею, на подобие ошейника; однако все-таки опасно брать ванну в известные часы дня, по причине сильного истечения газа. После дождя на поверхности луж беспрестанно появляются пузыри, образуемые углекислотою, которая бьет ключом из земли сквозь покрывающий ее слой воды. Углекислые источники встречаются в бесчисленном множестве. Наконец, в Малом Шароше (Kis Saros) и в Базне из почвы выходят горячие газы, в роде тех, какие выделяются из земли в Моденской области, в Италии, и на Ашперонском полуострове.
Высота главных вершин в системе Карпатов, по Гунфальви и другим географам:
Малые Карпаты: Тебиеркогель—513 метр.; Брадло—815 метр.
Белые Горы: Яворина—967 метр.
Яворник—1.013 метр.
Бескиды: Высокая гора (Wysoka Gora)—1.020метр.; Бабья гора (BabiaGora)—1.720 метр.
Татра: Ломниц—2.632 метра; Накотлу—2.647 метр.
Восточные Карпаты: Черная-Гора—2.007 метр.; Поп-Иван—1.925 метр.; Пиетрос—2.207 метр.; Циблеш—1.826 метр.; хребет Пришлоп 850 метр.
Трансильванские Альпы: Бучеш—2.497 метр.; Негой—2.543 метр.; Паринг—2.438 метр.; Ретьезат—2.482 метр.; ущелье Красной Башни—352 метр.
Гаргита: Надьи-Гаваш—1.741 метр.; Кукук-Гадьи—1.540 метр.
Внутренняя Венгрия: Дьембер (Малая Татра)—2.043 метр.; Криван-Фатра—1.667 метр.; Крижна (Фатра)—1.540 метр.; Кекеш (Матра)—970 метр.
Рудные горы: Кукурбета—1.846 метр.; Мунтьелемар—1.486 метр.
Страна мадьяров обильно орошается водой. Количество дождевой воды, выпадающей в этой области центральной Европы, составляет, средним числом, слой толщиною около двух третей метра в год, и кроме того, Дунай приносит сюда огромный объем вод, который он собирает в своем верхнем бассейне. На пространстве почти 1.000 километров, считая извилины, великая река течет по равнинам Венгрии, и со всей окружности громадного амфитеатра, образуемого Альпами и Карпатами, спускаются многочисленные ручьи и речки, чтобы увеличить массу её вод. Некоторые из притоков этой реки: Сава, Драва, Тисса, сами принадлежат к числу первоклассных рек Европы и судоходны на большом протяжении своего течения.
За исключением небольшой реки Попрад, вытекающей из снегов Татры и бегущей на север к Висле, в Венгрии нет ни одного потока, который не принадлежал бы к бассейну Дуная. Каждая капля воды, дистиллируемая источниками Карпатов, после бесчисленных поворотов, в конце концов добирается до низменных равнин Венгрии и утекает через ущелье Железных Ворот; только три реки: Шиль, Алюта и Бодза или Бузео, направляются непосредственно к нижнему Дунаю через отверстия или проходы между горами. Это схождение к одному общему средоточию всех вод мадьярской страны имело результатом сообщение её населениям большего политического единства. В этом отношении гидрографические условия страны представляют большие выгоды; но, с точки зрения обмена всякого рода с соседними нациями, речная сеть её—одна из самых несовершенных. Все естественные пути, которые эта сеть открывает для торговли, удаляют страну от других государств, вместо того, чтобы приближать ее к ним; движение от окружности к центру значительно уменьшается вследствие недостатка выходов. Для водного сообщения существуют только два удобные прохода—те, которые представляют двое дунайских ворот: одни в верхней части венгерского течения Дуная, открывающие доступ в Австрию и Германию, другие в нижней части, ведущие к Румынии, Турции, Черному морю. Первые из этих ворот не противополагают никаких препятствий судоходству; но что касается вторых, то они до этого последнего времени были заграждены опасными подводными камнями или порогами, да к тому же и Черное море, куда впадает Дунай, само почти замкнуто и представляет скорее озерный резервуар, чем морской бассейн. До сооружения хороших дорог и рельсовых путей, это море было нечто в роде глухого закоулка, окруженного странами, на половину пустынными и безлюдными, или населенными варварскими племенами. Во сколько раз важнее было бы значение Венгрии во всемирной торговле и промышленности, если бы протекающая через нее великая река, вместо того, чтобы изливаться в негостеприимные воды Понта Эвксинского, впадала в Адриатику или в какой-нибудь другой, широко открытый, залив Средиземного моря? Но что сталось бы тогда с мадьярами? При соприкосновении с более высокою цивилизациею и под влиянием более многочисленных смешений с другими народностями, могли ли бы они сохранить свою оригинальность, свой язык, свое национальное существование?
В Венгрии, особенно ниже впадения Моравы и Лейты, Дунай принимает вид и характер большой реки. Берега его изменчивы и неопределенны, кроме тех пунктов, где близко подходящие группы холмов съуживают ложе реки; в одних местах поток неустанно размывает, подтачивает берега, производит обвалы огромных глыб, которые обрушиваются в воду и мало-по-малу распадаются на мелкие части, так сказать, растворяются в жидкой массе; в других—он наносит слой землистых осадков и выдвигает далеко в область вод песчаные стрелки и косы. Еще неукрощенный, Дунай созидает и разрушает поочередно: с одной стороны, он образует острова и насаждает их камышем, ивами, тополями, с другой—он вырывает деревья вместе с землею, на которой они росли; только какой-нибудь корень, задерживаемый бакеном, указывает место, где находился островок. Во всех направлениях открываются каналы тинистой воды между низменными землями, и невольно задаешь себе вопрос—как может кормчий отыскать дорогу среди этого лабиринта вод? Дома едва можно различить между деревьями, покрывающими берег; но река, по виду более населенная, чем земля, сама усеяна целыми деревнями мельниц, установленных на якорях в воде. В соседстве с лугами скот сотнями мирно бродит по болотистым низинам; стаи всякой водяной птицы с шумом носятся над бесконечными густыми камышами, тогда как ласточки свивают себе гнезда в углублениях отвесных утесов нагорного берега, словно под кровлею домов.
Между бесчисленными островами и островками, вокруг которых разветвляются воды Дуная, особенно замечательны, как по величине, так и по своему геологическому значению, два большие острова, начинающиеся тотчас же ниже Пресбургских ворот. Это не простые аллювиальные (наносные) острова, как можно бы было заключить по их названию Шютт (Schutt), близко подходящему к немецкому слову Schutt, которое означает мусор; венгерцы, единственные обитатели главного, т.е. самого большого из этих островов, называют его Цаллекез (Czallokoz) или «Обманчивым островом», может быть, по причине быстрого изменения его берегов. По выходе из «Венгерских Ворот (Porta Hungarica),—прохода, открывающегося между последними отрогами Альпов и предгорьями Карпатов,—река делится на несколько рукавов и образует настоящую дельту, остаток той дельты, которою она некогда изливалась во внутреннее море западной Венгрии. По обе стороны трех главных рукавов Дуная извиваются бесчисленными излучинами «малые Дунаи» (Kis Duna), которые странствуют далеко по равнинам и, наконец, делаются притоками—один р. Вага, другой рр. Лейты и Рааба. Соединившись с этими реками, блуждающие волны Дуная опять возвращаются в главное ложе и таким образом способствуют образованию больших островов, которые, впрочем, сами разделены на множество второстепенных островов естественными протоками и каналами, прорытыми рукою человека. В целом, большой остров Шютт, восточная оконечность которого, то-есть мыс, образуемый Дунаем и Вагом, защищается сильною крепостью Комаром или Коморном, занимает площадь не менее 1.550 квадратных километров.
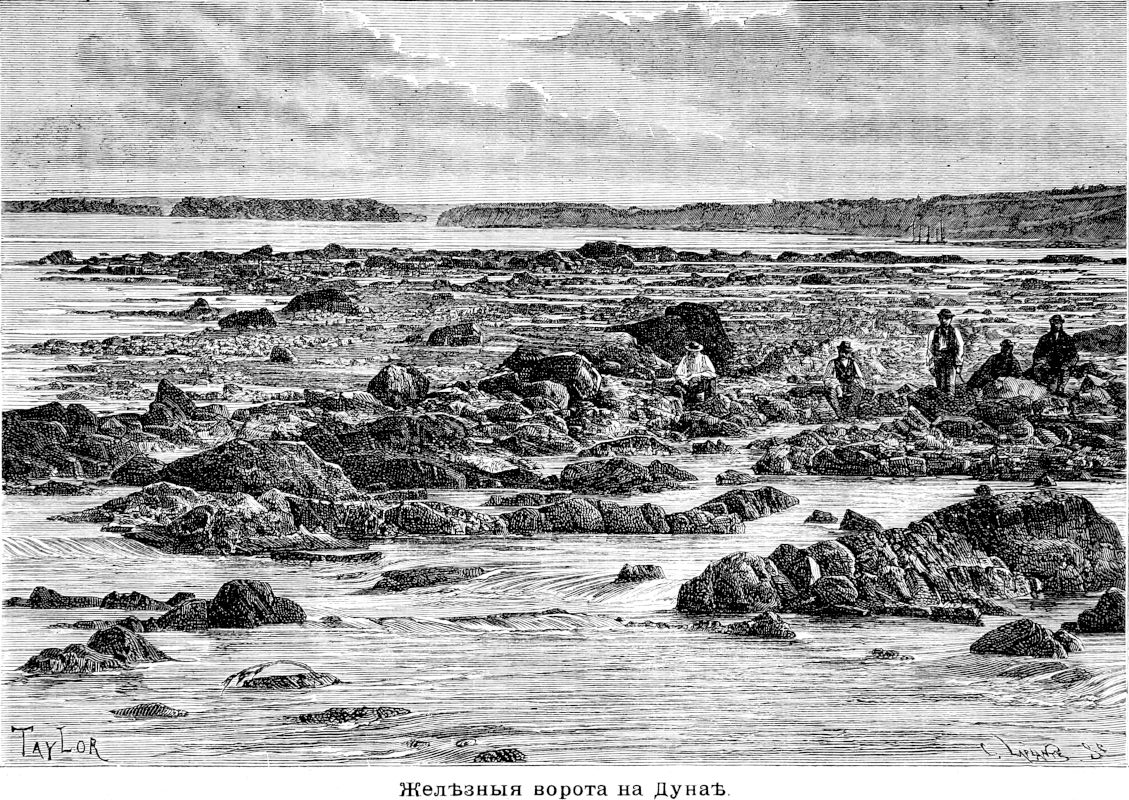
Ниже этой бывшей озерной дельты, Дунай, соединивший все свои воды в одном канале, должен проходить через второе ущелье, между двух горных групп: Пилиш и Ноград (Novigrad, Новоград), из которых последняя называется также «Холодными горами». Этот узкий горный проход, через который большая Венгерская низменность сообщается со своею переднею равниною, прилегающею с западной стороны, приобрел весьма важное историческое значение; между различными зданиями, возвышающимися на выступах гор, полуразрушенные башни древней крепости Вышеград, где хранилась корона св. Стефана, служат живым свидетельством той заботливости, с которою венгерские короли охраняли эти ворота своего царства; там же находился прекрасный дворец Матфея Корвина, о пышности которого историки рассказывают чудеса. В небольшом расстоянии ниже этого прохода расположились одна против другой, словно два стража, две столицы Венгрии—Буда и Пешт. Вообще Вышеградский проход с большим основанием, чем какая-либо другая часть течения Дуная, может быть рассматриваем, как средоточие всей этой обширной гидрографической сети. В этом месте река, общее направление которой до того было с запада на восток, вдруг поворачивает к югу и спускается в направлении меридиана, на протяжении почти трех градусов по широте. На первый взгляд может показаться странным, что Дунай, вместо того, чтобы пересекать по диагонали всю Венгерскую низменность, только огибает ее с западной и с южной стороны. Причину этого явления нужно искать в способе образования аллювиальных земель, которые постепенно наполнили собою бассейн существовавшего здесь некогда обширного озера. Так как материалы для наполнения этого бассейна доставлялись северными и восточными Карпатами, то общая покатость наносной почвы естественно приняла наклон к стороне юга, увлекая с собою в том же направлении Дунай и Тиссу. Напротив того, на юг от Венгерской равнины, реки Драва и Сава, спускающиеся с Альпов, несли свои землистые осадки по направлению с запада на восток; вследствие этого, общая покатость почвы внезапно изменяется, а вместе с тем и Дунай делает изгиб к востоку. Кроме того, нужно еще принять во внимание вращательное движение земного шара, которое заставляет реки северного полушария постоянно уклоняться вправо, каково бы ни было их направление: самое сильное течение Дуная почти везде направляется в эту сторону, вследствие чего и фарватер для больших судов идет вдоль паннонского берега реки.
Во всей этой части своего полукругового течения вокруг Мадьярской низменности могучая река, уже более многоводная, чем все другие реки Западной Европы, не перестает блуждать по равнинам, в виде бесчисленных, далеко раскинувшихся разветвлений. Каждый год разливы видоизменяют бесконечный лабиринт её островов и рукавов; подвижные земли дунайской долины беспрестанно перемещаются под напором речного потока. Извилины нынешних фарватеров и правильные русла, вырытые инженерами, пересекаются до бесконечности с прежними излучинами, от которых остались только кольцеобразные озера, простые рвы, или леса ив и тополей. На ширине от 10 до 15 километров речная долина представляет запутанную сеть речных русл, наполненных или покинутых водами, так что изображение её на карте похоже на множество змей, обвивающихся одна вокруг другой. Тем не менее, изучение этого изменчивого лабиринта вод обнаруживает нечто в роде закона. Ниже Буды, её последних холмов и большого острова Чепель (Csepel), где во время мадьярского завоевания Арпад стоял лагерем со своими воинами, Дунай непрерывно делает захваты на правом или западном берегу, не только по причине вращательного движения земли, отклоняющего течение в правую сторону, но также, может быть, от действия сильного юго-восточного ветра, который сербы называют Kosava. Города Дуна-Фельдвар, Пакс, Могач, которым грозит наибольшая опасность в этом отношении, принуждены мало-по-малу отодвигаться перед наступающею рекою. Между Петроварадином (Петервардейн) и Белградом отступление правого берега составляет, в среднем выводе, около полуметра в год.
Количество воды, протекающей в Дунае в секунду, у Буда-Пешта: при 0 футштока (самое низкое стояние воды), по Валландту,—700 куб. метр.; при уровне 3 метр, выше 0—3.000 куб. метр.; при уровне 5,7 метр. выше 0—6.790 куб. метров.
Нижнее течение Дравы похоже на нижнее течение Дуная по бесчисленным излучинам, так что принуждены были спрямить его, вниз от Леграда, посредством прорытия нескольких каналов, которые сократили длину реки на 180 километров. Но до недавнего времени самым ярким типом извилистой реки была Тисса. Долина этой реки имеет по прямой линии только 545 километров длины, а между тем главное ложе еще недавно извивалось на протяжении почти 1.300 километров, беспрестанно уклоняясь в стороны и разветвляясь до бесконечности на второстепенные каналы. Рядом с «живою» рекою по равнине рассеяны многочисленные «мертвые» рукава, затоки, озера, пруды, болота и тинистые отмели, напоминающие прежния извилины Тиссы. Под влиянием ошибочного взгляда, который нигде не имел бы таких гибельных последствий, как в Венгрии, полагали, что достаточно будет прорезать излучины реки, спрямить её русло, обвести, ее «непотопляемыми» плотинами, для того чтобы завоевать окончательно около миллиона гектаров земли, и чтобы искоренить на всегда злокачественные лихорадки, порождаемые вредными испарениями стоячих болотных вод. В прежнее время землевладельцы каждого комитата, заботясь исключительно о своей личной выгоде, преследовали канализациею Тиссы одну только цель, именно ту, чтобы освободить свою собственную территорию от избытка вод, хотя-бы даже эта излишняя жидкая масса затопила соседния прибрежные поля. Обширные гидравлические работы, предпринятые впоследствии, под руководством инженера Вашаргельи (Vasarhelyi), имели, правда, то важное достоинство, что они ведены были по общему плану; но опасность разрыва плотин все-таки не устранена, и скопление вод в нижней части бассейна Тиссы сделалось неизбежным, по причине увеличения падения реки и усиления скорости течения воды в период разлива.
Таким образом, канализация венгерской реки, о которой идет речь, не уменьшила опасности наводнений; напротив того, они сделались опустошительнее и захватывают более значительные пространства. Для земледелия, правда, приобретены обширные местности, но приобретены в ущерб другим, еще более обширным и более полезным территориям. Совершенно особенные гидрографические условия этой части дунайского бассейна рано или поздно заставят инженеров принять предохранительные меры менее обманчивые, для чего необходимо будет дать вероятному поясу наводнения гораздо более значительную ширину, чем та, которую он имеет теперь.
Длина плотин на Тиссе в 1872 г.—1.250 километров; укорочение речного ложа—466 километров; падение реки ниже Тисса-Уйлак—0,0061 метр., вместо 0.0041 м.; издержки на сооружение плотин—65.000.000 франков.
Обведенная, подобно Луаре и По, плотинами, Тисса перестала быть вольною, бродячею рекою, напоминавшею реки Нового Света; мы уже не находим на берегах её дикой самобытной растительности, не видим более тех несметных стай водяной птицы, которые некогда оживляли её бассейн; рыба, между различными породами которой особенно замечательна стерлядь, дающая превосходную икру, не составляет уже, как прежде, «трети воды». Геологическое исследование Венгрии показывает, что в относительно недавнюю эпоху Тисса текла в расстоянии, средним числом, около ста километров к востоку от своего нынешнего ложа; по выходе из гор, образующих северо-восточный угол большой равнины, она не делала изгиба на северо-запад, затем на запад, прежде чем спуститься к Дунаю, но тотчас-же направлялась прямо на юг, следуя вдоль западной подошвы Трансильванских Альп. Но все её главные притоки бегут с восточной стороны, гоня перед собою, по крутому скату, массы гальки и песку: Самош, три Кереша, Марош соединенными силами трудятся над перемещением Тиссы к западу, оставляя в ней свои землистые осадки и сообщая её водам толчок в направлении своего собственного движения. Под влиянием этих причин, река не переставала отклоняться к западу; правый (нагорный) берег, постоянно размываемый, везде выше левого (лугового), состоящего из аллювиальной почвы; и города, стоящие на западном берегу, в особенности Сегед и Чонград, принуждены из века в век отступать перед надвигающеюся массою вод, медленно, но неустанно подтачивающих их основание. Правда, в южной части своего течения Тисса, испытывающая могучий толчок со стороны дунайских вод, стремится, напротив, уклоняться к востоку, и даже со времен римской эпохи значительно подвинулась вперед в этом направлении. Во времена походов Траяна и Диоклетиана, плоскогорье Титель находилось на восток от Тиссы, и римляне устроили там свои передовые укрепления против даков; после того, это плато сделалось островом, а теперь оно лежит совершенно на запад от названной реки. Но выше этой части течения русло Тиссы постоянно перемещается по направлению от востока к западу: по вычислению Стефановича, это перемещение составляет, в среднем выводе, около 30 сантиметров в год, из чего следует, что с той эпохи, когда река текла вдоль западного основания Трансильванских гор, прошло около 300.000 лет.
Подвигаясь таким образом все далее на запад, Тисса оставляет позади себя многочисленные болота, остаток её прежних лож. В некоторых местах кажется, что видишь перед собою самую реку; средняя ширина, излучины остались те же, вода такая же глубокая; недостает только скорости течения. Между этими ложными или мертвыми реками особенно замечательно длинное болото Эр, соединяющее течение р. Красна (Kraszna) с течением р. Шебеш-Кереш, на востоке от Дебречена. Во время наводнений часть вод первой из этих рек следует своим прежним прямым путем на юго-запад, через болота Эр, и тогда вся северо-восточная область Венгерской равнины превращается в один громадный остров. Река Гортобадьи (Hortobagy), текущая на юге от Токая, тоже есть не что иное, как старая Тисса. Несмотря на устройство плотин, болота, которые Тисса оставляет за собою на своем левом берегу, и по окраинам которых землевладельцы распахивают новые поля, не гарантированы от возврата вод. Эти болота не только подвержены внезапному вторжению потока наводнения, когда открывается трещина в вале плотин, но они наполняются также просачивающимися сквозь почву водами, которые распространяются подземными путями по обе стороны реки до весьма значительного расстояния от берегов: эти, так сказать, внутренние разливы даже опаснее непосредственных наводнений, потому что недостаток водосточных каналов делает их более продолжительными. В 1855 г. жители комитата Боршад пробили плотины ниже своих полей, и наводнение распространилось на пространстве 150.000 гектаров.
Средний расход Тиссы, по Зонклару,—1.700; расход во время разлива, по Валландту,—4.000 куб. метр. в секунду.
Но главная причина затопления прибрежных равнин заключается в самой форме дунайского ложа. Узкия горные ущелья, загражденные скалами, через которые великая река должна проходить при выходе из Венгерской низменности, не позволяют излишним водам, происходящим от дождей или таяния снегов, вытекать с достаточною скоростью, и потому жидкая масса, встречая эту преграду, должна отливать обратно в верхнюю равнину. Тогда все прибрежные болота превращаются в озера и снова представляют зрелище древнего венгерского моря: это mare album (Белое море) древних писателей. Во время больших наводнений, низменные поля Панчовы покрываются слоем воды в 2 метра толщиною, на пространстве 47.000 гектаров, и ложа Савы, Темеша, Тиссы превращаются в заливы, принимающие в себя излишек вод Дуная: течение переменяет направление во всех притоках до значительного расстояния от их устья, когда период разлива главной реки предшествует разливу впадающих в нее рек; суда увлекаются течением воды из Дуная в его притоки. Падение этих второстепенных рек до такой степени незначительно, что повышение уровня Дуная на четыре с половиною метра заставляет воды Тиссы течь обратно до Сегеда, лежащего в расстоянии 133 километров от устья этой реки; более сильные разливы изменяли направление течения до расстояния 150 километров от места впадения этой реки в Дунай. Следующее явление всего лучше может дать понятие о конфигурации этой страны: одно незначительное возвышение почвы, известное у местных жителей под громким именем «холма», которое находится непосредственно на западе от Пюншек-Ладаньи (Puspok Ladany) и в расстоянии 300 километров к северу от слияния Дуная и Савы, поднимается во время наводнений над уровнем окружающей водной поверхности всего только на 4 фута.
Понятно, что боковые плотины Тиссы не могут предохранять столь низменные равнины от вторжения вод Дуная. Чем более успевают прибрежные жители верховья направлять излишек жидкой массы к низовьям реки, тем более население нижних берегов должно опасаться катастроф. Последние наводнения захватывали уже сравнительно возвышенные местности, называемые «холмами», до которых никогда не достигали прежние разливы. При малейшем дожде земледельцами овладевает беспокойство; когда дождь продолжается целые сутки, они начинают приготовляться к бегству; предостерегающий сигнал заставляет их поспешно покидать свои селения, и когда они возвращаются домой после спада вод, скот их потоплен, избы развалились, голод, холера истребляют десятую часть населения. Поэтому, как бы ни были велики, в глазах инженеров, достоинства исполнения, представляемые совершенными до-ныне работами по устройству плотин на Тиссе, нельзя отрицать того факта, что страна, взятая в целом, более проиграла, чем выиграла от этих обширных и дорого стоивших сооружений. Единственным действительным средством помочь беде было бы регулирование течения Дуная в проходе через теснину Железных Ворот: именно нужно бы было расширить русло реки в местах слишком узких, съузить в бассейнах слишком широких, а главное—понизить её пороги, для того, чтобы временные озера, образующиеся выше Ворот, могли опоражниваться своевременно. Стефанович и Бобом предлагали также, в видах окончательного ограждения равнин центральной Венгрии от периодических наводнений, прорыть, у основания Трансильванских гор, канал, который бы следовал по направлению прежнего течения Тиссы, и который по принятии в себя всех восточных рек, Самоша, Кереша, Мароша, впадал бы в Дунай, через Караш, между Делиблатскими дюнами и входом в ущелье Базиант. Но осуществление этого проекта, менее действительного, чем регулирование Дуная, потребовало бы сотен миллионов.
Горные ущелья, которыми Дунай, усиленный водами Тиссы, Темеша и Савы, выходит из Венгерской низменности, через поперечную стену Карпатов, представляют одно из самых грандиозных зрелищ природы. Нигде в Европе не увидишь подобной массы воды, торжествующей над такими грозными преградами, с которыми она борется, чтобы пробить себе дорогу к морю: здесь созерцаешь в одно и то же время великую геологическую драму и постепенно развертывающийся ряд живописных картин. Старый укрепленный замок Голубац, стоящий на верхушке одной остроконечной скалы сербского берега, и островок Бабаке, возвышающийся в форме башни над поверхностью вод близ венгерского берега, обозначают вход в этот удивительный ряд ущелий, которые река вырыла в живой скале на протяжении ста слишком километров; в трещинах этих каменных стен скрываются рои страшного насекомаго—«голубацкой мухи», от укушения которой, как от жал африканской мухи цеце, часто погибали целые стада. Пройдя эти триумфальные ворота, Дунай скользит по каменистым мелям, образуя ряд порогов, и затем вступает в опасный Гребенский проход, усеянный огромными порфировыми рифами и мелями, состоящими из камней слюдяного кварца; во время низкого стояния воды судоходные каналы или фарватеры в этих «Малых Железных Воротах» имеют не более 4 метров ширины, хотя общая ширина речного ложа все еще составляет многие сотни метров. За этим ущельем река опять расширяется и образует так называемый Милановацкий бассейн, где в одном месте расстояние между берегами более 1.400 метров. Ниже этого бассейна стена из скал, повидимому, совершенно преграждает путь реке: путешественник ищет взором ущелье, принимающее воды, и недоумевает, где они могут пройти, как вдруг, при одном крутом повороте, обнаруживается, что жидкая масса проникает в теснину, похожую на широкую трещину, открывающуюся в горе: это так называемое ущелье Казан.
В этом месте река, вдруг съузившаяся в поток шириною около 150 метров, заключена между двух высоко поднимающихся вертикальных стен, верхний гребень которых окаймлен бахромою зелени. В боках этих известковых стен там и сям открываются пещеры, где гнездятся орлы; небольшие откосы, образовавшиеся вследствие обвалов, спускаются по обе стороны в глубокие воды (глубина здесь от 40 до 50 метров), еще более съуживая ложе реки и сообщая еще большую силу грозному потоку. Справа вздымаются две горы, Большой и Малый Стребац, предгорья которых были перерезаны потоком; только в двух местах скала выдолблена и образует казаны, или «котлы», которые, очевидно, были резервуарами, где скоплялся излишек вод, прежде чем устремиться в низовые клюзы. Подобные же котловины, только меньших размеров, видны и на левом берегу реки, вышей и ниже Казанских теснин. Да и что такое болота Тиссы, как не бассейны наводнения, где пребывают воды, прежде чем получат возможность уйти через ущелье «котлов»? Во многих местах скала падает отвесно, и бока её не представляют ни малейшего выступа, где путешественник мог бы поставить ногу. И, несмотря на то, вдоль реки проведены две дороги: дорога венгерского берега есть произведение нового времени и, по справедливости, славится на всем Востоке смелостью своих мостов и путеводов; дорога сербского берега, более скромная, есть просто бечевник, но во многих местах ее нужно было целиком высекать в нависшей над рекою скале. Знаменитая римская надпись, относящаяся к 100 г. после P. X., напоминает славу Траяна—«победителя гор и реки». Три первые строки этой надписи подлинные, а три последние были реставрированы.
Немного ниже маленького венгерского города Оршова или Орсова и укрепленного островка, которые часто бывали театром кровавых войн между христианами и мусульманами, река, имеющая от 1.500 до 1.600 метров ширины, проходит через другой ряд порогов, известный под именем «Больших Железных Ворот», которые составляют вход в Румынию. Здесь природа имеет менее дикий характер, чем в Казанском ущелье; горы обоих берегов не поднимаются в виде вертикальных стен, сербские высоты даже покрыты лесами. Однако, Железные Ворота обязаны славою своего имени не грандиозным красотам их берегов, а опасным порогам и подводным камням, которыми усеяно здесь ложе реки. Это самое опасное место Дуная: здесь не только гребные и парусные суда, но даже пароходы нередко садились на мель, разбивались о камни или погибали в водоворотах. Неровности речного ложа в этом опасном проходе так велики, что во время мелководья слой воды на первом пороге не превышает одного фута, тогда как в потоке третьего порога глубина русла достигает 50 метров, т.е. уровня на 11 метров ниже поверхности Черного моря. Только в 1846 году, спустя двенадцать лет после введения колесных пароходов на нижнем Дунае, решились в первый раз пустить в ход силу пара для борьбы со страшною силою оршовских водоворотов. До недавнего времени общества судоходства по Дунаю принуждены были держать две эскадры судов: одну выше, другую ниже города Оршова, и несколько судов особенной конструкции служили для перехода через пороги, но и то только в благоприятную пору года, то-есть в период с марта по июль. На бечевой дороге нередко можно было встретить партию в пятьдесят человек, запряженных точно лошади или волы, и тянущих на веревке простую барку или плашкоут.
Средний уровень Дуная у Венгерских Ворот—132 метра; у Железных Ворот—39 метров; общее падение Дуная на протяжении 955 клм.—93 метра, что составит приблизительно 1 метр на каждые 10 километров.
Разность между высоким и низким стоянием воды составляет от 47г до 6 метров.
Нельзя не признать постыдным для Европы тот факт, что она так долго допускала существование подобных препятствий судоходству на реке, составляющей естественный торговый путь для целой половины европейского континента, и которая одна несет в два раза большую массу воды, чем Волга (средний дебит Дуная в Железных Воротах, по Зонклару,—10.220, при низкой воде—7.300 кубических метров в секунду). Со времен Траяна до самого последнего времени почти ничего не было сделано, чтобы уменьшить опасности прохода: в этот длинный период времени успели только разрушить некоторые из самых опасных рифов, заграждавших русло реки; но уменьшение, происшедшее в среднем расходе, или количестве протекающей воды, уравновешивало выгоды, достигнутые этою первою работою по исправлению течения Дуная. А между тем уже в 1832 году инженером Вашаргельи был предложен проект канализации этой части Дуная. Но соперничество, честолюбие, опасения заинтересованных государств долго задерживали осуществление этого важного общеполезного предприятия, необходимость которого была формально признана уже парижским мирным трактатом 1856 г. Сербы радовались тому, что пороги Железных Ворот отделяли их от турецких флотилий; турки, в свою очередь, почитали себя счастливыми, имея эту естественную границу со стороны Австрии, а австро-венгерцы, несмотря на очевидный интерес их торговли—ибо ни одна нация не может извлекать более выгод из свободы плавания по Дунаю, чем Австро-Венгрия—оценивали это препятствие с точки зрения фиска и войны, как одно из самых удобных мест для своих таможенных постов и крепостей. Бастионы Оршовского острова и Елизаветинского форта, на сербском берегу, могут обстреливать суда, проходящие через теснины. Регулирование течения в Железных Воротах было предпринято Венгрией, на основании постановлений Берлинского конгресса 1871 г., только в 1890 г. и приведено к концу в 1896 г.
Открыв себе проход через Железные Ворота, Дунай не совсем опорожнил Венгерскую низменность от наполнявших ее озерных вод. В центре полуострова, образуемого Дунаем и Дравою, осталось еще маленькое внутреннее море, самое обширное из больших европейских озер, после озер России и Скандинавского полуострова: это Балатон (иначе Платтенское озеро), который мадьярские поэты величали прежде «венгерским морем», но берега которого некогда были населены славянами, которые были наставниками венгров в цивилизации; самое название озера, очевидно, произошло от славянского слова блато, т. е. болото. Озеро это, конечно, не похоже на чудные альпийские озера: оно не имеет таких прекрасных лазурных и глубоких вод, как Женевское озеро, не окружено величественным амфитеатром высоких гор, увенчанных снежными вершинами; в серые, пасмурные дни вся низменная часть его берегов, где его беловатые воды продолжаются далеко вглубь лугов и равнин многочисленными болотами и лужами, представляет даже очень печальное зрелище; но, тем не менее, Балатон по своим северным берегам составляет одно из украшений Венгрии. Господствующие над ним высоты имеют местами живописные формы и контуры; скаты их кое-где покрыты лесами в перемежку с виноградниками, которые дают второе по достоинству из венгерских вин; на выступах гор высятся средневековые крепостцы; в долинах приютились красивые замки и хорошенькия деревни, а среди озера, прямо из воды, поднимается живописный холм Тиганьи, нечто в роде уединенной обсерватории, которая соединена с северным берегом посредством низкого перешейка. Эта горка, остаток древнего вулканического конуса, состоящий, главным образом, из разложившагося туфа, долгое время была единственною независимою землею во всей южной Венгрии. В то время, как все крепости и замки этого края находились во власти турок, укрепленное аббатство Тиганьи одно умело победоносно отражать нападения завоевателей. Замечательно, что этот вулканический полуостров расположен по направлению с северо-запада на юго-восток, то-есть по тому же направлению, которому следуют все гребни и все промежуточные борозды или долины этой области Венгрии. В том же самом направлении открывались все бухты и заливчики этого маленького внутреннего моря в то время, когда южные берега его еще не сформировались окончательно.
Воды Балатона, имеющие несколько солоноватый вкус, питаются отчасти ключами, бьющими на дне озера, и пузыри от которых местами поднимаются до самой поверхности: полагают, что это—подводные источники щелочного свойства; одни из них должны быть теплые, другие холодные, судя по большим неравенствам температуры, наблюдаемым на поверхности воды, на ограниченных пространствах.

Кроме того, перемены атмосферного давления часто производят на озере течения и мелкое волнение. Прибрежные рыбаки рассказывают также, будто им случалось наблюдать приливы и отливы; но это явление, если оно действительно существует, не было еще предметом точных исследований и измерений; по всей вероятности, это не что иное, как случайные повышения и понижения уровня воды, в роде тех, которые замечаются на больших швейцарских озерах и известны там под именем «Seiches». Наибольшая глубина Платтенского озера, как говорят, 46 метров, близ горы Тиганьи; но средняя его глубина не превышает 6 или 8 метров. Так как берега этого озера очень низменны на юго-западной стороне, где воды его изливаются в Дунай, через речку Шио (Sio), то не трудно было возобновить работы, начатые в римскую эпоху императором Галерием, с целью спуска части вод из Балатонского бассейна; посредством осушения, начатого в 1825 году на окружающих озеро болотах, приобретено пространство земли, равное 1.260 квадратным километрам. Первоначальная поверхность самого озера значительно уменьшилась; уровень его понизился на один метр, но увеличение годной к обработке почвы не принесло большой пользы прибрежным жителям, так как эта почва, составлявшая древнее озерное дно, покрыта мелким песком, который ветер разносит далеко по полям.
Высота Балатона над уровнем моря—130 метр.; площадь 690 кв. клм.; средняя глубина 8 метр.; приблизительный объем воды—6.320.000.000 куб. метр.
Из рыб, которые водятся в этом озере, особенно замечателен фогаш (fogas), род окуня, очень ценимый в Венгрии и в Германии; говорят, что эта порода нигде не встречается, кроме «венгерского моря».
Нейзидлерское озеро (по-мадьярски «Ferto), лежащее, как и Балатон, в западной Венгрии, занимает часть передней венгерской равнины, заключающуюся между Лейтанскими горами и Баконьевским лесом. Без холмов, защищающих его с западной стороны, оно уже много веков тому назад исчезло бы под слоем наносов, ибо впадина, которую оно наполняет, лежит на пятнадцать метров ниже уровня Дуная, под тем же меридианом. Однако, если Нейзидлерское озеро и существует, то существование его только периодическое или перемежающееся: оно попеременно то наполняется, то осушается в течение веков. По словам одной старинной рукописи, которая, впрочем, не приводит никаких доказательств, это озеро образовалось в 1300 г. и ознаменовало свое появление на свет затоплением шести венгерских деревень. В 1693, в 1738, в 1865 годах озерный бассейн совершенно опоражнивался, вследствие испарения его вод, средняя глубина которых составляла около 3 метров; оставались только кое-где небольшие болотистые впадины и слои тонкого, дрожащего под ногами, ила. Но после нескольких лет осушения, вода опять завоевывала свои прежния владения. В период с 1869 по 1876 год произошло последнее нашествие вод, причиненное отливом Дуная, Рааба и Лейты. а также подземным просачиванием. В самом деле, Нейзидлерское озеро продолжается в восточном направлении болотами и низменными лугами, которые называются общим именем Ганшаг (Hansag), и стоячие воды которых стекают в Дунай через канал, имеющий всего только 4 метра падения. Когда разливы главной реки и её притоков, Рааба и Лейты, особенно высоки, воды отливают обратно к болотам Ганшаг и Нейзидлерскому бассейну, которые и затопляются совершенно. Если же Дунай, напротив, держится довольно низко в продолжение более или менее длинного ряда лет, то резервуар, принимающий воды разлива, мало-по-малу осушается. Поэтому, в иные годы поверхность Нейзидлерского озера обнимает до 400 квадратных километров, в другие она составляет только половину или четверть, иногда даже только десятую или еще меньшую часть этого пространства. При помощи плотины со шлюзами, построенной ниже Ганшага, легко можно бы было приобрести для земледелия весь этот бассейн, но сомнительно, чтобы это осушение стоило труда и издержек, так как дно озера содержит довольно большое количество натра, который ныне сообщает воде очень неприятный солоновато-горький вкус. Кроме того, замечено во время последнего испарения озера, что прибрежные земли быстро делаются бесплодными, когда влага, доставляемая озерным бассейном, исчезает и заменяется так называемым зиком (по-венгерски szik), то-есть пылью, в которой маленькие кристаллики сернокислого натра (глауберова соль), морской соли и магнезии смешаны с мелким песком, покрывающим плоские берега. Виноградники в окрестностях озера, производящие обыкновенно превосходный плод, много пострадали во время последнего периода засухи. Но если благоразумие запрещает опоражнивать Нейзидлерский озерный бассейн, то оно, напротив, требует немедленного осушения нездоровых болот Ганшаг. Местные жители, отваживающиеся проникать в эти на половину затопленные земли, принуждены вооружать свои ноги широкими досками, которые поддерживают их на топкой болотистой почве, и покрывать голову и лицо сеткою, сплетенною из травы, для того, чтобы защитить себя от мошек, которые мириадами носятся в воздухе. Некогда эти области, подступ к которым так затруднителен, служили убежищем древним озерным обитателям, как о том свидетельствуют найденные в тине Нейзидлерского озера многочисленные остатки, относящиеся к каменному веку.
Таким образом, древнее море, расстилавшееся в обширном амфитеатре Венгерской низменности, и берега которого видны еще до сих пор вверх от Железных Ворот, на высоте 36 метров над нынешним уровнем Дуная, оставило после себя, кроме одного постоянного, но не глубокого озера, только болотистую низину, поочередно опоражнивающуюся и наполняющуюся водою, да кое-где болота и топи, насыщенные натром. От прежней водной поверхности это бывшее морское дно сохранило только почти совершенную горизонтальность почвы и поразительно однообразный вид пространства. Огромный морской бассейн с течением времени был заполнен массою наносов, которую еще невозможно вычислить, но которая, судя по произведенным до сих пор, при помощи бурильных снарядов, измерениям, должна быть громадна. В окрестностях Пешта древнее морское дно находят на глубине около пятнадцати метров; далее, на востоке, нужно копать землю до глубины 20, 30 и более метров. Город Дебречин стоит на слое аллювиальной формации, толщиною около 80 метров. В Банате бурильный снаряд спустился до глубины 150 метров, не достигнув горных пород, из которых состоит древнее ложе моря. Весьма вероятно, что на пространстве около 100.000 квадратных километров средняя глубина наносной формации никак не менее сотни метров. Можно себе представить, какой громадный куб каменных обломков должны были оторвать воды от склонов Альп и Карпатов, чтобы образовать нынешнюю почву Венгрии! И все эти отрывки и обломки гор до такой степени измельчены, искрошены, что теперь вдали от больших дорог и городов мы напрасно стали бы искать малейшего камешка в верхнем слое земли. В многочисленных могильных курганах, рассеянных вдоль берегов Тиссы и её притоков, очень редко находят каменные орудия; почти вся домашняя утварь и оружие сделаны из костей бизона или из оленьих рогов.
Западный бассейн, заключающийся между двумя верхними воротами Дуная, Пресбургскими и Вышеградскими, давно уже утратил свою первобытную физиономию; на север от реки поля его сплошь покрыты цветущими нивами и лугами, которые доставили ему название «Золотого Сада»; в этой плодородной равнине, окруженной со всех сторон рядами гор или холмов, ясно обрисовывающихся на далеком горизонте, ничто не напоминает степи Востока или саванны Америки. Но обширная венгерская Месопотамия (междуречье), орошаемая Дунаем, Тиссою, Марошем, еще сохранила отчасти свой первоначальный вид. Мадьяры отличают этот бассейн от всех других, удерживая за ним название Альфельд (Alfold) или «низменность», в противоположность названию Фельфельд (Felfold) или «плоская возвышенность». Это совершенно ровная страна, без всяких волнообразных повышений и понижений почвы, представляющая повсюду одно и то же, в высшей степени монотонное зрелище. За исключением местностей, прилегающих к подошве гор, выступы которых вдаются в равнину, как мысы в море, и которые продолжаются между Дунаем и Тиссою волнистым кряжем, имеющим около 60 метров высоты, путешественник, в какую бы сторону он ни обратил взоры, нигде не замечает ни малейшего возвышения, которое прерывало бы правильную линию горизонта; почва, правда, представляет слегка наклонную плоскость, но эта наклонность незаметна для глаза; единственные выдающиеся точки на этой гладкой, как скатерть, поверхности—это невысокие дюны в песчаных местностях, расположенные ветром в виде параллельных гряд, да встречающиеся там и сям круглые горки или так называемые «бугры куманов, турок, татар, Аттилы, стражей», о которых туземцы рассказывают, будто это искусственные насыпи, сделанные во время войн. Многие из этих холмов, действительно, искусственного происхождения и возвышались в древних лесах, вблизи селений и становищ; но большею частью это не что иное, как уцелевшие остатки верхних слоев древней равнины, выровненной водами, естественные бугры, в роде тех, которые мы встречаем на берегах Каспийского моря. От Кечкемета до Большего Варада (Nagy Varad) и от Дебречина до Темешвара, на пространстве нескольких сот верст, путешественник едет, так сказать, не переменяя места—до такой степени однообразна окружающая природа. Эта монотонность пейзажа наводит уныние на иностранца, но она очень нравится туземцу, которому кажется, что он везде вблизи своей родимой деревни. В какую бы область равнины ни переселился туземный житель, он везде остается у себя на родине. Он не охотно покидает свой любимый Альфельд; во время наводнений его видели упорно остававшимся в своей хате, угрожаемой со всех сторон.
До нашествия гуннов равнины Паннонии были частью покрыты лесами, но непрерывные войны и неразумие пастухов скоро уничтожили это украшение почвы. Еще недавно деревья были почти неизвестны в центре Альфельда, на пространстве около 33.000 квадратных километров, и во многих местах можно было путешествовать целые дни, не встречая ни одного куста, ни одного пучка зелени; недостаток леса был так велик, что коровий кал, высушенный на солнце, составлял единственное топливо туземного населения. В наши дни деятельно принялись разводить деревья вокруг селений, вдоль дорог и по окраинам полей, и таким образом мало-по-малу изменяют общий вид края; но и теперь еще остаются, преимущественно в центральной части Альфельда, пространства, где почва, несколько солоноватая или насыщенная натром, не поддается культуре, и по которым бродят только стада. Пастбища, безлесные поля, так же, как обработываемые пространства, удаленные от деревень и усеянные только хуторами (tanya), составляют вольную степь или пусту (puszta), которая воспевается мадьярскими поэтами, и которую так любят пастухи, разгуливающие в пустыне, как полные хозяева безграничного пространства. Знаменитый венгерский поэт Петефи в одной из своих песен высказывает желание, чтобы его могильный курган возвышался среди широкой пусты,—желание, которому, однако, не суждено было осуществиться: Петефи погиб бесследно на поле битвы, так что нигде не могли отыскать его тела. Во многих пустах поросшая травою поверхность тянется во все стороны на необозримое пространство. Широкия топи из черноватой грязи, колеи от телег, извивающиеся по лугам, дерн, протоптанный ногами животных, указывают не то чтобы дорогу—настоящих дорог в степи не существует,—а обычное место прохода и проезда. Ни один ручеек не орошает венгерскую саванну: почва здесь слишком ровная для того, чтобы какой-нибудь поток мог бежать по правильному водоскату; но по равнине рассеяны многочисленные лужи, над которыми носятся стаи птиц. После больших дождей во многих местах эти лужи соединяются в одну сплошную водную поверхность; почва везде лежит ниже уровня разлива рек; вода просачивается со дна и разливается по поверхности в виде болот. После продолжительных засух, в пусте остаются только ямы, покрытые тиною; пастухи принуждены водить свои стада на водопой к колодцам, высокие столбы которых, с длинными наклонными коромыслами, издалека виднеются на горизонте. Во многих областях равнины, по обе стороны реки Тиссы, и в особенности на пространстве между Дебречином и Большим Варадом, расстилаются озера, насыщенные самородною щелочною солью или углекислым натром, подобные тем, какие существуют в Египте и в Персии; налет или эффлоресценция соли походит на слой снега, когда влага почвы совершенно испарится: отсюда, без сомнения, и произошло название «Белых озер» (Fejer to), под которым они известны во многих округах Венгрии. Кое-где встречаются также селитряные озера, и еще недавно на них собирали большие количества кристаллов селитры, которая употреблялась для различных промышленных целей; но теперь разработка этих селитряных месторождении почти оставлена.
Сходство географической среды производит сходство жителей и нравов. Подобно травяным степям Азии, подобно саваннам и пампасам Нового Света, венгерская пуста еще недавно была страною пастбищ, где скот бродил на свободе по широкому раздолью, под надзором кочующих пастухов. В наши дни земледелие захватило в свою власть почти весь край, покрыв его нивами, лугами и садами; но и теперь еще там и сям встречаются остатки прежнего безбрежного травяного моря. В этих степных пространствах табуны лошадей, пасущиеся в правильном боевом порядке, стада коров, ходящие в разброд, буйволы, лениво валяющиеся в тине, кажутся единственными хозяевами и обладателями равнины. Там и сям, на берегу степных озер или болот, рисуются тонкие силуэты аистов и журавлей. Очутившись в такой пусте, можно подумать, что находишься среди девственной природы, вдали от всякой цивилизации: даже грубый всадник, скачущий за разбревшимися животными, и тот имеет что-то дикое в своей наружности и ухватках. Ничто не может быть проще и величавее штрихов и линий этой картины, суровая краса которой производит тем более сильное впечатление на душу зрителя. Днем, зеркальность воздуха рисует обманчивые миражи на далеком горизонте; вечером, пурпурный цвет неба и отражающих его водных поверхностей болот и степных озер составляет яркий контраст с темным колоритом равнины; ночью, самая земля как бы исчезает, и зритель видит вокруг себя только бесконечное мировое пространство, усеянное мириадами блистающих звезд.
Венгерская равнина, недавно имевшая чисто-степной характер по своему общему виду, до сих пор сохраняет еще этот характер по своему климату. Не только средняя температура её немного ниже, чем на равной широте в странах полуостровной Европы, но и перемены тепла и холода наступают там гораздо резче и внезапнее. Нередко случается, что колебания температуры достигают 20 и 25 градусов стоградусного термометра в продолжение нескольких часов; бывает, что среди лета вдруг подует леденящий зимний ветер; и наоборот, иногда в декабре стоит такая теплая погода, что можно подумать, что уже настала весна. Общий порядок или ход времен года в этих степях отличается несравненно меньшею правильностью, чем в Западной Европе. Как жары и холода, так точно засухи и дожди следуют одни за другими, повидимому, без всякого определенного закона: нескончаемые потопы, затопляющие почву, часто сменяют продолжительные периоды бездождия, во время которого сохнут травы и трескается растительная земля. Метеорологические переходы обыкновенно сопровождаются чрезвычайно сильными ветрами, которые вздымают пыль или снег вихрями, и которых всего более страшится путник, запоздавший в пусте.
Само собою разумеется, что такая обширная страна, как амфитеатр, образуемый Альпами и Карпатами, должна представлять большое разнообразие климатов, сообразно высоте места над уровнем моря, положению его в отношении сторон горизонта, близости или отдаленности гор и рек. В гористой Трансильвании каждая большая долина имеет свой особенный климат; в одной из них, именно в верхней долине реки Алюты (Ольты), которая открывается к стороне Румынии проходом, известным под именем «ворот Красной Башни», очень часто дуют южные ветры, подобные сирокко Апеннинских гор и фёну Швейцарских Альп. Но, независимо от всех этих местных климатов, общий климат Венгрии отличается, между климатами всей части европейского материка, простирающейся до Карпатов, наиболее континентальным характером и наибольшими крайностями тепла и холода. По мнению некоторых гигиенистов, причину так называемой «венгерской» лихорадки, которая так часто косила армии завоевателей, вторгавшихся в страну, и которая делает такия опустошения между иноземными переселенцами, следует искать не в миазмах, поднимающихся с болот, а в резких переменах температуры. Природные жители края умеют оберегать себя от вредного действия этих внезапных переходов от тепла к холоду и наоборот.
Приводим среднюю годовую температуру и количество выпадающей в продолжение года дождевой воды для некоторых пунктов Венгрии и Трансильвании:
| Средняя температура | Средний слой дождей | |
| Арва | 6,° Ц. | 0,88 м |
| Шемниц (Шельмецбанья) | 7,°4 Ц. | 0,74 м |
| Пресбург, | 10° Ц. | 0,54 м |
| Буда | 10,°9 Ц. | 0,46 м |
| Панчова | 11,°8 Ц. | 0,66 м |
| Сегед (Szeged) | 11,°3 Ц. | 0,49 м |
| Германштадт (Надьи-Себен) | 8,°6 Ц. | 0,66 м |
| Кронштадт (Брассо) | 7,°5 Ц. | 0,77 м |
Так как климат данной области необходимо отражается в её флоре, то Венгерская низменность по характеру растительности естественно должна походить на русские степи, несмотря на стену Карпатов, отделяющую бассейн Дуная от бассейнов Днестра и Днепра. И действительно, ботаники удостоверяют, что многие растения восточного происхождения замещают в венгерских равнинах растительные виды Западной Европы, и, как говорят, замечено, что в течение последних ста лет общая физиономия мадьярской флоры чувствительно приблизилась к азиятскому типу: причину этого явления приписывают климату, который сделался менее умеренным. Войны тоже играют некоторую роль в этом нашествии иноземных растений. Так, с 1849 года почти все поля Трансильвании, оставленные под паром, покрылись колючим репейником (чимпай, csimpaj, или xanthium spinosum), который придает равнине неприятный для глаза сероватый колорит. Мадьярские и румынские крестьяне называют этот пришлый репейник «московитским терновником» (muszka tovis, spinu muscalesc). Если верить народной молве, семена этого растения были занесены лошадьми русских казаков, у которых шишки репейника случайно прицепились к шерсти, и которые оставили в крае это воспоминание о злополучном годе завоевания и кровавой резни: достоверно то, что этот репейник не существовал в Трансильвании до 1850 года.
Подобно этим растениям чужеземного происхождения, и народ, населяющий большую часть древнего Дунайского озера или нынешней Венгерской низменности, пришел сюда из степей Востока. Рассматриваемые в целом и независимо от различия племен и их происхождения, мадьяры, этот бродячий народ, имя которого, однако, означает, как говорят, «туземцы» или «сыны земли», принадлежат, повидимому, к одной семье с финнами и остяками, мордвою и вогулами, и хотя они в наши дни сделались уже совершенными европейцами по цивилизации, но, тем не менее, все еще остаются «туранцами», если не по типу, который очень красив, но который, по причине многочисленных смешений, очень трудно различить, разве только в деревнях, то по крайней мере по своим легендам и народным преданиям, по некоторым остаткам старинных нравов и в особенности по своему языку финского происхождения. Тогда как во всех других частях Европы урало-алтайские завоеватели только прошли опустошительным потоком, или скоро потерялись среди окружающих населений, угры или венгры прочно водворились в равнине Карпатов. В этом необозримом море трав мадьяры нашли свои родные азиятские степи; они охотно остались тут и могли долгое время сохранить свои прежние нравы и кочевой образ жизни.
Впрочем, мадьяры населяют не одну только равнину; они занимают также многие гористые области амфитеатра Карпатов. Этнографически, страна венгерцев довольно точно ограничена—на юго-востоке течением Дравы и Мура, на западе—последними отрогами Альпийских цепей, на севере—всеми передовыми группами карпатской системы, на востоке—Бигарскими горами, наконец, на юге—низменным поясом, усеянным болотами, через который проходят, в их нижнем течении, реки Марош и Тисса. Шесть слишком миллионов мадьяров населяют сплошными массами эту центральную область Венгрии; но вне этого этнографического континента рассеяно еще много островов мадьярского населения,—одни еще в равнине, другие уже в горах. Многие из этих островов находятся на западе между немцами, на севере между словаками и русинами, на юге между сербами. Но всего более их встречается на востоке, в возвышенных долинах Трансильвании. Рудоносные области населены там в значительной части мадьярами, а крайний угол территории, у большого колена, образуемого восточными Карпатами и Трансильванскими Альпами, почти исключительно занят людьми этой расы. Секлеры (по-венгерски Szekely, секельи, по-немецки Szecler) считают себя прямыми потомками воинов Аттилы, хотя и не могут привести в подкрепление этой генеалогии иного доказательства, кроме баснословных сказаний, дошедших от средних веков. Напротив, основываясь на достоверных свидетельствах истории, повидимому, нужно заключить, что во время господства гепидов и их преемников, аваров, никакой гунский народ не занимал плоскогорий Трансильвании. Секлеры или «сикулы»—как их иногда называют, хотя совершенно ошибочно, потому что они никогда не состояли в родстве с сикулами, обитавшими на Средиземном море—суть не что иное, как мадьяры, соплеменники жителей Альфельда; язык их тот же самый и не содержит слов, которые указывали бы на то, что они некогда составляли отдельный от прочих венгров народ. Имя их означает просто «пограничные жители», и другие секлеры, память о которых уже изгладилась в крае, занимали некогда западные пределы Венгрии. Трансильванские секлеры служат, так сказать, авангардом венгерской нации со стороны Востока. Из своей естественной твердыни, образуемой горами, они разделяют группы румынов и группы немецких поселенцев, и таким образом дают политическую точку опоры своим соотечественникам, населяющим равнину. Лучше сохранив старые нравы и обычаи, именно по причине трудности сообщений, эти секлеры смотрят на себя, хотя и без всякого на то права, как на благороднейших представителей венгерского народа.
Хотя соединенные ныне в одну нацию, которая между всеми народами отличается замечательною патриотическою сплоченностью, все те, которые именуют и считают себя мадьярами, в Венгрии и в Трансильвании, происходят от весьма различных и долго враждовавших между собою народностей. Племена языгов, квадов, готов, даков и другие жители обширного амфитеатра Карпатов не были истреблены завоевателями страны, и потомство их, без всякого сомнения, находится между нынешними населениями. В эпоху распадения римской империи громадная Дунайская низменность и окружающие ее плоские возвышенности сделались великим полем битв. Сначала там утвердились, как завоеватели, готы, гепиды, вандалы и аланы, потом пришли страшные гунны, перед которыми поверглись в прах все прежние властители края, славянские и германские. Главный стан Аттилы, прозванного бичем Божиим, находился в центре большой равнины, между течением Тиссы и течением Дуная. Между своими многочисленными предками нынешние венгерцы с особенною гордостью указывают на этих гуннов, наводивших ужас на римский мир; но эти грозные завоеватели прошли опустошительным потоком, не оставив после себя глубоких следов. Авары, господствовавшие в течение двух с половиною веков над народами Дакии и Паннонии, имели, без сомнения, более прочное влияние, хотя их могущество и все их царство были разрушены Карлом Великим. Впрочем, так велик был страх, распространенный между тогдашними людьми нашествием гуннских орд, что Венгрия и при владычестве аваров сохранила название «Гуннии», и сами мадьяры, когда они в первый раз появились на исторической сцене, называются безразлично «венграми» и «гуннами». Византийцы называли их «турками». Не будучи в действительности ни гуннами, ни турками, мадьяры, как полагают, отделились от финского корня в ту эпоху, когда они еще жили охотою и рыбною ловлею и не знали никаких домашних животных, кроме собаки и лошади: на это указывают коренные слова их языка, сходные с корнями финских языков. Впоследствии они, повидимому, присоединились к турецким населениям, которые стояли выше их по степени цивилизации, и от которых они научились скотоводству, земледелию, домашнему хозяйству; но сокровищница их языка пополнилась преимущественно в самой Венгрии, когда сыны Арпада, теснимые с востока печенегами, поселились на берегах Дуная, и когда они пришли в соприкосновение с словенами, населявшими Паннонию. Эти последние мало-по-малу сделались мадьярами по нравам и языку, но, соединяясь с завоевателями, они дали им все слова, относящиеся к географической и социальной среде, в которую вступили венгры. Сотни слов, относящихся к религии, к государству, к земледелию, к ремеслам всякого рода, служат доказательством того, как велико было влияние этих славянских народностей на мадьярскую цивилизацию.
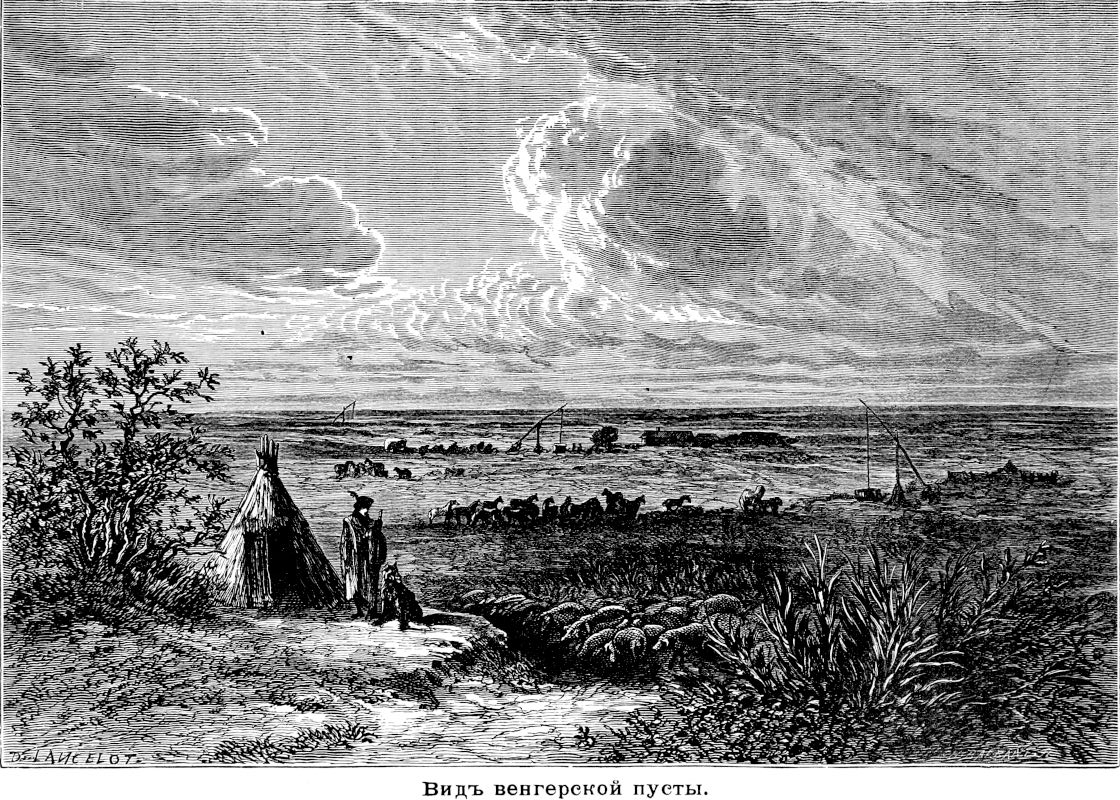
Нельзя не удивляться необыкновенной живучести и силе сопротивления, которую выказали венгры, пришедшие в страну под предводительством Арпада в числе около двух сот тысяч воинов, быть может, миллиона душ. Переменив почву и климат, они, тем не менее, смогли, несмотря на окружавшие их со всех сторон враждебные расы и народности, образовать отдельную национальность, имеющую свой язык, богатую литературу, независимую политическую историю, наполненную славными деяниями. Они съумели сохранить свою самостоятельность в течение десяти веков, не только против народов других рас, каковы славяне и немцы, но также и против соседних наций, с которыми их связывали узы племенного родства. Хотя они находились под игом турок целые полтораста лет, хотя они даже много раз бывали их союзниками против Австрии, они, однако, не поддались турецкому влиянию и остались мадьярами, а между тем это им в особенности приходилось выносить на своих плечах всю тяжесть войн, потому что они жили в открытой равнине, где нет никакого естественного убежища от врага, и не имели искусственных стен, за которыми могли бы защищаться от нападений, подобно жителям немецких городов. Напротив того, они постепенно ассимилировали себе народности, первоначально отличные от них. Магометане, или—по их народному названию—измаильтяне болгарские и хазарские, которые производили торговлю между жителями края, мало-по-малу слились с массою венгерского народа. Печенеги, некогда победившие мадьяр, были, в свою очередь, побеждены куманами, и около половины одиннадцатого столетия пришли просить убежища у своих соседей, жителей венгерской равнины; многие селения с именем Besenyo (печенежские) до сих пор напоминают об их пребывании отдельными группами среди мадьяр, их хозяев и родичей. Спустя двести лет, куманы, теснимые монголами, тоже являются бить челом венграм, и им были отведены земли в гористых округах на северо-западе и в центральной равнине Альфельда, где обширная область и теперь еще носит название Куманин (Nagy-Kunsag и Kis-Kunsag, Большая и Малая Кумания); в 1239 г. этих переселенцев разом пришло до сорока тысяч душ. Будучи совершенно отличными от венгров по языку, так как они принадлежали к тюркской семье народов, пользуясь, кроме того, самоуправлением и различными привилегиями, которые им были дарованы при переселении, владея значительными пространствами земли, куманы, несмотря на все это, сделались с течением времени совершенными мадьярами, равно как другие эмигранты той же расы, половцы (по-венгерски (Paloczok) и языги (Jaszok), и теперь только по имени отличаются от своих соседей, населяющих равнину. Куманы, оставшиеся в южно-русских степях, были обращены в рабство монголами и продаваемы в неволю во все соседния страны. Мамелюки, которые из презренных невольников сделались властителями Египта, тоже были по большей части куманы, братья тех, которые поселились в Венгрии.
Даже немцы, несмотря на приписываемое ими себе арийское превосходство, сотнями тысяч подверглись «мадьяризации». В очень многих деревнях и местечкам, населенных некогда колонистами, переселившимися из Германии, прозвания или фамилии жителей суть единственные признаки, обнаруживающие происхождение населения; да и эти фамилии во многих случаях переделаны на мадьярский лад, так что можно подумать, что видишь перед собою чистокровных венгерцев, без малейшего смешения с «Nemet» (по-венгерски «немец»), если бы исторические документы не свидетельствовали о противном.
Известно, какой ужас венгры, которых напуганное народное воображение смешивало со страшными гуннами, внушали земледельческим населениям Западной Европы. Проносясь словно вихрь, на своих маленьких ретивых конях, они останавливались только за тем, чтобы истреблять огнем и мечем все, что попадалось на пути, и, опустошив край, тотчас же исчезали: разбегавшиеся в страхе жители не знали даже, были ли то люди, как и прочие смертные. По словам старого историка Иорнанда, гунны произошли от женщин, которых Филимер, король готов, прогнал из своей армии за то, что они имели сношение с нечистою силою. Народы Западной Европы, подвергавшиеся в средние века нашествиям мадьяр, распространяли подобные же басни, чтобы оправдать свой страх. В глазах европейцев эти грозные венгры или «угры» были в самом деле какими-то сверхъестественными существами дьявольского происхождения. Длинный зуб, похожий на клык кабана, торчал у них изо рта с левой стороны; уродливое лицо их, как рассказывали, было покрыто рубцами и шрамами, происходившими от укушений и порезов, которые делали их матери для того, чтобы приучить их к боли и сделать страшными на вид; говорили, что они с наслаждением едят сырое мясо и пьют теплую кровь, брызжущую из ран; имя их, повторяемое няньками в длинные зимние вечера, до сих пор еще приводит в трепет маленьких детей. Действительно, в первое столетие их пребывания в Европе, венгры, гордившиеся своею беззаветною храбростью и ужасом, который они внушали, любили предпринимать набеги в другие европейские страны, с целью грабежа. Переправясь через реку Энс, которая долгое время была их границею, они опустошали Германию, переходили даже через Альпы и за Рейн, чтобы проникнуть в Италию и Францию; в 937 году их видели даже в Арденнах, и они вернулись восвояси через Бургундию и равнины Ломбардии. Жизнь мадьяра была непрерывною битвою за владычество; но после поражения, нанесенного им в 955 г., при Аугсбурге, дух завоеваний исчез, и мадьяры ограничивались уже обороною покоренной ими земли. В девятом столетии семь племен или колен венгров соединились в одну нацию и заставили своих вождей принести торжественную клятву в том, что они будут, под страхом смещения, уважать их права и вольности, и защищать эти права против всех и каждого; это еще недавно выражал символически государь Венгрии, когда он с высоты коронационного холма, на Пештской площади, махал шпагою на все четыре стороны света: этим он как бы вызывал на бой весь мир, как это делали некогда Аттила, Чингис-Хан и Тамерлан.
Но хотя мадьяры сохранили эту старинную воинственную церемонию, они, однако, давно уже должны были всеми силами приспособляться к европейской среде и вступать в связь с соседними нациями посредством тысячи уз общей цивилизации. Из своего прошлого венгерец сохранил непринужденную поступь, прямой и гордый взгляд, сознание собственного достоинства, выражающееся во всех его жестах и манерах. Он имеет очень высокое понятие о своей породе и считает себя благородным, так как благородство составляло в старину привилегию людей свободнорожденных; оттого он охотно употребляет формулы почтительной вежливости, которые, впрочем, уже утратили свое первоначальное значение; разговаривая со своим товарищем, он обыкновенно титулует его «твоя милость»! Слово becsulet (честь) не сходит у него с языка: все, что он делает, должно быть достойно благородного человека. Очень храбрый от природы, он любит рассказывать о славных деяниях своей нации, о великих военных подвигах; но часто он бывает очень наивен или, вернее сказать, беспечен, и немец или еврей без труда надувают его, затрогивая его слабую сторону—возвышенные чувства, ибо ни один из европейских народов не одержим в такой сильной степени страстью к великому, как венгерцы. Но если мадьяр горд, наивен и прямодушен, он, однако, не простак; между прочим, он отличается необыкновенною юридическою стойкостью и защищает писанное право с упрямством англичанина. Очень привязанный к своей родине, он страстно любит свой Дунай, свою Тиссу, свою однообразную бесконечную равнину. «Вне Венгрии жизнь не жизнь!» говорит одна из его старинных пословиц. «Разве мы не имеем всего, что нужно человеку? Банат дает нам хлеб, Тисса—вино и мясо, горы—соль и золото. Наша земля снабжает нас всем необходимым!»
Как у большинства юных народов, мужчины в Венгрии очень кокетливы и заботятся о своем туалете, который, впрочем, не имеет ничего женственного, может быть, еще более, чем женщины. Истый мадьяр, пастух пусты, гордится изяществом своего праздничного наряда. Шляпа его украшена разноцветными лентами и цветами; шелковый платок обвязан, в виде пояса, вокруг его камзола или жилета, красного или синего, с металлическими пуговицами; его венгерка из белого сукна вышита узорами и цветами, между которыми красуется горделивый тюльпан, национальная эмблема; рубаха его красиво отделана фестонами; полотняные штаны, обшитые длинною бахромою, выпущены поверх высоких сапог с звенящими шпорами. Нужно видеть его танцующим, когда веселые пары кружатся в вихре увлекательного чардаша (csardas). Венгерский танцор—это артист в своем роде; движения его не подчиняются слепо раз установленным правилам; он умеет импровизировать новые, неожиданные фигуры, соответствующие порыву его чувств и его радости, но и в самом увлечении он всегда сохраняет мужественную грацию. Преследуя свою танцорку, которая убегает, прячется, затем опять приближается, он любит греметь шпорами, пристукивает в такт сапогами с радостными криками, кружится, прыгает без малейшего утомления, воодушевляемый быстрым движением и веселым шумом.
Ни в одной стране Европы употребление юридического латинского языка не сохранялось так долго, как в Венгрии, где им говорили еще в 1843 году. Смешение различных национальностей и наречий способствовало распространению употребления жаргона, представлявшего чудовищную смесь латинских фраз и венгерских оборотов и бывшего в ходу особенно в течение XVIII столетия. Еще недавно часто можно было слышать, как граждане при встрече приветствовали друг друга по-латини, и множество латинских выражений и фраз, очень мало похожих на цицероновские периоды, до сих пор употребляются в разговорной речи. Слово deak, означающее «книжный», «ученый» или «литературный», сделалось синонимом «латинскаго», и все образованные люди, к какой бы народности они ни принадлежали—к мадьярской или немецкой, к сербской или румынской,—любили вести беседу на пышном языке, завещанном народом-царем: они, таким образом, создали для себя нечто в роде общей национальности, которая исчезла вместе с языком, и о которой сожалели многие писатели. В эпоху реформации венгерцы не писали на своем собственном языке; только по многочисленным словам, сохранившимся от первоначальной устной речи, известно, что она очень мало отличается от мадьярского диалекта, которым говорят в наши дни. Все публичные акты, все оффициальные бумаги сочинялись по-латыни; но вскоре протестантская пропаганда вызвала у них к жизни целую духовную литературу на народном языке; затем явились историки и поэты, которые, преимущественно в эти последние сто лет, сообщили удивительную гибкость старому угрскому наречию. Эти успехи дают мадьярам могущественное средство влияния, которым они и не преминули воспользоваться к выгоде своей расы. Сделавшись главным языком администрации, венгерская речь в значительной мере способствует мадьяризации иноплеменных жителей страны; но политическая неприязнь, питаемая другими национальностями к господствующей народности, часто проявляется тем более сильною привязанностью к их собственным наречиям. Кровавые столкновения 1848 и 1849 годов до сих пор продолжаются в школах борьбою языков.
К счастью, религия не может сделаться в Венгрии, как язык, средством господствования. Хотя кальвинизм иногда называется в Трансильвании «мадьярскою верою», но это выражение имеет преимущественно этнографическое значение, ибо в этой области немцы все лютеране, а румыны принадлежат к греко-восточной церкви. В собственной Венгрии католики составляют огромное большинство. Во времена реформации, население массами переходило в новую религию; но «контр-реформация», сопровождаемая пытками и казнями, воссоединила большую часть совратившихся мадьяр и заставила их вернуться к старой вере. «Лучше иметь безлюдную пустыню, чем страну, населенную еретиками!» говаривал император Фердинанд II. Один дипломатический документ, составленный в начале семнадцатого столетия, говорит, что задача Австрии должна заключаться в том, чтобы «сделать Венгрию католическою, немецкою и нищенскою страною». Эта цель была отчасти достигнута, и странно сказать—если бы венгерские кальвинисты и лютеране не были поддержаны в их сопротивлении мусульманами Турции, их всех до единого принудили бы отречься от своей веры, подобно тому, как заставили отречься протестантов тирольских, штирийских и богемских. Впрочем, воспоминания о существовавших некогда религиозных раздорах почти совершенно исчезли в Венгрии, и в настоящее время мало найдется стран в Европе, где различные вероисповедания относились бы одно к другому с большею веротерпимостью. С точки зрения современной истории и будущих судеб Венгрии, различие языков и национальностей имеет гораздо более важное значение, чем различие религиозных верований и обрядностей. Главный политический вопрос, который теперь предстоит решить, заключается в достижении равновесия рас и народностей.
После мадьяр, германская раса есть бесспорно важнейшая между населяющими Венгрию племенами, не по численности,—хотя она обнимает слишком два миллиона жителей,—но по промышленности, торговле, цивилизации: «мадьяры основали государство, но города были основаны немцами». Городское общество или средний между народом и дворянством класс был почти всецело их созданием; пока евреи, относительно малочисленные, не сделались главными посредниками в торговле, торговая деятельность края тоже была сосредоточена в руках немцев. Города их некогда вели постоянные сношения с членами Ганзейского Союза; впрочем, немецкие торговые люди были радушно принимаемы или даже приглашаемы венгерскими королями, и во многих грамотах того времени их называют «гостями». Большинство городов, занимаемых немцами, пользовались полным самоуправлением; они зависели непосредственно от короля и не платили дорожных пошлин; они могли даже соединяться между собою в союзы, составлявшие как бы государство в государстве; так, например, двадцать четыре немецкие прихода в области Сепазии или комитате Сепеш (Szepes), у подножия Татры, образовали из себя, в тринадцатом столетии, большое политическое братство. Немецкие города Трансильвании сгруппировались в самостоятельную нацию, равноправную с мадьярами и секлерами. Самый Пешт, бывший первоначально славянскою деревнею, как показывает его имя, сделался почти исключительно немецким городом; только немец мог быть выбран там в судьи, а в числе двенадцати советников городской ратуши только двое были из мадьяров. В половине четырнадцатого столетия, когда венгерцы, сделавшиеся более многочисленными, назначили одного судью из своего племени, немцы, оскорбленные такою дерзостью, бросили несчастного избранника в Дунай. Еще в 1866 г. мадьяры жаловались на то, что в муниципальном совете никто не понимает их языка, вследствие чего пришлось назначить оффициального переводчика.
Германские населения Венгрии прежде известны были под разными именами, смотря по их первоначальной родине, то-есть стране, из которой они переселились. Немцы, живущие в ближайших к Вене комитатах, на западе и на юге от Нейзидлерского озера, и называемые Hienzen, суть колонисты, пришедшие из соседней Австрии: Heidebauern, которые населяют территорию, заключающуюся между Нейзидлерским озером и Дунаем, принадлежат к аллеманской отрасли, и первоначальную их родину, как полагают, следует искать на берегах Констанцского озера. Большинство немецких рудокопов в северо-западных комитатах состоит из саксонцев, тогда как южные области, долгое время находившиеся во власти турок, были колонизованы швабскими крестьянами и ремесленниками: эти колонисты прибыли сюда массами, в особенности перед войнами французской революции, и переселение их продолжалось еще в 1829 году.

Замечательно, что одна довольно компактная группа немцев, в числе около 200.000 душ, находится в непосредственном соседстве с секлерами, на южной окраине Трансильванского плоскогорья. Эти немцы живут в нагорной равнине Алюты, называемой Бурценландом, вокруг города Брассо (по-немецки Кронштадт), и в гористой области, которая тянется на север от Фогараша и Большего Сабена (Nagy Szeben, по-немецки Германштадт) до Медиаша (Medgyes, Mediasch) и Шегешвара Segesvar, по-немецки Schassburg, Шесбург). Их обыкновенно называют «саксами» или «саксонцами», хотя только самое малое число их предков действительно принадлежало к этой отрасли германского племени. Большинство колонистов, которых венгерские короли призвали в Трансильванию для пополнения пробелов в населении, причиненных завоеванием страны, были уроженцы Фландрий и низменных прирейнских равнин. В двенадцатом и тринадцатом столетиях страшные разливы Северного моря и наводнения рек заставили жителей этой части морского прибрежья удаляться в более безопасные места внутри континента, и таким образом вызвали общее отступательное движение, которым и воспользовались государи Венгрии, чтобы заселить пустынные земли в своих владениях и распространить в них земледелие. Прежде думали, что немецкое название Трансильвании, Siebenburgen (Семиградье или Семигорье), было дано стране рейнскими колонистами, в память вулканической горной группы, называемой Семигорье (Siebengebirge), которая господствует над Рейном, при входе его в большую равнину; но гораздо вероятнее, что это название произошло от имени замка Сибин (по-немецки Siebenburg), у подножия которого выстроился город Большой Себен (Nagy Szeben) или Германштадт. Старинные крепостцы, возвышающиеся там и сям в этой области, были созданием самих горожан, которым здесь не приходилось испытывать на себе феодального режима.
Несмотря на совершенно изолированное положение, в котором жили «саксонцы» в продолжение пяти или шести столетий, эти колонисты лучше сохранили свой язык и нравы, чем многие другие группы их земляков, более приближенные к первоначальной родине и менее тесно окруженные другими, чуждыми народностями. Это явление должно быть приписано, без сомнения, большому превосходству знаний, которое фламандские, рейнские и саксонские переселенцы имели над своими трансильванскими соседями, румынами и секлерами, и которое они сохранили до нашего времени посредством своих школ. Оттого они без труда сделались городским населением или средним классом обитаемой ими страны, и сословное различие присоединилось к различию языка и происхождения, как новая причина, способствовавшая их обособленному существованию в виде отдельных общин. Они остались тесно сплоченными в маленькую Германию на этой отдаленной оконечности империи, и австрийская бюрократия могла вербовать между ними преданных и послушных чиновников. Говорят, что со времени битвы при Садовой у трансильванских немцев усилилось патриотическое честолюбие, и что на Берлин они стали смотреть еще более, чем на Вену, как на свою метрополию. Как бы то ни было, политическое их влияние уже не может быть столь значительным, как было прежде. Вокруг них мадьяры и румыны сделались цивилизованнее, богаче и многочисленнее, тогда как саксонцы, у которых браки между близкими родственниками сравнительно очень часты, численно увеличиваются мало, или даже уменьшаются; по словам Бонера, смертность между ними сильнее, чем между их соседями. Средняя смертность (?) в Трансильвании, по Бонеру («Transylvania», р. 288): саксонцы—1 на 33,5 жит.; мадьяры—1 на 36,3 жит.; румыны 1 на 39 жит. Говорят, что во избежание раздробления земли немецкия семейства в Трансильвании благоразумно стараются ограничивать число детей двумя или тремя, тогда как рядом с ними необыкновенно плодовитая румынская раса заселяет все новые деревни, и с каждым десятилетием распространяется все далее и далее в пределы владений своих прежних господ германского племени. Берега реки Алюты так же, как многие округа Бурценланда, местности, которые прежде принадлежали исключительно немецкому населению, постепенно переходят в руки валахов. В центре края германский элемент мало-помалу уступает первенствующую роль мадьярам. Нынешняя столица Трансильвании, Коложвар (Kolozsvar), прежде была чисто немецким городом и носила немецкое имя Клаузенбург.
Вообще это постепенное изменение национальностей представляет очень любопытное явление с точки зрения психологии народов. Так, например, в северной Венгрии немцы, несмотря на близкое соседство с главною массою германского населения, омадьярились в большом числе, или вследствие природной вялости, или из желания избегнуть насмешек и презрения венгерцев, которое так жестоко выразилось в следующей мадьярской поговорке: «Eb а nemet kutya nelkul» (немец—все равно что собака). Хроники упоминают множество немецких колоний, которые теперь уже совершенно утратили свою первоначальную национальность; принадлежащие к этим колониям семейства сделались совершенно мадьярскими даже по имени, которое они переменили или переделали на венгерский лад. В карпатских комитатах, среди словаков и русинов, многие немцы тоже ассимилировались с окружающею средою: там они сделались славянами. Обратное явление замечается в Банате и в других частях южной Венгрии, где немцы, пришедшие по большей части из рейнского бассейна лет сто тому назад, находятся в соприкосновении с румынами и сербами. В тех местах, где румыны не образуют семейных групп и где они живут в зависимости от немцев, как прислуга или работники на фермах, они легко онемечиваются. Сербы, обладающие более твердым характером, оказывают сопротивление влиянию хозяев; однако, и они в конце концов уступают, и нельзя указать ни одной деревни, которую бы они в это последнее время завоевали своему языку, тогда как многие селения сделались, по господствующей речи, немецкими.
Гораздо более многочисленные, чем немцы, славяне Венгрии принадлежат к различным национальным группам, не живущим в смежных странах. Словаки, самые многочисленные представители славянского племени на венгерской территории, населяют сплоченными массами всю северо-западную область страны, заключающуюся между Дунаем и горами Татра; кроме того, они образуют несколько островов между другим населением в Венгерской низменности, и даже на юге от великой реки, в горах Пилиш, встречаются словацкия деревни; но в южной Венгрии и Трансильванской плоской возвышенности представителями этой нации являются только отдельные лица. Словаки ближе всего подходят к чехам и моравам, занимающим противоположный склон Малых Карпатов и Бескидов, и составляют с ними одну этнологическую область. Наречие их настолько похоже на чешский язык, что они могут без труда понимать, когда с ними говорят чистым пражским диалектом. Впрочем, чешский язык прежде был повсеместно употребляем у словаков, как язык церкви и школы, так что его обыкновенно называли «библейским языком». Еще недавно, почти все писатели словацкого происхождения употребляли для своих сочинений исключительно чешский язык; только с 1850 г. словацкий язык, правила которого были определены изданною в этом году грамматикою Мартина Гатталы, совершенно освободился от чешского, как язык литературный. Главную отличительную черту его составляют обилие двугласных и богатый запас старинных слов, который он сохранил до сих пор. Часто повторяли, что словаки были, в средние века, воспитателями мадьяров, которых они будто бы научили земледелию, ремеслам и искусствам; но на самом деле эта задача была выполнена словенамп, жителями южного берега Дуная, которые с давних пор уже забыли свой родной язык и смешались с венграми.
Словаки так же щедро одарены физически, как и их братья, населяющие долину Эльбы; вообще говоря, они отличаются высоким ростом, крепким и стройным телосложением, приятными чертами лица; голова у них меньше, чем у чехов, но лоб широкий и открытый, красиво обрамленный густыми волосами, почти всегда соломенно-желтого цвета. Они еще почти везде сохранили свой национальный костюм, который очень идет к ним: холщевая рубаха, куртка и штаны из грубого белого или коричневого сукна—таков праздничный наряд молодых людей; молодые девушки носят поверх синего платья куртку, такую же, как у мужчин. Название «белый пол» (biele pohlavie), которое дают женщинам в словацкой земле, соответствует названию feher nep или «белый народ», употребляемому в Венгрии.
Славянские земледельцы в этой части Венгрии более, чем где-либо, терпят нужду. Природа очень скупо наделила их своими благами, и почва, которую они обработывают в поте лица, не производит даже того, что необходимо для их собственного пропитания. Вследствие этого, каждый год тысячи из них принуждены отправляться на заработки в чужие края, в качестве землекопов, чернорабочих или торговцев. Подобно тирольцам, оверньятам и многим другим европейским горцам, почти все словацкие выходцы занимаются каким-нибудь особым промыслом, составляющим исконную специальность их родного села: смотря по преданиям своей долины, они делаются торговцами благовонных масл, материй, сыров, ведер, гребенок, разного рода изделий из дерева и пр. Особенно выделяются между ними жестяники, мастерящие разные мелкие вещи из железной проволоки. Эти странствующие промышленники, по большей части уроженцы Тренченского комитата, путешествуют группами или партиями по всем государствам Германии и заходят даже во Францию: за границею они любят называть себя мадьярами или венгерцами, кроме только Богемии, где их очень хорошо принимают, как славянских братьев. Честность их выше всякого испытания; вместе с тем они умеют доводить до крайних пределов возможного искусство жить малым: неимоверною бережливостью и всевозможными лишениями им удается скопить на чужбине несколько червонцев, с которыми они и возвращаются, торжествующие, в свое отечество.
До настоящего времени словаки имели малую долю участия в управлении делами страны; но теперь они, среди различных национальностей Венгрии, образуют уже большую группу, которая сплачивается все теснее и теснее. В семнадцатом столетии представители этого племени были немногочисленны; в наши дни число их возрасло уже почти до двух миллионов, и многие города и округа, которые прежде были заняты немцами и венгерцами, отныне принадлежат словакам. Правда, что расширением своей области словацкая народность обязана отчасти австрийскому правительству, которое прогнало немцев-протестантов из горнозаводских городов верхней Венгрии и Сепешского комитата и отдало землю словакам-католикам; но эти последние и сами, естественным путем, распространяются все далее, благодаря быстрому возрастанию их семей. Как на пример размножения и постепенных захватов этой расы указывают на деревни Детва и Детва-Гута, в Золиомском комитате, которые вместе содержат ныне более 12.000 жителей, и основанием которых послужил маленький поселок среди прогалины, вырубленной в лесу. Городок Сент-Мартон (Turocz-Szent-Marton) может быть рассматриваем как литературный центр словацкой нации.
Русины или малороссы, восточные соседи словаков, населяют более узкую полосу земли на склоне гор, где берут начало Тисса и её верхние притоки. У венгерцев они известны под именем Oroszok, которое есть синоним названия русских; и действительно, это славяне того же племени, как и жители бассейна Днестра. Первоначально они поселились маленькими группами в огромных лесах, покрывавших некогда все скаты Карпатов, и мало-по-малу заняли ту обширную территорию, где мы их находим в настоящую минуту, между цепью Татра и Трансильванскими горами; подобно словакам, они тоже постепенно распространялись в пределы области своих иноплеменных соседей, и многие округи, где еще в прошлом столетии население говорило немецким языком, теперь сделались русинскими. Венгерские или угорские «русские», хотя они и соплеменники русских, принадлежащих к великой славянской империи, и хотя панслависты предъявляют на них притязания, как на будущих подданных России, повидимому, не встретили, как освободителей, солдат Паскевича, пришедших подавить венгерскую революцию в 1849 году. Эта отрасль славянской расы, самая мирная и наименее притязательная относительно особой политической автономии, мало-по-малу «омадьяривается» на окраинах Венгерской равнины, а в соседстве с Трансильваниею она постепенно «орумынивается». Известны целые округи, населенные русинами, которые говорят только валашским или венгерским языком; во многих церквах, где литургия совершается еще на древне-славянском языке, проповедь произносится уже на мадьярском. Главный центр их—Унгвар, по-русински Ушгород.
Сербы южной Венгрии, живущие преимущественно в Банате и в прибрежных территориях Дуная, не распространялись по стране постепенно, шаг за шагом, как их северные родичи, словаки и русины: они переселились на мадьярскую почву целым народом. Правда, в начале средних веков отдельные группы сербов, остатки древних племен, пришедших из Сарматских равнин через Карпаты, встречались уже на северном берегу Дуная, и история упоминает об их военных экспедициях; но роль их в придунайских землях была ничтожна в сравнении с тем важным значением, которое они приобрели после разрушения сербского царства турками: тогда огромное множество беглецов поселилось на северном берегу Дуная, в Банате, по берегам Тиссы и даже на острове Чепель, ниже Пешта. В конце семнадцатого столетия, именно в 1690 году, это переселение сербов по своим размерам напоминало исход израильтян из Египта: в этом году более 36.000 сербских родов или задруг, заключавших, может быть, от 400.000 до 500.000 душ, перешли Дунай и отправились на поиски нового отечества, которое им обещал император Леопольд, призвавший их к восстанию против их повелителей, турок. Чтобы найти этой массе эмигрантов необходимое пропитание, пришлось сначала разместить их не только в ближайших к Дунаю округах, но также вокруг городов центральной и северной Венгрии, до Дьёра и Большего Варада (Nagy-Varad); затем им отвели для жительства область Бачка (Bacska), в то время почти безлюдную, которую они занимают и до сей поры. Из них организовали полки для защиты границы от вторжения турок; но они долго ждали исполнения обещания, данного им императором Леопольдом, «вернуть их на родину», и только после продолжительных колебаний, решились заменить свои шатры постоянными постройками. Отличавшиеся от своих соседей, немцев и мадьяр, расою, религиею и нравами, подчиненные всякого рода стеснительным регламентам, сербские выходцы должны были много выстрадать, и политическое их существование в течение долгого времени было лишь непрерывною борьбою. Те из них, которые жили в Пеште, в городах и местечках центральной Венгрии, на севере от Баната и области Бачка, утратили по большей части свою национальность вследствие смешения посредством браков с другими народностями, тогда как другие переселились ближе к южным комитатам, где племя их живет сплоченными массами.
В настоящее время венгерские сербы, в числе более полумиллиона душ, составляют совершенно особую группу населения в своем новом отечестве, и, благодаря своей храбрости, уму, силе национального сцепления, патриотическому рвению, играют гораздо более видную роль в общем составе транслейтанской монархии, чем другие народы, более многочисленные. Они энергичнее, чем словаки, русины, немцы или румыны, борются против политического преобладания мадьяр; в 1848 и 1849 годах они даже с ожесточением дрались с венгерцами на полях битв. В настоящую минуту патриотизм венгерских сербов проявляется преимущественно ревностными усилиями к сохранению и распространению их языка: основанное ими общество «Матица» (Matica, т. е. царица или матка пчел) оказало величайшие услуги изучению сербской истории и филологии. Город Уй-Видек (Uj-Videk), который они называют Новым Садом (Novisad, по-немецки Neusatz), сделался для них центром литературной деятельности, чем-то в роде умственной и духовной столицы; здесь знаменитый Шафарик, словак по происхождению, написал многие из своих почтенных трудов по этнографии и языковедению славянских народов; здесь же основалось общество «Омладина», сделавшееся страшным мадьярам, как политическая ассоциация. Будучи представителями южного славянства, сербы полуденной Венгрии пользуются тою важною выгодою, что они опираются на задунайских славонцев, на жителей независимой Сербии так же, как на хорватов, австрийских далматинцев и всех славян Турции; но не со всеми этими славянскими народностями они связаны узами общей религии. Между католиками-хорватами и православными сербами существуют многочисленные разногласия; точно также чохачи или буньевачи, католического вероисповедания, живущие уединенными группами между венгерскими сербами и сплошными колониями в Мариа-Терезиополе (Сабадка) и его окрестностях, часто не ладят с ними, хотя оба народа происходят от одного корня и говорят одинаковым языком. Два сейчас названные племени называют себя далматами, и действительно, если верить их народным преданиям, они вышли из Иллирии, в начале семнадцатого столетия.
На территории собственно Венгрии живут еще и другие славянские национальности: более сотни тысяч хорватов перешли на севере за пределы триединого королевства; венды или словены примешиваются к ним близ границ Цислейтании; около двадцати тысяч болгар, замечательных своим трудолюбием и образованием, рассеяны отдельными группами среди румынского населения Баната; на южном склоне Галицийских Карпатов живут поляки; в долине Караша, к северу от Базиаша, осело, после многочисленных эмиграций, население болгарского происхождения, красованы, называемые так от деревни Красова Полу-сербы по языку, почти румыны по одежде и нравам, красованы в одно и то же время католики и православные, а по своим суевериям это сущие шаманисты. В Трансильвании же славян теперь почти совсем нет, хотя прежде они были там многочисленны, как о том свидетельствуют сохранившиеся до сих пор славянские названия мест. В настоящее время на этой плоской возвышенности живут только мадьяры, немцы и румыны, из которых последние составляют значительное большинство.
Каково бы ни было происхождение трансильванских валахов,—считать ли их потомками древних латинизовавшихся даков, оставшихся в стране после отозвания римских колонистов императором Аврелианом, или потомками переселенцев, вернувшихся в Трансильванию с юга,—достоверно то, что в средние века они не играли никакой исторической роли. Летописи в первый раз упоминают о них, как о жителях трансильванского плоскогорья, только около половины пятнадцатого столетия. Все города, основанные или вновь отстроенные римлянами, утратили свое первоначальное латинское имя и получили названия славянские или мадьярские; даже главный город этой области, знаменитая Сармизегетуза, переименованная в Ульпиа-Траяна (Ulpia-Trajana), в честь победителя даков, сделалась бедною деревушкою Гредистиа (по-венгерски Варгельи), и румыны до сих пор знают ее под этим славянским именем: преемственность предания была совершенно прервана народами, последовательно занимавшими область Карпатских гор.
Румыны, вопрос о происхождении которых принадлежит к интереснейшим проблемам всемирной истории, составляют теперь, после мадьяр, самую многочисленную национальность во всей Венгрии и Трансильвании. Они населяют сплошными массами большую часть Баната и более половины гористой области, господствующей на востоке над Венгерскою равниною. Таким образом, эти румынские земли Венгрии и Трансильвании составляют, вместе с Буковиною, Молдавией, Бессарабиею, Валахиею, полный круг олатинившагося населения, центр которого, по странной игре случая, занимают секлеры и «саксонцы», обитатели верхней долины Алюты. Около двух с половиною миллионов румынов живут в венгерской части этого обширного этнографического круга. Вообще мало найдется наций, которыя бы так быстро расширяли область своего распространения в ущерб соседним народам, как румынское племя. Тысячи валахов, оттесненных сначала куманами, затем турками, на северный склон Трансильванских Альп, размножились до того, что сделались преобладающею расою: славяне совершенно исчезли, слившись с румынскими пришельцами, и не оставили других следов своего пребывания, кроме названий гор, рек и городов; мадьяры, секлеры и немцы оказывали более энергическое сопротивление охватывавшему их со всех сторон потоку валахов; но если мы сравним статистические данные прошлого столетия с новейшими народными переписями, то оказывается, что из всех национальностей, населяющих Трансильванию, наиболее важное значение имеет именно та, которая юридически даже не носила особого названия до половины текущего столетия, и которую при переписях считали вместе с мадьярами, при чем её представители благородного происхождения были помещаемы в числе членов венгерского дворянства.
Население Трансильвании, с приблизительным разделением на главные расы:
| Румыны | Секлеры и мадьяры | Немцы | Общая цифра жителей | |
| В 1861 г. по Бенке | 547.250 | 262.000 | 130.500 | 939.750 |
| В 1877 г. | 1.275.000 | 625.000 | 210.000 | 2.127.000 |
| В 1890 г. (31 декабря) | 1.276.890 | 697.945 | 217.670 | 2.251.216 |
В тех округах, куда молодые румыны ходят на заработки в качестве пастухов или работников на фермах, они, конечно, должны по необходимости выучиваться языку своих хозяев; но если они переселяются целыми семьями в какую-нибудь сербскую деревню в Венгрии, то элементы населения мало-по-малу получают новую группировку, и происходит медленный, но непрерывный процесс «румынизации». Занятое пришлыми валахами предместье, постепенно расширяясь, соединяется, наконец, с кварталом, населенным другими расами или национальностями, и часто совсем поглощает его. Так, например, Темешварский округ, население которого прежде состояло почти исключительно из сербов и немцев, содержит в наши дни гораздо более значительное число румын, чем двух названных народностей. Как-бы для того, чтобы избежать поглощения валашским населением, славянские жители перемещаются мало-по-малу к западу, в округ Большой Кикинды (Nagy Kikinda) и на другую сторону Тиссы. Католические болгары Темешварского Баната почти совершенно обрумынились, а сербы многих округов, хотя и не забыли еще своего родного языка, но говорят уже даже между собою по-румынски. Словом, ни одна раса не обладает в более сильной степени, чем румынская, способностью поглощения других национальных элементов, с которыми она приходит в соприкосновение, хотя румыны, вообще говоря, народ смирный и миролюбивый; более могущественная, чем армия завоевателей, маленькая колония валашских земледельцев во многих местах была достаточна для того, чтобы изменить мало-по-малу национальность целых населений.
Главною причиною этого этнологического явления следует считать, без сомнения, трудовую деятельность румынов, как хлебопашцев и рабочих; но говорят, что оно происходит также частью от одного недостатка этого племени, именно оттого, что румыны не имеют ни способности, ни охоты к изучению иностранных языков. Будучи в соприкосновении с мадьярами или славянами, румын не сделает с своей стороны ни малейшего усилия, чтобы научиться разговаривать с своими соседями, когда его не понуждает к тому крайняя необходимость; он предоставляет другим попробовать заговорить на его языке, если они желают вступить с ним в беседу. Соседи его, действительно, уступают, и вскоре валашский язык становится общею разговорною речью, не только между румынами и окружающими их иноплеменниками, но даже между славянами и немцами. Кроме того, те же самые нравственные качества, которые благоприятствуют распространению итальянского элемента в Тироле, способствуют успехам румынского племени на берегах Дуная. Даже во времена народных бедствий румыны умеют терпеть: они легко переносят голод в надежде на лучшие дни; потом, когда нужда минует, они остаются единственными хозяевами земли, так как тем временем их сербские соседи, менее выносливые, удалились куда-нибудь в другое место. Валашские женщины, благодаря своей красоте и природной грации, тоже являются непреодолимыми деятелями в отношении ассимиляции соседних рас. «Стоит только валашке вступить в семью—и весь дом делается валашским», говорит одна сербская пословица. А между тем молодые сербы православного исповедания часто берут себе в жены румынок предпочтительно перед своими соотечественницами, тем более, что в этом случае им достаточна менее значительная сумма для выкупа невесты. В Венгрии до сих пор еще существуют округи, где торговля браком ведется публично, с наивностью первобытных времен. Так, например, в Топанфальве, в верхнем бассейне реки Араньош (Золотая река), молодые люди стекаются из всех окрестных местностей на «ярмарку невест», которая бывает здесь в конце июня, в день апостолов Петра и Павла. Невесты присутствуют на торжище сотнями, молодые и старые, красивые и уродливые, в сопровождении своих родных и друзей; разодетые в свои лучшие наряды, они сидят на своих сундуках с платьем и даже имеют при себе скот, который им назначен в приданое. Тут же где-нибудь под деревом расположился нотариус, восседающий за походным столиком, в ожидании минуты, когда потребуются его услуги по составлению брачных контрактов. Случалось, что в одну ярмарку устроивалось таким образом 140 помолвок. У мадьярских секлеров, живущих на молдавской границе, нередко бывали примеры непосредственной продажи молодых девушек специальным торговцам самими родителями. Еще недавно, не проходило года, чтобы таможенные надсмотрщики не задерживали на границе этот живой товар, за который платили продавцам по пятидесяти и по сту франков за штуку. Секлерских девушек можно встретить даже в гаремах Азии.
Замечательно, что только в 1848 году, под влиянием политических событий, румыны многих частей Венгрии, и преимущественно Баната, пришли к сознанию своей национальности. До этого времени они даже не знали друг-друга под именем, которое было бы общим для всех представителей их многочисленного племени. Одни из них, потомки кочевых пастухов, бродивших со своими стадами по равнинам, известны были под именем Fraduci; другие, жившие в горнозаводских округах, в качестве дровосеков, возчиков, рудокопов, назывались Pofani. В настоящее время, эти древние касты мало-по-малу исчезают. Все карпатские румыны, как ни мало они образованы, отлично знают, что раса их одна из самых многочисленных между народностями, населяющими Венгрию, и говорит языком одинакового происхождения с языками могущественных наций Западной Европы. Они знают также, что их братья, молдоване и валахи, соединены в нацию независимую; вследствие этого, у них естественно должно развиваться некоторое чувство или сознание патриотической солидарности; но, как народ, они еще очень далеки от того, чтобы могли помышлять о завоевании себе политической самостоятельности или автономии. Во время войны Венгрии с Австриею они поднялись против господ,—как это сделали их отцы в 1784 г.,—сжигая города, разрушая замки, вырезывая целые семейства; однако, было бы ошибочно видеть в этой истребительной войне единственно следствие племенной ненависти. Румынские крестьяне тогда не были уже крепостными, так как венгерский сейм, за несколько времени перед тем, освободил их от помещичьей власти и прикрепления к земле; но, полагая, что им грозит новая крепостная зависимость, они воспользовались представившимся удобным случаем удовлетворить свою веками накипевшую злобу против господствующего класса.
С тех пор обстоятельства изменились. Румынские земледельцы успели уже привыкнуть к своему новому положению крестьян-собственников, и если, к сожалению, они не всегда умеют сохранить свой земельный надел, по причине своей обычной непредусмотрительности и разоряющего их ростовщичества, то в постигшем их несчастий они винят еврея. С самого начала венгерской истории евреи были главными посредниками торговли в большой равнине Карпатов; они, вместе с болгарами-мусульманами или «измаильтянами», занимались обменом добычи, привозимой мадьярами из своих разбойничьих экспедиций, и через их же посредство велась торговля невольниками. Правда, часто они и сами были обращаемы в настоящее рабство и подвергались всевозможным притеснениям; многие из них даже погибли на костре. Но деньги, которые они умели наживать, несмотря на угнетение, всегда заставляли государей и магнатов Венгрии льстить им и даже давать иногда временные привилегии. Только в 1867 г. евреи были совершенно уравнены с христианскими жителями Венгрии в гражданских и политических правах, но религия их и теперь еще только терпима. По закону, прозелитизм и смешанные браки им все еще запрещены. Говорят также, что, не взирая на конституцию, секлеры до сих пор решительно не пускают евреев на свою территорию: как только какой-нибудь из сынов Израиля явится в их деревню, они вежливо выпроваживают его за пределы своей общины, приглашая никогда более не возвращаться к ним.
С прошлого столетия число евреев в Венгрии возрасло неимоверным образом; в продолжение последних ста лет оно увеличилось по меньшей мере в восемь раз. В некоторых округах, населенных словаками и русинами, они составляют уже большинство жителей; Мункач теперь уже скорее жидовский, чем христианский город. Пешт, где в 1836 г. насчитывали всего какую-нибудь, тысячу евреев, имел 31 декабря 1890 г. уже 103.317 жителей этого племени; после Варшавы и Вены это—самый большой еврейский город во всем свете. Рождаемость у евреев весьма значительна, и статистика показывает, что они лучше, чем другие расы Венгрии, противостоят болезням эпидемическим и эндемическим. Так, например, в таком нездоровом городе, как Пешт, средняя их жизнь по меньшей мере вдвое продолжительнее средней жизни других жителей; можно сказать, что атмосфера как будто очищается вокруг этого живучего и плодовитого племени. Даже в 1872 и 1873 гг., когда холера, свирепствовавшая в Венгрии, уменьшила число мадьяр, немцев, румын и славян, еврейское население продолжало увеличиваться, потому ли, что евреи сравнительно менее подвержены эпидемиям, или по причине более заботливого ухода, которым пользуются их дети, и свойственного их племени духа солидарности. Иммиграция тоже способствует, в значительной степени, возрастанию еврейского населения в крае. Из Галиции, из Польши, из России евреи бесшумно идут на завоевание Венгрии и трансильванского плоскогорья. Почти во всех деревнях словацких, русинских и румынских, даже в самых бедных, «избранный народ» непременно имеет своего представителя в лице ростовщика. Во многих местах, откуда предки его были изгнаны, и где еврей является единственным представителем своей расы, он, тем не менее, скоро делается полновластным господином, так как он держит кабак и лавочку, он продает в кредит водку и, в случае надобности, ссужает своих покупателей маленькими суммами, конечно, под верный залог. Следствием этого бывает то, что земля мало-по-малу переходит из рук румына в руки ловкого жидка. Несчастный крестьянин, видя, как его собственность ускользает от него клочек за клочком, проклинает в душе своего разорителя, но не имеет ни воли, ни силы обойтись без его услуг, и сам роет ту бездну нищеты, в которую он неизбежно должен пасть. Богатый магнат тоже разоряется, и его имения, обремененные долгами, опять-таки достаются какому-нибудь ростовщику-еврею. Некоторые из евреев, очень ловкие спекуляторы, управляют приобретенными ими поместьями с большою заботливостью; но большинство их, особенно в Трансильвании, отдают землю в аренду тем же крестьянам, которых они разорили, или заставляют их выплачивать долг рабочими днями: таким образом прежняя барщина восстановляется в пользу еврея.
Армяне, которых часто сравнивали с евреями, походят на последних только своею любовью к торговле деньгами и своею привязанностью к вере, которая соединяет их в отдельную нацию. В Венгрии армянин не хватается за всякия отрасли торговли, не берется без разбора за первый попавшийся промысел. Он свято соблюдает коммерческие предания, унаследованные от отцов и дедов. После своих путешествий, он обыкновенно возвращается в торговые колонии, которые были отведены армянам лет двести тому назад, в эпоху переселения их в Трансильванию, в Самош-Уйвар (Арменополь) и Эбешфальва (Елизаветополь). Он не кочевник, не вездесущий человек, как еврей. Впрочем, армянский элемент, не пополняясь приливом новых переселенцев из метрополии, мало-по-малу уменьшается по численности, поглощаемый мадьярским населением. Немногие армяне знают язык своих предков, и те из них, которые умеют говорить на нем, должны изучать его, как мертвый язык.
Подобно армянам, индостанские цыгане, дополняющие собою пеструю смесь племен и наречий Венгрии, нашли в долинах Карпатских гор и в Дунайской низменности гостеприимную землю: здесь находится их географический центр в Европе. Вообще, в Венгрии это племя гораздо менее терпело притеснений, чем в других европейских странах. Начиная с пятнадцатого столетия, цыгане пользовались некоторыми льготами и составляли в государстве нечто в роде бродячих республик. В каждом комитате они сами выбирали своих начальников или судей, известных на варварском латинском языке того времени под именем agiles. Воевода этих кочующих инородцев назначался палатином и, подобно венгерским магнатам, носил титул egregius или magnificus. В конце восемнадцатого века императрица Мария-Терезия и сын ея Иосиф II, государь-философ, хотели насильно цивилизовать цыган, заставляя их обработывать почву, запрещая им ношение своего национального костюма и даже употребление родного языка. Несмотря на эти принудительные меры, некоторые группы сохранили свой родной язык и народные предания; но большинство говорит языком населения, среди которого живет. Очень многие из них, сделавшись собственниками своих полей, стали заниматься земледелием с таким же усердием, как их соседи других племен, и с течением времени совершенно утратили кочевые привычки своих предков. Этих оседлых цыган-земледельцев в крае обыкновенно называют «новыми крестьянами». Кроме того, есть цыгане, которые, не имея собственной земли, продолжают работать в одном и том же имении, прикрепленные к земле бедностью и силою привычки. Но по большей части они—кузнецы, лошадиные барышники или музыканты.
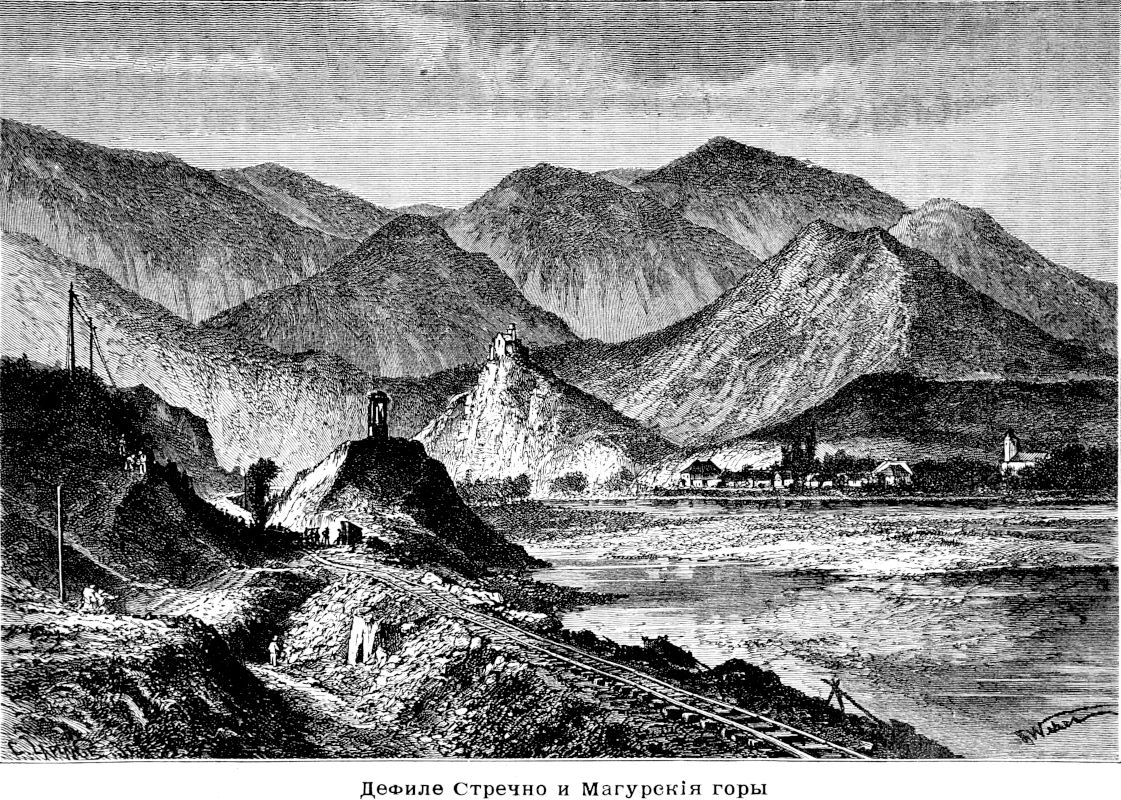
Музыкальный талант цыган был, без сомнения, главною причиною, которая так сильно располагала мадьяр в их пользу даже во времена средне-векового варварства, и благодаря которой они могли наслаждаться радостями дорогой для них вольной бродячей жизни. Без цыганской музыки не обходится ни один народный праздник в Венгрии. Сохранением своих старинных национальных песен венгерцы обязаны главным образом цыганам, которые посредством своей музыки постоянно поддерживали, несмотря на преследования австрийской полиции, пламя мадьярского энтузиазма. Маленький цыган делается музыкантом почти без всякого обучения. Проходя мимо дома, он схватывает на-лету какую-нибудь арию, разыгрываемую на флейте или на фортепиано, и тотчас же воспроизводит мотив её на скрипке, на виолончели или на цимбалах; он твердо заучивает эту арию и затем будет повторять ее на народных праздниках и вечеринках. В Венгрии нет ни одной деревни, где бы не встречались эти странствующие музыканты, которых государство до недавнего времени не заботилось посылать в школы, но которых оно не забывало брать в солдаты, по достижении ими совершеннолетнего возраста. Впрочем, не следует думать, будто существует резкое расовое различие между этими бродячими цыганами и другими народностями страны; если есть цыгане почти черные, то есть также и совершенно белые, отличающиеся только образом жизни от румын, сербов или мадьяр; вследствие смешений с другими племенами, видоизменяющихся до бесконечности, они представляют собою все национальности, населяющие Венгрию; однако, большинство цыган легко могут быть узнаны по типичному выражению их лица и по мрачному огню их глаз.
Чтобы перечислить подробно колонистов Венгрии, следовало бы также упомянуть о лотарингских французах, основавших в прошлом столетии поселения Сен-Губер (Nagy Oroszi), Шарлевиль (Kis Oroszi) и Сёльтур (Kis Oroszin), близ Большой Кикинды; далее, об итальянцах, поселившихся в Мерсивиле, и об испанцах, основавших Новую Барселону; но все эти колонисты совершенно слились с окружающим населением. Вычислить, даже в приблизительных числах, действительные пропорции различных рас, населяющих Венгрию, нет никакой возможности, так как многие из них давно уже забыли свой язык. Деление различных национальностей, живущих в стране, может быть сделано только по их языку, но и при этой работе мы наталкиваемся на большие трудности. Увлеченные духом партии или ложным патриотизмом, статистики впадали в противоречивые преувеличения, смотря по расе, к которой они принадлежат; вследствие чего исчисления их сильно разнятся одно от другого, так что в иных случаях цифры одного исследователя в два раза превосходят соответственные числа другого. Однако, справедливость требует прибавить, что если мадьяры, подобно немцам, румынам и сербам, часто преувеличивают численное значение своей расы, то они далеки от того, чтобы причислять к своей национальности всех тех, которые между другими народностями претендуют на имя венгерца. Они пользуются обаянием господства, и потому весьма естественно, что обожатели силы и многочисленные искатели мест выдают себя за венгерцев; но есть и такие, которые, принадлежа к другим расам, охотно причисляют себя к той национальности, которая уже в течение многих столетий является главною представительницею великого придунайского отечества; так, например, сербы Дамьянич и Вукович по собственной воле сделались венгерцами и фигурировали между героями войны за независимость.
Если бы судить о языке всего населения страны по языку, на котором ведется преподавание в школах, то абсолютное большинство оказалось бы на стороне венгерцев; но не подлежит сомнению, что оффициальный язык, т.е. мадьярский, пользовался в этом отношении особым покровительством. Всех школ в Венгрии в 1880 г. было 15.824, с 21.661 наставником и 1.619.692 учащимися; в том числе: мадьярских школ—7.342; румынских—2.756; немецких—876; словацких—1.716; русинских—393; сербских—245; хорватских—68; школ с преподаванием на двух языках—2.335; с преподаванием на трех языках—102.
Венгрия, не имеющая еще больших мануфактур, обязана своим богатством почти исключительно обилию и превосходному качеству своих земледельческих произведений. Хотя в этой стране встречаются и сыпучие пески, и солонцоватые степи, на которых, конечно, ничего не родится, но она имеет в то же время и обширные пространства «черных земель», не менее плодородных, чем русский чернозем, и образовавшихся также вследствие постоянного разложения растений в продолжение целых тысяч веков. Производительная почва в Венгрии составляет около 92, а непроизводительная только 8 процентов. Равнина Альфельд и в особенности та часть придунайского Баната, которую наводнения не превратили в болото, производят в урожайные годы огромные количества хлеба, который негоцианты Западной Европы признают лучшим во всем свете, и за который они платят дороже, чем за хлеб, вывозимый из других стран. Едва-ли найдется где-нибудь другая местность, которая бы представляла для сельского хозяина такое приятное зрелище, как обширная венгерская равнина, или перед жатвой, когда море золотистых колосьев волнуется на всем пространстве до пределов горизонта, переливаясь на солнце различными цветами, или после жатвы, когда почва покрыта бесчисленными скирдами, похожими издали на шатры, и когда массивные паровые молотилки, пуская клубы пара, отбрасывают в изобилии зерно и солому стоящим вокруг них крестьянам. Еще недавно часто случалось, что жнецы, оставаясь ночевать в поле, в холодную погоду разводили костры из снопов с зерном, и эта расточительность легко прощалась им. Все плоды венгерской земли отличаются превосходным качеством. Особенно славятся плоды, производимые садами и огородами юго-западной полосы, в окрестностях озер Нейзидлерского и Платтенского. Лен и пенька из Венгрии пользуются большою известностью, а венгерский табак вывозится во все государства Европы, преимущественно в Францию и Италию. Впрочем, развитию табаководства много мешают стеснительные правила, так как табак в Австрии составляет монополию казны. Смотря по годам, производство табаку изменяется от 20.000 до 50.000 тонн. Площадь возделываемой почвы в Венгрии: Пахатные поля—11.019.500 гектаров. Виноградники—392.500 гектаров. Луга и сады—4.315.500 гектар. Леса—9.413.450 гектаров.
После Франции и двух больших полуостровов Средиземного моря, Апеннинского и Пиренейского, Венгрия—самая богатая страна в Европе по размерам виноградарства и виноделия; виноградники её занимают в сложности площадь около 400.000 гектаров, и некоторые из её вин оспаривают пальму первенства у знаменитейших вин в свете. Слава токайского винограда, который растет на вулканических горных породах Копастете, к югу от Гедьялья (т.е. нижняя часть горы), и первые плоды которого были собраны в тринадцатом столетии итальянскими колонистами, не уступает славе лучших вин Франции, Испании или Италии. Токайское вино, как гласит мадьярская пословица, имеет «цвет и цену золота». Но этот виноградник, занимающий очень ограниченное пространство, не может распространиться по соседним косогорам; токайский виноград растет только на территории четырех местечек или деревень; даже сходного продукта нигде не существует56. Южные склоны гор Матра, холмы Трансильвании, идущие вдоль берегов Мароша, косогоры в окрестностях Арада, которые дают Menesi, красное вино, соперничающее с токайским, Веспремские высоты, холмы в окрестностях Эденбурга, холмы около Пресбурга и Буды, и в особенности бугор Промонтор (где виноградари живут в пещерах, вырытых в склонах горы), тоже производят очень ценные сорты винограда. Даже в равнине, где прежде исключительно занимались луговодством и хлебопашеством, теперь начинают разводить виноградники. Среднее производство вина увеличивается с каждым десятилетием, и большое количество винограда посылается, как столовый фрукт, в Германию, до Гамбурга. Производство виноградных вин в Венгрии в период 1861-1872 гг. (средний вывод)—3.224.300 гектолитров, ценность 97.500.000 франков; в 1873 г.—3.763.500 гектолитров, на 112.500.000 франков; в 1879 г.—6.314.434 гектолитров; в 1880 г.—2.426.800 гектолитров; в 1882 г.—4.607.638 гектолитров; на сумму 86.405.380 франков. Вывезено столового винограда в 1882 г.—1.410.887 килограм. К сожалению, в Венгрии, как и в Австрии, тоже появилась болезнь винограда, называемая phylloxera, и уже опустошила большие виноградники близ Панчовы. О венгерских виноградарях можно сказать, что хотя они еще рутинеры, но вообще обнаруживают гораздо более сметливости, искусства и уменья, чем другие земледельцы: «венгерский крестьянин, по выражению одного иностранного писателя, так же самодоволен, как немец, но между ними та разница, что первый воображает, что он может всему научиться, тогда как последний думает, что он уже все знает»57. Трансильванское общество «винных погребов», основанное по инициативе одного английского землевладельца, много содействовало успехам виноградарства и виноделия в крае58, но употребляемый венгерскими виноградарями способ сбора винограда и выжимания виноградного сока имеет тот недостаток, что белые вина не выдерживают перевозки, кроме тех сортов, которые в одно и то же время сладки и спиртуозны59.
Пастухи, которые до сих пор еще кочуют со своими стадами во многих местностях Альфельда и по горных пажитям, не могли, конечно, сделать никакого прогресса в искусстве пасти скот; но в последнее время стал ощущаться недостаток в местах, удобных для пастьбы, и равнины уже большею частью захвачены земледелием; область пастбищ все более и более съуживается, тогда как пространство лугов, естественных или искусственных, постоянно увеличивается. Впрочем, страна уже не так богата стадами скота, как была прежде60; вследствие больших эпизоотий, занесенных первоначально русскими армиями в 1849 г., погибло более 400.000 быков; коровы, вообще говоря, не отличаются большой молочностью, но рабочие волы превосходны; буйволы, употребляемые в некоторых местах, особенно в Трансильвании, как упряжной скот, имеют тот недостаток, что они очень упрямы и сильно страдают в случае недостатка воды в лужах или ручьях; их удивительная сила и привычка питаться самым грубым кормом делают их очень полезными в стране, изобилующей болотами и грязью; но по мере улучшения дорог, осушения почвы, успехов земледелия они должны постепенно выводиться из употребления. Туземные лошади очень ценятся за их резвость, верность шага и необычайную выносливость. Казна имеет большие конские заводы, где занимаются сохранением и улучшением породы. Что касается овец, то число их значительно увеличилось: мадьяры, которых привыкли представлять себе преимущественно как народ наездников, сделались в течение нынешнего столетия пастушеским народом, и теперь самые многочисленные стада овец бродят по пусте, именно в тех местностях, где венгерцы наименее смешаны с другими племенами. Свиноводство тоже составляет национальную отрасль сельского хозяйства, и чем ближе путешественник подъезжает к Сербии, тем более он встречает свиней, бродящих в множестве вокруг крестьянских домов. Темешварские окорока славятся не менее вестфальских своим превосходным вкусом. Количество домашних животных в Венгрии в 1880 г. представляло следующие цифры (при чем для сравнения приводим отношение числа скота к числу жителей в Венгрии и во Франции):
| На 1.000 жителей. | |||
| В Венгрии (1880 г.) | Во Франции (1877 г.) | ||
| Лошадей | 2.000.000 | 146 | 79 |
| Рогатого скота | 4.600 000 | 335 | 310 |
| Овец | 9.252.000 | 674 | 633 |
| Свиней | 5.500 000 | 401 | 156 |
| Коз | 236.000 | 18 | 49 |
Несмотря на плодородие почвы, земледелие в Венгрии обставлено большими невыгодами сравнительно с положением сельского хозяйства в странах Западной Европы. По причине господствующего здесь изменчивого, неровного климата, отличающагося резкими переходами и крайностями температуры, обработка почвы является настоящею игрою случая; здесь гораздо более, чем во Франции или Италии, поселянин зависит от капризов погоды. Когда дожди и засухи не мешают развитию растительности, он жалуется на чрезмерное изобилие урожая; напротив того, сколько бы он ни трудился, все его труды пропадают даром, если в продолжение целых месяцев не выпадает ни одной капли дождя, или если ветер из русских степей подует бурным вихрем и поломает растения. Вообще здесь земледелец ни в чем не может быть уверен до тех пор, пока жатва не убрана с поля61. Отсюда, вероятно, и происходит та кажущаяся беспечность, тот восточный фатализм, которые замечаются у мадьярских и румынских крестьян, и которые многими приписывались влиянию османлисов, прежних владетелей страны. Даже в самые тяжелые времена, когда нужда свирепствует в Трансильвании месяцы и даже годы, когда несчастный валах, принужденный довольствоваться маленькой порцией мамалыги, слышит плач своих голодных детей, он и тогда сохраняет свою удивительную кротость и покорность судьбе.
Одно из самых неблагоприятных условий венгерского земледелия заключается в неравномерном распределении земли. Многие обширные имения составляют еще собственность церквей и монастырей; другие имения до того велики, что владелец никогда не объезжал их вполне: это целые области, обнимающие сотни квадратных верст. Мелкая земельная собственность не занимает даже трети территории государства и состоит большею частью из очень маленьких участков; имения средней величины, где обыкновенно достигаются большие успехи в сельском хозяйстве, тоже существуют здесь в весьма незначительном числе, как видно из следующей таблицы, показывающей разделение поземельной собственности в Венгрии и Трансильвании в 1870 году:
Мелких землевладельцев, имеющих менее 5 венг. дес. (2,88 гект.=2,6 русск. дес.) 1.444.400; 32,3 проц. почвы.
Мелких землевладельцев, имеющих от 5 до 30 д. (17,33 гект.=15 русск. дес.) 903.710; итого 2.348.110; 32,3 проц. почвы,
Землевладельцев, имеющих от 30 до 1.000 дес. (577,6 гект.), 132.729; 28,6 проц. почвы.
Землевладельцев, имеющих от 1.000 до 10.000 дес. (577,6 гект.) 5.195; 30,6 проц. почвы.
Землевладельцев, имеющих более 10.000 дес., 231; 8,5 проц. почвы.
Огромные земли крупных землевладельцев, вообще говоря, очень дурно обработываются и приносят едва от 3 до 6 франков с гектара. Государственные имущества еще менее производительны; в 1870 г. они давали дохода только 1 франк. 36 сантимов с гектара,—так ничтожна была доходность земель, которые, по своим естественным качествам, причисляются к самым плодородным в Европе; но в эти последние годы она значительно возрасла. Поля мелкого дворянства, хотя и лучше утилизируемые, тоже находятся в незавидном культурном состоянии: в большей части Венгерской равнины и Трансильванского плоскогорья обработка почвы все еще ведется хищническим способом. Целые населения не знают еще пользы удобрения полей и употребляют навоз только для обкладки нижней части своих изб, чтобы было теплее зимою. Еще недавно, именно в 1873 г., в эпоху свирепствования холеры, в ближайших окрестностях Пешта возвышались целые горы навоза, продукта нескольких тысяч быков, откармливаемых бардою на винокуренных заводах. Чтобы избавиться от этого навоза, не придумали лучшего средства, как свалить часть его в Дунай, а остальное сжечь при помощи пяти огромных печей, где постоянно поддерживалось пламя. Подобные безразсудства объясняют нам, почему средний урожай хлеба на венгерских землях гораздо менее среднего урожая полей Франции и особенно Англии: в Венгрии средним числом получается только 10 гектолитров (около 5 четвертей) с гектара (около 9/10 десятины), тогда как во Франции средний урожай составляет около 181/2 гектолитров с гектара.
Тем не менее, в последнее время в земледелии и вообще в сельском быте Венгрии совершился большой прогресс, произошли многие перемены к лучшему. Многие имения магнатов были разделены, и так же, как во Франции, благосостояние крестьян постепенно увеличивалось по мере того, как возрастало число имений средней величины; в то же время выводилось и разбойничество; сделавшись земледельцем-собственником, обработывающим землю для самого себя, поселянин уже не подвергается искушению заниматься ремеслом грабителя на большой дороге62. Во многих округах самый вид местности совершенно изменился: поля обведены прямолинейными канавами, куда стекает избыток вод; через имения проложены хорошие шоссейные дороги; бесконечные шпалеры из акаций задерживают силу ветра. Эти полезные деревья зеленеют теперь в безлесной некогда пусте сотнями миллионов. Даже дюны, некогда подвижные, которые покрывают некоторые области низменной Венгрии, занимая в одном месте пространство около 50.000 гектаров (на севере от Дуная, между Панчовой и Базиашем, где они образуют одну непрерывную цепь или группу), были прикреплены насаждениями акаций, стволы которых, на половину сломанные и переплетающиеся одни с другими, продолжают тем не менее расти, образуя непереходимую преграду волнам сыпучего песку.
Но в то время, как равнина снова покрывается лесною растительностью, большие леса на горах, занимавшие целую треть территории страны, беспощадно истребляются. Удобства перевозки, представляемые ныне железными дорогами и каналами рек, дали возможность спекулянтам Западной Европы скупать в области Карпатов громадные леса, дубовые, буковые и сосновые, и вырубать их до-чиста; эти лесопромышленники оставляют после себя только голую скалу или жалкий кустарник. Давно уже вся центральная область Трансильвании, «страны лесов», Mezoseg, то-есть «поле» по преимуществу, совершенно выпустошена и лишена деревьев, так что теперь по бокам дорог растет только пыльный чертополох.
Горнозаводская промышленность Трансильвании, некогда весьма важная и обширная, уменьшилась в размерах сравнительно с прежним временем, отчасти по недостатку топлива. В трансильванских «Рудных горах», господствующих над верхним бассейном Араньоша или «Золотой реки», к югу от Коложвара, многие месторождения железа, свинца, золота, прежде разрабатывавшиеся, оставлены по причине дороговизны леса, необходимого для отопления заводов и подпирания галлерей. Впрочем, разработка рудников и теперь еще ведется довольно деятельно, и если Трансильвания не заслуживает уже названия «сокровищницы Европы», которое ей давали в прежнее время, то её горный промысел все еще способствует в значительной степени обогащению нашего континента благородными металлами. По количеству добываемого золота, Трансильвания до сих пор занимает первое место между всеми странами Старого Света, лежащими к западу от Уральского хребта; она доставляет этого металла ежегодно на сумму от 4 до 5 миллионов франков (добыча золота и серебра в Венгрии и Трансильвании в 1874 г. простиралась почти до 9.400.000 франков). Правда, эта сумма, извлекаемая из песка ручьев или из порфира гор, представляет собою количество труда, которое во всякой другой стране, с обширною промышленною деятельностью, имело бы гораздо большую ценность. Большие заводы, принадлежащие казне, работают в убыток, а тысячи золото-промывальщиков, сидящие на корточках по берегам золотоносных ручьев, зарабатывают гораздо менее, чем сколько могли бы приобрести во всякой другой отрасли промышленности или ремесл; но такова сила привычки и притягательное действие блестящего металла, что мадьяры, саксонцы и румыны продолжают разрабатывать месторождения золота из-за самой скудной прибыли. Верешпатак (Verespatak, т.е. Красный ручей), служащий главным средоточием золотых приисков, представляет чрезвычайно любопытное зрелище. Тысячи маленьких заводов тянутся нескончаемым рядом по обоим берегам ручья, из которого они выпивают воду до последней капли, для приведения в действие своих колес и толчей; выше расположен город, состоящий из одной бесконечной, извилистой улицы, обставленной жалкими избушками и старыми полуразвалившимися домами, которая поднимается вверх по долине, переходя из оврага в овраг; далее, над городом возвышается большая рудная гора, покрытая отвалами и изрытая по всем направлениям: идя внутри галлерей, можно подняться на вершину скалы или спуститься на противоположный склон, на пастбища, которые тянутся по направлению к горе Детуната. Та часть этой рудной горы, которую разработывали с поверхности римляне времен Траяна, особенно интересна, по причине её оригинального архитектурного вида. По-валашски она называется Citate (Csetatye), то-есть «городом», и действительно, можно подумать, что видишь перед собою какой-то мертвый город, с высокими башнями, с аркадами и сводами, с безмолвными улицами и площадями. Одна из шахт, знаменитая Katrincza, которую рудокопы открыли в соседней горе, имеет форму неправильного купола, около 126 метров вышиною, при средней ширине в 38 метров, и говорят, что каждый центнер руды, вынутый из этой огромной ямы, давал прибыли около 1.000 франков. На Верешпатаке, в горе Летти, были найдены знаменитые tabulae ceratae (навощенные таблички) римской эпохи, которые теперь хранятся в Пештском музее. Содержание этих табличек, разобранное Цангмейстером, относится к работам рудокопов, к их поручительствам и забору жалованья вперед в счет поденной платы и т.п.63.
Венгрия в собственном смысле тоже имеет свои «Рудные горы»: это горные группы в окрестностях Шемница (Selmeczbanya) и Кремница (Kormoczbanya), где также добывают драгоценные металлы, преимущественно серебро; но разработка серебряных рудников находится почти исключительно в руках казны, и, как часто случается с казенными промышленными предприятиями, ценность металла, получаемого из этих рудников, не покрывает даже содержания служащих и издержек управления. Недавно открыли золото в окрестностях Пакса и Дуна-Кемлода. Добывание медных, свинцовых и цинковых руд тоже не имеет большой важности; но разработка месторождений железа увеличивается с каждым годом; в 1874 году в Венгрии и Трансильвании было добыто 80.200 тонн железной руды, на сумму 200.575.000 франков. В комитате Сепеш (Сепазия), у подножия Татры, и на другой стороне Венгрии, в окрестностях Большого Варада (Nagy Varad) и Арада, но особенно в Оравицком горном округе, большие плавильные заводы постоянно заняты переплавкою железной руды, получаемой из окрестных рудников, в чугун и железо.
Подобно другим карпатским странам, Галиции и Румынии, восточное плоскогорье Венгрии чрезвычайно богато залежами каменной соли. По приблизительному исчислению, открытые до сих пор в Мармарошском комитате и в Трансильвании годные к разработке залежи содержат 3 миллиарда 300 миллионов тонн соли, то-есть такое количество, что если-бы существующее ныне годовое потребление этого минерала в Венгрии не возрастало, то заметное оскудение соляных копей наступило бы не ранее, как по прошествии 250 веков. Годовая добыча соли в Венгрии (в 1873 г.): 130.400 тонн. В Торде, на берегах Золотой реки (Араньош), масса соли, хотя и не столь громадная, как в Порайде, составляет, однако, по меньшей мере 800 миллионов кубических метров. Солекопы иссекают исполинские куполы в форме колоколов, из которых один, теперь уже оставленный, имел не менее 156 метров глубины: это чуть ли не самый обширный из всех куполов, созданных рукою человека. Залежи серы тоже весьма значительны. Те из них, которые тянутся на южной и на западной стороне горы Бюдеш, и которые составляют до 63 процентов массы почвы, содержат, по приблизительному исчислению, не менее 800.000 тонн. Наконец, Мармарошский комитат имеет источники нефти.
Полукруг Карпатских гор изобилует, кроме того, каменным углем и лигнитом (бурый уголь) различных геологических эпох, залежи которых разрабатываются преимущественно в окрестностях Фюнфкирхена (Pecs), между Дунаем и Дравою, в Рессиче, в румынском Банате, в Берсаске на нижнем Дунае и в Трансильванских Альпах. Добыча каменного угля в Венгрии (1873 г.): 1.488.000 тонн. Недавно в верхней долине реки Силь (Sil, Zsily, Siul, Chil), уже на склоне, обращенном к Румынии, но еще на трансильванской территории, быстро вырос горнопромышленный город Петрошени и стал оспаривать венгерский рынок у поставщиков иностранного каменного угля. Петрошенский бассейн содержит по малой мере 250 миллионов тонн превосходного угля; та часть этого бассейна, на разработку которой выдана концессия, заключает массу угля в 170 миллионов тонн, а один из каменноугольных пластов имеет не менее 20 метров толщины64. Общая ценность добытых в Венгрии, в 1873 г., минеральных продуктов (считая в том числе и соль) составляла 86.000.000 франков.
К естественным богатствам области Карпатов следует причислить также термальные и минеральные источники всякого рода. Ни одна страна в Европе не имеет, пропорционально пространству, такого множества этих источников, и медики насчитывают целые сотни целительных ключей, которыми уже пользуются; во всех долинах восточного Трансильванского плоскогорья из земли бьют минеральные ключи, большинство которых теряется без пользы в ручьях или болотах. Многие из этих минеральных вод приобрели европейскую известность: таковы, например, Фюредские воды, близ озера Балатон, и древние «Геркулесовы термы», к востоку от Мегадии, от которой они отделены небольшою цепью гор. Эти термы (с серными или соляными водами), над которыми господствуют последние отроги Трансильванских Альп, на севере от Железных Ворот, принадлежат к прекраснейшим в Европе по грандиозности и прелести окружающих пейзажей, и устроенные при них бульвары и аллеи для прогулок превосходно содержатся. Город Буда обязан своим древним именем Aquincum и своим происхождением горячим минеральным источникам, очень целебным и посещаемым многочисленною публикою. В 1880 г. Торма отыскал амфитеатр Аквинкума.
Разработка этих естественных богатств становится с каждым годом легче и доступнее, благодаря железным дорогам, которые теперь пересекают страну по всем направлениям; но обыкновенные большие дороги и проселочные дороги, которые должны питать движение на рельсовых путях, еще большею частью не шоссированы и почти во всей Венгрии представляют первобытные грунтовые пути, колеи которых, вечно покрытые грязью, извиваются вокруг луж. Сеть железных дорог во многих областях Венгерской равнины достигла более значительного развития, чем сеть обыкновенных дорог, и даже замечено, что в некоторых местах эти последние совсем не поддерживаются. Главная причина этого плачевного состояния путей сообщения заключается, без сомнения, в недостатке материала для шоссирования; «в Альфельде дороги мостят грязью», говорит местная поговорка. Вследствие этого, железные дороги, по недостатку подъездных путей, имеют движение, недостаточное для материального процветания предприятия. До недавнего времени эти рельсовые пути оканчивались в пунктах, не имеющих прямого выхода к стороне Востока. Старейшая железнодорожная линия, идущая из Вены к Константинополю, прерывается на Дунае, в маленьком местечке Базиаш, между Белградом и Железными Воротами, но две железные дороги, направляющиеся из Пешта к Черному морю, переходят Трансильванские Альпы, одна у Железных Ворот (темешварская линия), другая близ Кронштадта: это Предеальский путь, который поднимается по живописнейшей местности на перевал Темеш, а оттуда спускается в румынскую равнину, к Плоэшти. Из Венгрии в восточную Галицию существуют уже три рельсовые линии, пересекающие горы к востоку от группы Татра.
Когда исполинский естественный вал, образуемый Карпатами, будет перерезан во всех направлениях, и когда Балканский полуостров сделается по своей торговле и промышленности нераздельною частью истинной Европы, Венгрия и особенно Трансильвания изменят, так сказать, свое географическое положение относительно остального мира. До сих пор эти страны находились за пределами торговой и промышленной Европы; тогда они быстро поднимутся на степень одного из её экономических центров. Естественный путь от Северного и Балтийского морей к Черному, который прежде должен был обходить Трансильванскую плоскую возвышенность, пройдет в будущем по прямой линии, через стену Карпатов, и на протяжении его люди и товары будут увлекаемы постоянным оживленным движением. Сделавшись большою дорогою наций, горная твердыня, о которую так часто разбивались всесокрушающие потоки воинственных орд, и которую многие другие полчища завоевателей должны были обходить с величайшими трудностями, утратит, конечно, свою исключительную важность в военной истории европейского континента, но, взамен того, роль мирных торговых посредников, которая достанется на долю её населений, обилие и разнообразие её естественных произведений, краса и грандиозность её долин—все это обеспечит ей судьбу, сходную с судьбою Швейцарии, к которой она составляет, на другом конце центральной Европы, своего рода географический pendant.
Наружный вид городов большой Венгерской равнины и Трансильванского нагорья изменяется мало-по-малу, соответственно изменению экономических условий страны. Вследствие возрастающего увеличения ценности земли, заселения края и подражания западно-европейским нравам и обычаям, придунайские и карпатские города необходимо должны, рано или поздно, утратить свою оригинальную физиономию. Но, разумеется, это преобразование будет совершаться медленно, потому что легче перенять новые костюмы, или изменить способ ведения сельского хозяйства или род культуры, чем перестроить жилища.
В прежнее время все города Венгерской равнины были похожи на большие деревни, не имевшие ни одной из тех черт, которые представляют тесно скученные и густо населенные города Западной Европы. Их делили на три категории, смотря по числу жителей и привилегиям, которые им были дарованы королевскою властью, или которые они сами себе завоевали, но общий вид их был везде один и тот же: «вольные королевские города», «торговые местечки» и простые села и деревни—все одинаково были раскинутыми на огромном пространстве скоплениями нисеньких домиков, отделенных один от другого широкими улицами, садами, огородами и лужами. Многие видели в этом расположении городов Венгрии следы кочевого образа жизни предков нынешних жителей. Кирпичные дома, без верхнего этажа и без двери, выходящей прямо на улицу, обмазанные снаружи глиною, смешанною с известкою, изображают, по мнению некоторых писателей, ряды шатров или кибиток; прямые, правильные аллеи, разделяющие эти домики, построенные по одинаковому плану, напоминают широкия дороги между рядами лагерных палаток, где наездники могут свободно выделывать свои эволюции. В центре селения, там, где некогда развевался флаг или значек начальников племени, теперь стоят здания гражданские или церковные, принадлежащие всей общине. На первый взгляд кажется странным, что во время больших турецких нашествий мадьярские крестьяне не догадались окружить свои дома высокими стенами, как это делали саксонцы в Трансильвании, или воздвигать кругообразные валы, в роде тех, какие некогда устраивали авары; но такия укрепления, как говорят, не согласовались с их национальным характером и обычаями; при том же, так как их жилища не заключали в себе ничего драгоценного, то им легко было расставаться с ними и уходить на другие места: поэтому они продолжали жить в чистом поле, большими местечками, которые отличались от обыкновенных деревень только числом домов и жителей.
Очень может быть, что древние кочевые инстинкты играли некоторую роль в общем расположении, которое мадьяры давали своим большим поселениям; но не следует упускать из виду и того обстоятельства, что в Альфельде, или Венгерской низменности, селения других народностей, сербские, словацкия, румынские, ни сколько не отличаются, по характеру постройки, от мадьярских фалук, и что во многих странах, имеющих сходные с Венгриею географические условия, тоже встречаются местечки подобного рода. Так, например, во французских ландах, жителей которых никто не считает потомками каких-нибудь кочевых наездников, многие деревни совершенно похожи на селения большой Венгерской равнины. Такия поселения мы находим даже в Соединенных Штатах Северной Америки, в прериях дальнего запада; там колонисты, пришедшие из всех частей Европы и подверженные самым разнообразным наследственным влияниям, строят себе, по одинаковому плану, группы домов, которые своим общим видом напоминают поселения на берегах Тиссы. Причину этого явления нужно искать в сходстве условий географической среды. Однообразие равнины, отсутствие холмов, вокруг которых населению было бы выгоднее группироваться, малая ценность земли везде имели одно и то же следствие, везде позволяли жителям разбрасывать свои жилища на весьма значительном пространстве, за которым во все стороны тянется угрюмая пустыня. Но нигде в Европе это явление не выразилось в такой характерной форме, в таких замечательных размерах, как в Венгрии. Иностранца поражает обширность венгерских городов, каковы, например, Сабадка, Кечкемет, Дебречин, Феледьигаза, где все улицы, окруженные стенами и обширными садами, представляют однообразный вид, но довольно приятный для глаза, с их белыми домиками, утопающими в зелени. Правда, эти группы домов носят название «городов» и «местечек»; но есть и «деревни» с десятитысячным населением, а в селе Орошгаза насчитывают даже около пятнадцати тысяч жителей. В среднем, города Альфельда расположены каждый на пространстве 60 квадратных километров; каждое мадьярское местечко есть второй Вашингтон по своим «великолепным расстояниям». Сабадка (Слободка), или Мариа-Терезиаполь, как ее называют немцы, занимает не менее 896 квадратных километров: это целая провинция, перерезанная бесконечными правильными аллеями, по сторонам которых стоят ряды домов, разделенные промежутками.
Буда-Пешт (по немецки Пешт-Офен, Pest-Ofen), как столица Венгрии, разумеется, скорее других городов принимает европейский вид; вместе с тем и население его возрастает гораздо быстрее, чем в других венгерских городах. Население Буды и Пешта: в 1720 году 14.000 жителей, в 1870 г. 270.000 жит.; в 1881 г. 370.770 жит.; по переписи 31 дек. 1890 г., 486.671 душ гражданского населения и 14.147 чел. войска; по исчислению санитарного ведомства в июле 1895 г., около 540.000 душ. По переписи 1890 г., насчитывалось жителей мадьярского языка—326.533; немецкаго—115.573; славянских языков—27.126. Прекрасная река, имеющая в самом узком месте около 400 метров ширины, Офенский холм и господствующие над ним более значительные высоты, придают всему пейзажу благородный характер, возвышающий красоту общего вида этого обширного двойного города. Дворцы, окаймляющие левый берег Дуная, здания, стоящие на противоположном берегу на холме Буды, древнем кремле или акрополе города, висячий мост о трех пролетах, соединяющий центры двух городов-близнецов, железный виадук, с изящными аркадами, проведенный между предместьями обоих берегов ниже острова Маргариты, многочисленные маленькие пароходы, беспрерывно снующие от одного берега к другому, и большие паровые суда, спускающиеся или поднимающиеся по реке, высокие колокольни и позлащенные куполы церквей—все это придает венгерской столице грандиозный вид, которого недостает многим другим более значительным городам. Камень, из которого построен Буда-Пешт,—известковая плита, совершенно похожая на известняк, употребляемый для построек в Париже. Венгерская столица ростет и возвеличивается не только вследствие могущественного притяжения, оказываемого ею, как политическим центром, на всю Транслейтанию, но также благодаря своему положению в соседстве с большим дунайским коленом и на поперечной линии низменностей, которая, проходя через озеро Балатон, следует вдоль основания высот северной Венгрии; она является естественным центром торгового обмена и складочным местом земледельческих произведений и товаров, направляемых к Черному и Адриатическому морям. Промышленная деятельность города довольно значительна; между промышленными заведениями его особенно выдаются паровые мукомольные мельницы, на которых работает свыше 3.000 человек, и которые ежегодно поставляют около 4.600.000 метр. центнеров муки и 1.300.000 цент. отрубей. Самая темная сторона венгерской столицы—это её относительно неблагоприятное санитарное состояние. Между многолюдными городами Европы, Буда-Пешт отличается своею большой смертностью, которая происходит не только от резких перемен климата, но и от нищеты, которая здесь очень велика. В Пеште насчитывают целые тысячи несчастных обоего пола, неимеющих средств добыть себе постоянную комнатку или угол в подвальном этаже и принужденных довольствоваться соломенною постелью, нанимаемою на ночь; более 5.000 семей живут в подвалах. Быть может, ни в одном из больших городов Европы число поденщиков, мастеровых, чернорабочих, прислуги, людей, перебивающихся личным трудом изо дня в день, не бывает так велико, как в столице Венгрии, где оно, в среднем, превышает 100.000 лиц65. Эта сильно распространенная бедность и объясняет, почему эпидемии так часто свирепствуют в Буда-Пеште и его предместьях. Средняя смертность (1868-1870 гг.): 43 на 1.000; (1876 г.): 41 на 1.000; (1880 г.): 35 на 1.000.
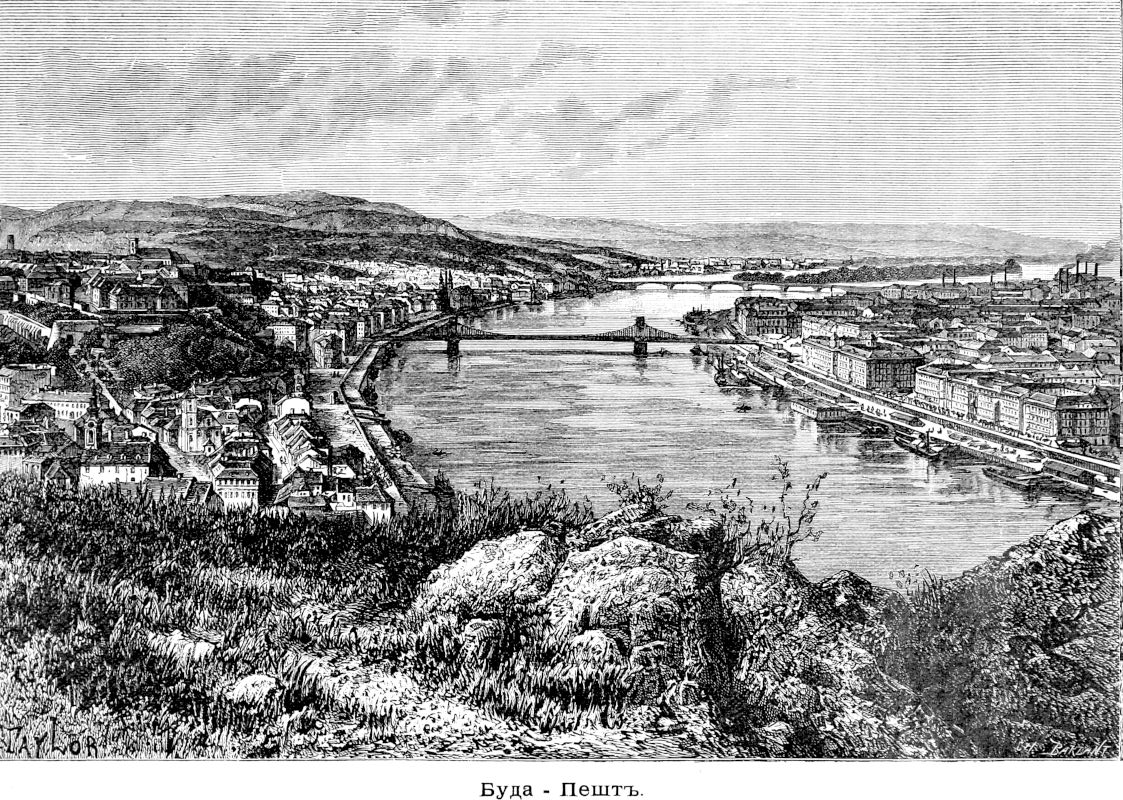
Между достопримечательностями венгерской столицы первое место, по богатству хранящихся в нем сокровищ науки и искусства, занимает Национальный музей, обширное здание, с перистилем, откуда Петефи говорил речь к народу, чтобы увлечь его к восстанию против Австрии. Мадьяры, исполненные патриотического рвения к украшению и поднятию блеска своей столицы, стараются всеми силами об увеличении сокровищ науки и искусств, и в галлереях музея постоянно теснится толпа посетителей, привлекаемая вновь приобретенными картинами, статуями или коллекциями. Часть здания, посвященная естественной истории, содержит около 300.000 экземпляров животных всякого рода, богатые гербарии, прекрасную коллекцию ископаемых и, между многочисленными образцами минералов, драгоценные камни и великолепные кристаллы, полученные из северной Венгрии, Баната и Трансильвании, где горные породы, как известно, отличаются большим разнообразием. Кабинет до-исторических древностей принадлежит к любопытнейшим собраниям этого рода во всей Европе. Венгрия, которую еще недавно считали очень бедною остатками древних цивилизаций, предшествовавших писаной истории, теперь оказывается одною из стран, где эти остатки существуют в большом обилии: их находят здесь во множестве в почве болот, в могильных курганах, в отвалах рудников, и большая часть этих драгоценных находок поступает в Национальный музей; особенно замечательна коллекция до-исторических орудий из чистой меди, присланных из Трансильвании, где найдены целые груды таких орудий весом в несколько центнеров. Между древними надписями и монетами, в числе 90.000 экземпляров, есть также много в высшей степени важных письменных памятников; особенный интерес этому эпиграфическому музею придает то обстоятельство, что он весь составлен из предметов, найденных в крае, и, следовательно, по хранящимся в нем древностям, можно воспроизвести в общих чертах местную историю Паннонии66. Этнографическая коллекция, собранная большею частью путешественником Ксантусом на средства, ассигнованные нациею, тоже очень интересна. Наконец, художественный музей заключает в себе, рядом с несколькими античными картинами, произведения кисти венгерских живописцев и любопытные старинные портреты, могущие служить пособием для изучения венгерской истории. Большая картинная галлерея, называвшаяся прежде музеем князей Эстергази, который составлял одно из украшений Вены, переведена в Пешт в 1869 году; она содержит несколько образцовых произведений искусства, между прочим, одно «Ecce Homo» (изображение Спасителя в терновом венце), которое приписывают кисти Рембрандта, и коллекцию рисунков и гравюр, в числе слишком 50.000 экземпляров. Кроме того, Пешт имеет несколько больших библиотек; главная из них, находящаяся в Национальном музее, содержит уже около 250.000 сочинений и 12.000 рукописей; она увеличивается каждый год, средним числом, на 18.000 томов книг и на 18.000 других письменных памятников. Честолюбие венгерцев состоит в том, чтобы иметь в своей национальной библиотеке все, что относится к их отечеству; сюда же помещены и драгоценные томы собрания Corvina, которые султан недавно велел возвратить Венгрии, в знак дружбы. Теперь Пешт, наравне с Лондоном, есть самый богатый из городов Европы по количеству собранных в нем книг этой знаменитой библиотеки, для которой венгерский король Матвей Корвин постоянно держал тридцать переписчиков и раскрашивателей и несколько печатных станков. Между многочисленными учеными обществами Пешта, из которых важнейшее академия наук, есть также географическое общество, насчитывающее в своей среде более 500 членов. В Пештском университете в 1891 г. было 235 профессоров и доцентов и 3.502 слушателя, а библиотека его состояла из 210.000 томов (при университете 8 клиник и курсы для акушерок); в политехническом институте в 1891 г.: 75 преподавателей и 637 слушателей.
Буда, под крепостным холмом которой пробит туннель, соединяющий две части города, и на высоты которой взбирается зубчатая колесная железная дорога, имеет преимущественно значение, как центр главного управления, гражданского и военного; её дворцы, её министерства, которые предположено перестроить в роскошном виде по одному общему плану, представляют интерес разве только по связанным с ними историческим воспоминаниям: здесь, между прочим, хранится знаменитая корона св. Стефана. У подножия холма, недалеко от большего чугунного моста, древних римских терм и предместья Старая Буда (O’Buda), древнего Aquincum, находится магометанская святыня: это знаменитая могила турецкого святого Гюль-Баба («Отец Роз»), сохранение которой было выговорено специальною статьею Карловицкого трактата, заключенного в 1699 году; турецкие пилигримы до сих пор каждый год приходят на поклонение этой святыне, и недавно их мадьярские друзья, из политической симпатии, велели исправить повреждения, произведенные в гробнице временем. На западной стороне города большая, покрытая дерном, площадь, которая тянется у самого основания городского вала и которая теперь служит полем для маневров, тоже есть нечто в роде святого места для венгерских патриотов: здесь, на так называемом «поле крови» пали, в 1795 году, головы Мартиновича и других венгерцев, обвиненных в «якобинстве».
Окрестности Буда-Пешта богаты увеселительными местами. Остров Маргариты, увеличившийся вследствие произведенных работ по регулированию русла реки, покрыт рощами и лугами; кроме того, там находится прекрасное заведение минеральных вод, с артезианским горячим источником. На северной и восточной стороне города тянутся сады и большой парк; многочисленные замки, окруженные деревьями, рассеяны по большой равнине Ракош, где в былые времена мадьяры, все верхом на конях, держали свои шумные сеймы, то для избрания королей, то для обсуждения законов или решения вопроса о какой-нибудь новой военной экспедиции67; говорят, иногда здесь, во время народных собраний, число раскинутых шатров доходило до восьмидесяти тысяч. Далее, в северо-восточном направлении, находится дворец Геделле, служащий часть года резиденциею государя. Но самые живописные ландшафты представляют холмы в окрестностях Буды, усеянные виллами, куда жители Пешта отправляются толпами в праздничные дни. С горы Геллертечьи (по-немецки Блоксберг), возвышающейся на юге от Буды, и её предместья Табан, или «Сербский город», открывается обширный вид на Дунай, его острова и оба города-близнеца, с их окрестностями. Прежде на этой горе была обсерватория, которую австрийцы превратили в цитадель для того, чтобы держать город под жерлом своих пушек.
Из городских общин Венгрии всего более походят на города Германии, по скученности значительного населения на небольшом пространстве, те, которые находятся в соседстве с Австриею и на большом водном пути из Вены в Пешт. Пресбург (по-мадьярски Pozsony), представляющий собою западные ворота Венгрии, есть один из таких городов с немецкою физиономиею: громадная полуразвалившаяся масса древнего четыреугольного замка, господствующая над городом, позлащенная верхушка купола кафедрального собора и многочисленные дворцы аристократии напоминают прежнюю важность Пресбурга, как места коронования венгерских королей; с не давнего времени он имеет университет. Кроме того, город этот замечателен тем, что здесь был подписан мир 1805 г., после аустерлицкой битвы. Ниже по реке идут города: Дьер (по-немецки Рааб), один из больших рынков Европы по хлебной торговле, и Генье, пристань Дьера на главном рукаве Дуная. При слиянии Вага и Дуная лежит город Комаром (Коморн), защищенный валами и бастионами, которые в 1849 г. последние достались в руки австрийцев. Против Коморна, на правом берегу Дуная, расположен город Старый Сеньи (O’Szony), древний Bregetio, бывший резиденциею римских императоров Валентиниана I и Валентиниана II. Далее, встречаем Эстергом (Ezstergom) или Гран, где король св. Стефан был коронован в 1000 г.; в настоящее время этот город служит резиденциею примаса Венгрии; из зданий его заслуживает внимания массивный кафедральный собор, стоящий на холме. На противоположном берегу Дуная, в самом углу, который образует изгиб реки, круто поворачивающей на юг, лежит город Вац (Vacz, по-немецки Вайцен).
В юго-западной части Венгрии, между Дунаем и Дравою, самый замечательный город—Белград Стольный или Секеш-Фейервар (Szekes Fejervar, по-немецки Штульвейсенбург), называвшийся в средние века Alba Regia, по причине его первенства между вольными королевскими городами; деловые люди и теперь еще часто называют его, ради краткости, Альбой. Этот Белград долгое время был местом коронования и погребения венгерских королей; в древнем королевском склепе найдены многие гробницы, содержавшие, вместе с останками усопших, различные драгоценности, которые теперь хранятся в пештском Национальном музее. Город Веспрем тоже знаменит в летописях Венгрии, но он не самый многолюдный в своем комитате; по числу жителей он уступает местечку Папа (Рара), которое лежит в равнине к северу от гор Баконьи. Далее, на запад, уже близ границ Штирии, находим древний город Sabaria, который венгерцы называют Сомбательи (Szombathely), а немцы Штейнамангер (Steinamanger), и в котором еще сохранились кое-какие остатки римских памятников. Несмотря на свой упадок сравнительно с прежним цветущим состоянием, этот город, вероятно, снова получит важное значение, так как он лежит в точке соединения четырех железных дорог и служит центральным складочным пунктом торгового движения между долиною Дравы и долиною Дуная. В настоящее время Сомбательи гораздо менее населен, чем Эденбург (Oedenburg, по-венгерски Soprony), город почти совершенно немецкий, стоящий на месте древнего римского города Скарабанции (Scarabantia), хотя немецкое его название указывает на существование здесь некогда пустыни, которая, вероятно, появилась вследствие прохода армий завоевателей, истреблявших все, что попадалось на пути; по своей торговле и промышленности, этот пограничный город, лежащий среди плодородных и хорошо обработанных полей, которые тянутся на запад от Нейзидлерского озера, находится уже в круге притяжения Вены. В окрестностях Эденбурга находятся великолепнейшие имения княжеского рода Эстергази.
Бассейн Дравы имеет, в пределах Венгрии, только торговые местечки, между которыми самое значительное Большая Канисса (Nagy Kanizsa), и один город, важный по своей торговле и замечательный по той роли, которую он играл в истории страны: это древний, некогда славянский, город Печ (Pecs) или Фюнфкирхен (Funfkirchen), построенный при основании небольшой группы холмов, изрытых естественными гротами, близ каменноугольного бассейна, деятельно разработываемого; жители, в шутку, сравнивают его с Веною: «у немцев, говорят они, есть Беч (венгерское название столицы Австрии), а у венгерцев Печ». Территория Фюнфкирхена есть одна из тех областей, обладание которыми турки и мадьяры оспаривали друг у друга с наибольшим ожесточением. На западе находится так называемый «Замок на острову» (Szigetvar), который Цриньи защищал в 1566 г. с таким героизмом против Солимана Великодушного, победителя, которому не суждено было насладиться своим торжеством, и который умер в самом лагере, потеряв 30.000 своих воинов. На востоке, на берегу Дуная, стоит город Могач (Mohacs), где за сорок лет перед тем Солиман уничтожил армию короля Людовика II, павшего на поле битвы, и где турки были, в свою очередь, побеждены в 1687 г. Могач важен как главная пароходная пристань на Дунае ниже Дуна-Фельдвара и Пакса.
Область венгерских Карпатов, на границах Моравии и Галиции меньше имеет многолюдных городов, чем другие части Венгрии; но встречающиеся здесь города построены по большей части в великолепных долинах, где струятся горные ручьи и зеленеют луга. Большой Сомбат (Nagy Szombath), по-немецки Тирнау, бывший университетский город в Пресбургском комитате, получил прозвание «Малого Рима» за свои многочисленные церкви. Город Тренчен был прежде укрепленным пунктом, и его замок, превратившийся теперь в живописную руину, считался неодолимым; для снабжения гарнизона крепости водою, устроен был колодец, глубиною около 180 метров. Недалеко оттуда находятся серные ключи Тепла, которые немцы называют Теплицом, подобно знаменитым минеральным водам того же имени в Богемии. Шемниц (по-венгерски Selmeczbanya) и Кремниц (по-венгерски Kormoczbanya), замечательны, как важнейшие в Венгрии горнозаводские города, хотя размеры их производства значительно уменьшились против прежнего времени; последний из них некогда особенно славился червонцами (кремницкие дукаты) и флоринами, которые чеканились в большом количестве на его монетном дворе. Общая добыча золота и серебра из шемницких и кремницких рудников в период с 1740 по 1773 г. простиралась на сумму 263.000.000 франков. Шемниц, самый многолюдный из этих двух городов, построен в лощине между гор, открытой северным ветрам, на неровных скатах холмов, изрытых галлереями и усеянных рудниковыми отвалами, которые на поверхности покрыты охрою и распространяют в воздухе сернистый запах. В окрестностях города, по берегам реки Гарам или Гран, находятся многочисленные минеральные источники; над этою же рекою на горе стоит развалина древнего замка Саксенштейн (по-венгерски Szaszko). Быстрица (Banska Bystrica), по- венгерски Бестерчебанья (Beszterczebanya), по-немецки Нейзоль (Neusohl), населенная славянами и мадьярами, тоже принадлежат к числу горнозаводских городов, как показывает слово banya, которым оканчивается его венгерское название, и многочисленные металлургические заведения его занимаются переработкою руды, добываемой из соседних месторождений. Из «шестнадцати городов» комитата Сепеш (Szepes) или Ципс, лежащего у подножия горной группы Татра, ни один не может быть назван значительным населенным пунктом; но многие из них посещаются летом многочисленною публикою ради их живописных окрестностей, и близ Кешмарка (Kesmark) любители загородных прогулок и больные съезжаются в большом числе на минеральные воды Татрафюред (Шмекс). Касса (Кашау), самый красивый город Верхней Венгрии, и Унгвар (Unghvar) важны как рынки для обмена продуктов и товаров между Венгерскою равниною и польским и русинским склоном Карпатов. Эперьеш (Eperjes) приобрел в истории печальную известность, как место заседаний «кровавого судилища», во время которых, в конце семнадцатого столетия, палачи императора не переставали колесовать, сжигать на костре и сажать на кол несчастных, осужденных этим судилищем. Мункач (Munkacs), большой, но печальный город, гордится тем, что он был первым пунктом, где мадьяры остановились при вступлении их в Дунайскую равнину. Сигет (Szigeth) замечателен как главный город и складочное место произведений Мармарошского комитата, тогда как на южных скатах предгорий: Токай, построенный на спаленных скалах; Мишкольц (Miskolcz), расположенный среди зеленеющих лугов долин и садов; Эгер или Эрлау, предместья которого продолжаются у основания холмов, покрытых виноградниками; Гиенгиеш, окруженный хорошенькими виллами, служат посредниками торговых сношений между областью гор и большою равниною Альфельд. В 1552 г. Эгер был обложен турецкою армиею, которая, однако, принуждена была снять осаду, потеряв под стенами этого города около 30.000 человек.
Некоторые из огромных деревень, построенных в равнинах древнего ложа Дуная, были возвышены на степень городов; но за немногими исключениями, они заслуживают это название разве только по своему многолюдству, а никак не по виду, который ничего не имеет городского. Сегед или Сегедин (Szeged, Szegedin), второй город Венгерской равнины по числу жителей, до недавнего времени был одним из тех больших, широко раскинутых местечек, которые, как говорят, походили на становища гуннов, но, благодаря своему счастливому географическому положению, при слиянии двух значительных рек Тиссы и Мароша, он сделался очень оживленным торговым пунктом, а пересекающиеся в нем железные дороги, без сомнения, сохранят за ним роль центрального рынка Альфельда; заново отстроенный, город обведен теперь тройным рядом концентрических плотин, в ограждение от опустошительных наводнений, в роде того, которое постигло его в 1879 г. Многие другие города тоже имеют важное значение, как пункты пересечения рельсовых путей и больших дорог, таковы: Цеглед (Czegled), на юго-востоке от Буда-Пешта; Сольнок (Szolnok), среди прибрежных болот Тиссы; Пушпек-Ладаньи (Puspok Ladany); Чаба (Csaba); Дебрецен или Дебрецин (Debreczen, Debreczin), город мадьярский по преимуществу, «Рим» венгерских кальвинистов и бывшее временное местопребывание правительства во время войны за независимость; Собосло (Szoboszlo), лежащий на берегу извилистого рукава древней реки, изменившей свое течение; Ньиредьигаза (Nyiregyhaza), населенный преимущественно словаками; Сатмар-Немети, лежащий в самом углу Венгерской равнины, на высоте 123 метров над уровнем моря; Большой Варад (Nagy Varad) или Гросвардейн, на р. Быстрой Кереш, при входе в одно из главных дефиле, ведущих в Трансильванию. Этот последний город часто бывал главною квартирою турок, когда они господствовали в Венгрии; им приписывают введение одного нильского растения (nymphaea thermalis), которое растет в бьющих ключом водах Пюшпек-Фюрде, невдалеке от Гросвардейна68.
Некоторые из больших центров населения находятся на берегу Дуная, или в непосредственном соседстве с этою рекою. Таковы, например, города Калоча (Kalocsa) и Байя (Baja). Зомбор, на севере от Бачки, названной так по имени города Бач (Bacs), пришедшего в упадок, лежит не на Дунае, а на канале императора Франца, который соединяет эту реку с её притоком Тиссою, сокращая путь судов почти на 190 километров. Новый Сад (по-венгерски Уй-Видек, по-немецки Нейзац) расположен на северном берегу Дуная, под пушками крепости Петроварадин или Петервардейн, командующей другим берегом, и на западе от знаменитого плато Титель, которое окружено водами и болотами Тиссы. Панчова (по-сербски Pancova или Pancevo, по-мадьярски Pancsova), лежащая при впадении в Дунай р. Темеш, ниже Белграда, населена преимущественно сербами, как и города противоположного берега.
По берегам Тиссы, которая на всем своем течении принадлежит Венгрии, большие центры населения, вообще говоря, многочисленнее и значительнее, чем в соседстве главной реки. В комитате Яскун-Сольнок (Ioszkun-Szolnok) замечательны многолюдные местечки: Сольнок, Яс-Береньи (Iasz-Bereny), близ которого, по преданию, похоронен Аттила, грозный царь гуннов; далее Карцаг (Karczag), Терек-Сент-Миклош (Torok-Szent-Miklos) и Мезе-Тур (Mezo-Tur). Между Сольноком и Сегедом Тисса омывает Чонград и Сентеш (Szentes), недалеко от городов Большого Кереша (Nagy Koros), Кечкемета (Kecskemet), славящагося своим земледелием, особенно плодоводством, Феледьигазы (Felegyhaza) и Год-Мезе-Вазаргельи (Hod-Mezo-Vasarhely), из которых два первые находятся в равнинах запада, а третий—на востоке от названной реки. Ниже Сегеда находим Старую Каниссу (O’Kanizsa), порт большего города Сабадки (Szabadka) или Мариа-Терезиаполя, лежащего на западе в пусте; затем следует Зента (Zenta), близ которой знаменитый австрийский полководец, принц Евгений Савойский, одержал, в 1697 году, большую победу над турками. На востоке оттуда находится весьма важный торговый город Большая Кикинда (Nagy Kikinda). Город Большой Бечкерек (Nagy Becskerek) лежит на канализованной реке Беге, притоке Тиссы, в болотистой области, где останавливаются воды наводнения, отливающие на север от места слияния Тиссы с Дунаем.
Река Кереш, впадающая в Тиссу близ Чонграда, орошает в своем течении, причисляя сюда и течение Белой Кереш, поля в округах Дьюла, Бекеш, Дьома и Сарваш. Река Марош, более важная, как торговый путь между центральною Венгриею и Трансильваниею, охраняется крепостью Арад или Арадвара (Aradvara), расположенною рядом с Старым Арадом (О’Arad), который, по своей промышленности, принадлежит к числу деятельнейших городов Венгерской равнины. Недалеко оттуда, у подножия последнего отрога Бигарских гор, находится деревня Вилагош (Vilagos), пользующаяся печальною известностью у венгерцев, по причине капитуляции Гергея, в 1849 г., которою окончилась война за независимость Венгрии. Ниже Арада тоже есть несколько больших местечек, между которыми самое многолюдное—Мако (Mako). В пусте, простирающейся к северу от р. Мароша, находится знаменитый конский завод Мезегедьеш, к которому принадлежит обширное пространство земли, величиною более 16.000 гектаров, и в котором иногда бывает до 8.000 лошадей.
Темешвар (Temesvar), крепость и бывший главный город Баната, оспаривает у Старого Арада первенствующую роль между городами юго-восточной Венгрии; кроме того, в этой области есть еще несколько значительных групп населения, каковы Вершец (Versecz) и Олах-Лугош (Olah-Lugos), названный так по положению его в валашской земле; но здесь начинаются уже горы, и даже важнейшие местечки, каковы Караншебеш (Karansebes), Оравица (Oravicza), замечательная своими рудниками Мегадиа (Mehadia), по численности своего населения значительно уступают населенным местам пусты, где даже деревни, удаленные от всякой реки и от всякой железнодорожной линии, как, например: Бесерменьи (Boszormeny), Нанаш (Nanas), Галаш (Halas), имеют каждая свыше 10.000 жителей. Недалеко от Мегадии, к востоку от неё, в другой долине, находятся минеральные воды, самые модные и наиболее посещаемые во всей Венгрии, известные под именем «Терм Геркулеса».
Клаузенбург (Klausenburg, по-венгерски Kolozsvar, по-румынски Cluc)—самый многолюдный город Трансильвании: это естественный центр мадьярских жителей плоской возвышенности и местопребывание их главных школ. Во времена римлян он назывался Напока (Napoca) и был одним из значительнейших городов Дакии; впоследствии он сделался немецким городом, и от этой эпохи в нем сохранились еще кое-где стены и большие четыреугольные башни, которые придают ему живописный вид; теперь за городским валом, по берегам Самоша и на соседних холмах, раскинулись обширные предместья; один из этих холмов усеян бараками, в которых живут цыгане. В трансильванской части течения Самоша встречаем только три города—Самош-Уйвар (Szamos-Ujvar) или Герла, по-немецки Армениенштад (Армянский город), хорошо известный своею армянскою общиною; Дееш (Dees), где, по преданию, венгры и секлеры признали друг друга братьями, и Быстриц, окруженный великолепными лесами, который некогда был одним из главных складочных мест торговли славянского Востока. Близ истоков Самоша, в соседстве с границею Буковины, находятся пользующиеся известностью минеральные воды в местечке Радна, возникшем на месте Ротенау, колонии первых саксонских поселенцев, разрушенной татарами69.
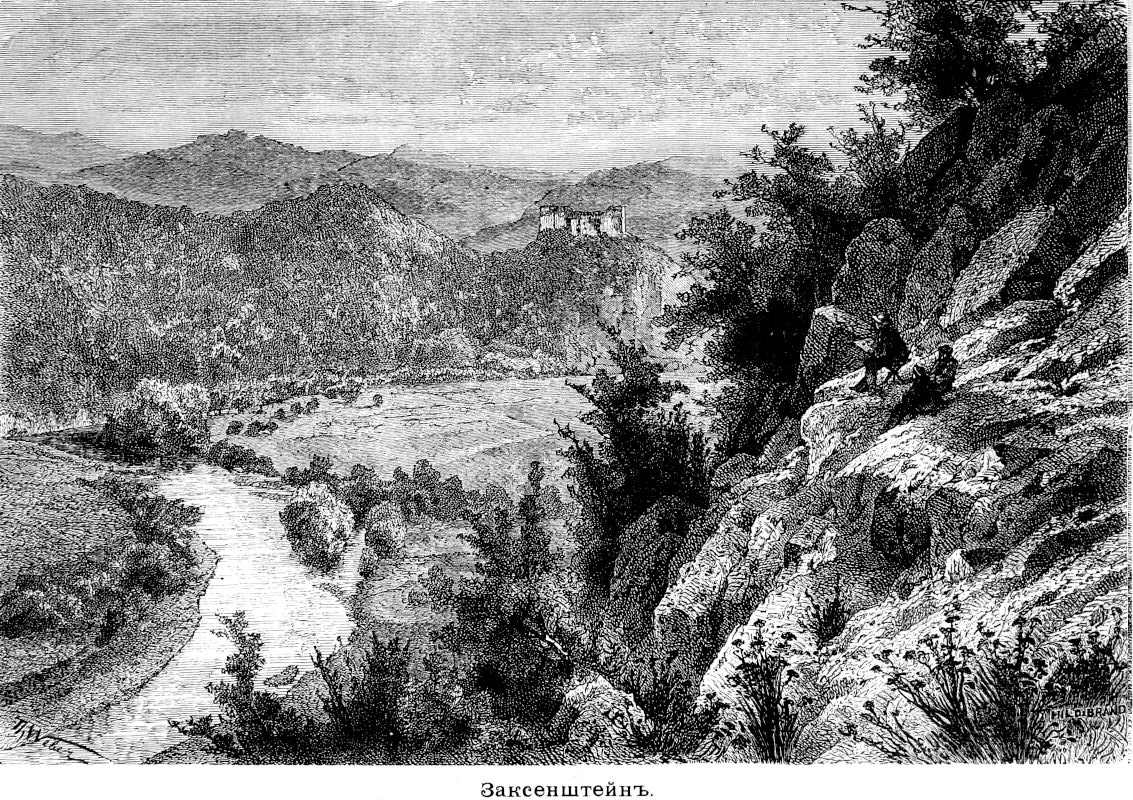
Река Марош, пересекающая Трансильванское плоскогорье по всей его ширине, не имеет больших городов на своих берегах. Важнейший из лежащих по этой реке городов—Марош-Вашаргельи (Maros-Vasarhelу), где секлеры составляют большинство населения. После соединения с «Золотою рекою», которая выходит из главной горнозаводской области и протекает через городок Торда или Торенбург (Thorda, Turda, Thorenburg, древняя Потаисса), замечательный своими соляными копями, Марош спускается на юго-запад, извиваясь у подножия соленосных утесов Марош-Уйвар, где разработка соли производится более правильным способом, чем во всякой другой части Трансильвании. Ниже большего Эньеда (Nagy Enyed), эта река принимает в себя приток Кюкюлле или Кокель, главная ветвь которого, южная, бежит по одной из самых населенных и богатых историческими воспоминаниями областей; в этой долине Большого Кокеля находятся города: Удваргельи (Udvarhely), где встарину происходили народные собрания секлеров; живописный Шегешвар (Segesvar) или Шесбург (Schasjburg, Sigichoara), близ которого погиб, в 1849 г., без сомнения, на поле битвы, благородный Петефи, величайший венгерский поэт. Ниже по реке лежат города Элизабетштадт, населенный преимущественно армянами, и Медьеш или Медиаш (Megyes, Medienchou), который тоже некогда был местом народных собраний и сеймов. Ниже впадения Большего Кокеля, Марош течет к Карлсбургу или «Белграду» (Belgradou, по-венгерски Karolu-Fejervar, древний Apulum), названному так по причине важного места, которое он некогда занимал между городами страны: в его прекрасном романском соборе, паперть и капители которого украшены замечательными скульптурными работами, короновались трансильванские князья; здесь же положены смертные останки великого Гуниада. Ниже Карлсбурга и его виноградников, дающих превосходные вина, Марош, усиленный рекою Стрель, проходит мимо города Дева (Deva), цитадель которого, разрушенная в 1848 г., расположена на холме правильной формы, напоминающем конус вулкана: эта крепость прежде защищала вход в Трансильванию с востока, подобно тому, как Арад сторожил его с западной стороны. Далее, на юге, проход «Железных Ворот», где берут начало воды, изливающиеся в Марош, охранялся укреплениями древнего города Ульпия Траяна, сменившего дакийский город Сармизегетуза; теперь в этой области Трансильвании встречаются только деревни и незначительные местечки. В одной из боковых долин расположен городок Вайда Гуниад (Hunedoare), куда венгерцы ходят на поклонение исторической старине—замку, построенному «вайдою», то-есть воеводою Гуниадом, имя которого до сих пор пользуется большою популярностью между румынами и мадьярами. В настоящее время работают над реставрациею этого старинного дворца.
Самый богатый город Трансильвании находится в бассейне р. Алюты (Ольты): это Брассо или Брасов, известный более под его немецким названием Кронштадт, хотя «саксонцы» составляют в нем только треть населения; но он окружен венгерскими и румынскими деревнями, из которых главная называется Госсуфалу (Hozszsufalu или Satu Loupgu). Далее, Алюта направляется к Фогарашу, затем, приняв в себя ручей, спускающийся от Германштадта, церковного центра саксонцев, она бежит на юг и вступает в Румынию, через дикое ущелье, называемое дефилеем Красной Башни. Германштадт (по-венгерски Nagy Szeben, порумынски Sibiu, древний Cedoniae), называемый турками «Красным городом», составляет ключ Венгрии для всякой армии, вторгающейся с юга; он имеет совершенно немецкий вид, и даже представляет более совершенный тип «саксонскаго» города, чем города западной Германии, именно потому, что он мало изменился: это сонный город, без всякого оживления, населенный преимущественно чиновниками, служащими и солдатами.
Важнейшие городские общины Венгрии, с цифрою населения в конце 1890 г. (в круглых числах):
По сю сторону Дуная (Dunan innen): Буда-Пешт—492.000 жителей (540.000 в 1895 г.); Сабадка (Мариа-Терезиаполь)—72.740; Пресбург (Pozsony)—52.400; Кечкемет—48.500; Зомбор—26.400; Чеглед—27.550; Феледьигаза—30.330; Большой Керош (Nagy Koros)—24.580; Зента—25.725; Байя—19.485; Калоча—18.170; Шемниц—15.280; Галаш—17.000; Вац или Вайцен (1880 г.)—13.200; Старая Канисса (О-Канисса)—15.500; Эстергом (Гран)—12.000; Бестерчебанья (Нейзоль)—7.500; Кремниц—9.180.
По ту сторону Дуная (Dunan tul): Дьер (Рааб)—22.800 жителей; Печ (Фюнфкирхен)—34.000; Белград Стольный (Штульвейсенбург)—28.000; Эденбург (Шопроньи)—27.000; Папа—14.260; Коморн (Комаром)—13.076; Дуна-Фельдвар—12.360; Могач—14.400; Веспрем или Весприм (1880 г.)—12.575; Большая Канисса (Надьи-Канисса)—20.620.
По сю сторону Тиссы (Tiszan innen); Касса (Кашау)—29.000 жителей; Мишкольц—30.000; Мезе-Тур—23.760; Эгер (Эрлау)—22.430; Сольнок (1880 г.)—18.250; Дьендьеш—16.124; Карцаг—18.200; Терек-Сент-Миклош (1880 г.)—16.045; Унгвар (1880 г.)—11.000; Эперьеш—10.370.
По ту сторону Тиссы (Tiszan tul): Сегед (Сегедин)—87.000 жителей; Дебрецен (Дебречин)—57.000; Год-Мезе Вашаргельи—55.000; Темешвар—40.000; Старый Арад—42.000; Чаба—34.000; Большой Варад (Гросвардейн)—39.000; Сентеш—31.000; Мако—33.000; Сарваш (1880 г.)—22.500; Ньиредьигаза—27.000; Бекеш—25.000; Яс-Береньи—24.331; Вершец (1880 г.)—22.330; Большой Бочкерек—21.934; Гайду-Бесерменьи—21.238; Новый Сад (Нейзац)—25.000; Большая Кикинда (Надьи-Кикинда)—22.770; Дьюла—20.388; Сатмар-Немети (1880 г.)—19.710; Чонград—20.802; Орошгаза—19.956; Печка—8.336; Панчова—17.948; Гайду-Нанаш—14.457; Большой Карольи (Надьи-Карольи)—13.475; Большая Салонта (Надьи-Салонта)—12.650; Гайду-Собосло—14.728; Олах-Лугош—11.700.
Трансильвания (Erdely): Кронштадт (Брассо)—31.000 жителей; Клаузенбург (Колосвар)—З 3.000; Германштадт (Большой Себен)—21.465; Марош-Вашаргельи—14.212; Карлсбург (Karoly-Fejervar)—8.170.