II.
Новейшие научные исследования в водах северной Атлантики не только разрушили гипотезу сэра Джемса Росса относительно предполагаемой однообразной температуры на дне океана, но, вместе с тем, окончательно опровергли теории Эдварда Форбса (Edward Forbes), утверждавшего, что в глубинах моря не существует никакой животной жизни. И прежде имелись в изобилии доказательства противного: натуралисты и мореплаватели находили много животных форм ниже границ, начертанных для них английским ученым; однако, свидетельство этих исследований не было принято с должным вниманием: нужны были удачные ученые экспедиции кораблей «Lightning» и «Porcupine», чтобы находки, сделанные ранее в пучинах моря Россом, Валличем, Бирсом, Флеминг-Джейкином, Мильн-Эдвардсом, были признаны окончательно приобретенными для науки фактами. Во всех своих станциях для производства промеров в окрестностях островов Шетландских, Гебридских, Ферёрских, Роккаль, так же, как в самых глубоких местах северной Атлантики, Карпентер, Уивилль Томсон, Гуин Джеффриз (Gwyn Jeffreys) нашли морское ложе покрытым животными организмами. Точно также в больших впадинах окружающего Шпицберген моря Торрель открыл огромное множество организмов, которые при том по богатству и разнообразию форм превосходят морскую фауну скандинавских берегов. В некоторых областях дно моря буквально кишит животными всякого рода, представляя из себя, так сказать, нечто в роде похлебки. Даже самое низкое место Ледовитого океана, до которого опускался лот, на глубине около 5.000 метров, имеет фауну, состоящую из многочисленных видов животных. Эти исследования морского ложа мало увеличили число рыб, известных естествоиспытателям; но зато музеи обогатились многими новыми иглокожими, между которыми встречаются чрезвычайно любопытные и очень красивые экземпляры. Один Томсон описал 250 видов моллюсков, доселе неизвестных. Что же касается границ морской флоры, то они остались те же, какими были известны и ранее: ниже 100 метров от поверхности океана водоросли становятся редки, а на глубине 350 метров они исчезают совершенно.
Богатство фауны в северных морях Европы тем значительнее, что воды их притекают из областей, отличных по климату. Между тем как теплое течение, составляющее верхние слои, приносит с собою южных животных, противуположное ему полярное течение увлекает рыб и других живых существ северного происхождения; так, например, в «холодном поясе» канала Ферёрских островов почти все иглокожия принадлежат к тем же видам, как и животные этого рода, свойственные водам Скандинавии и Гренландии. Но хотя европейские моря гораздо лучше изучены, чем моря других частей света, каждое исследование приводит еще к открытию новых организмов, прежде неизвестных науке.
О богатстве органического мира в северном Атлантическом океане можно составить понятие по геологическим формациям, которые непрерывно образуются на дне моря, благодаря могучему развитию этой животной жизни. В морской области, которая простирается между Норвегией, Исландией и Ферёрскими островами, дно моря, на глубине 2.000 метров и более, везде покрыто сероватою известковою глиной, состоящею, главным образом, из остатков одного вида фораминифер, называемого натуралистами binoculina. Этот организм играет в Норвежском море такую же роль, как вид globigerina в водах Гренландии; он также образует меловые пласты, даже быстрее, чем многодырочник западных морей: глина, вынутая со дна, скоро превращается в твердый камень. Изучая эти новые формации, постоянно отлагающиеся на дне Атлантического океана, Томсон и Карпентер уподобили их мелу и даже высказали гипотезу, что так называемый меловой периода, продолжался без перерыва и продолжается до настоящего времени на дне северных морей. В самом деле, мел, образующийся ныне в этих водах, до такой степени похож на мел береговых утесов Англии, что самому искусному микрографу не всегда легко различить их; он содержит также большое число форм, тождественных ископаемым древнего мела (19 фораминифер на 110, по Руперту Джонсу), и различные виды представляют один и тот же тип: они, как кажется, мало-по-малу видоизменялись в течение веков. Химические анализы Форхгаммера, подтвержденные впоследствии английскими исследователями, доказали, что самая богатая известковыми веществами часть океана есть именно область северной Атлантики, заключающаяся между Ирландией и Нью-Фаундлендом: микроскопические животные находят там в количестве более чем достаточном элементы, которые они переработывают в слои скалы, где иногда оказывается до 60.000 известковых оболочек на каждый квадр. сантиметр. В некоторых заливах Атлантического океана, как, например, в Каттегате и Балтийском море, пропорция извести еще значительнее. Разрушение береговых утесов постоянно доставляет морю материал для образования новых формаций. По Форхгаммеру («Philosophical Transactions», за 1865 г.), содержание извести в морской воде представляет следующие числа:
Средний процент для всего океана—2,96 на 1.000; в северной Атлантике между 30° и 53° широты—3,07 на 1.000: в Каттегате—3,29 на 1.000, в Балтийском море—3,59 на 1.000.
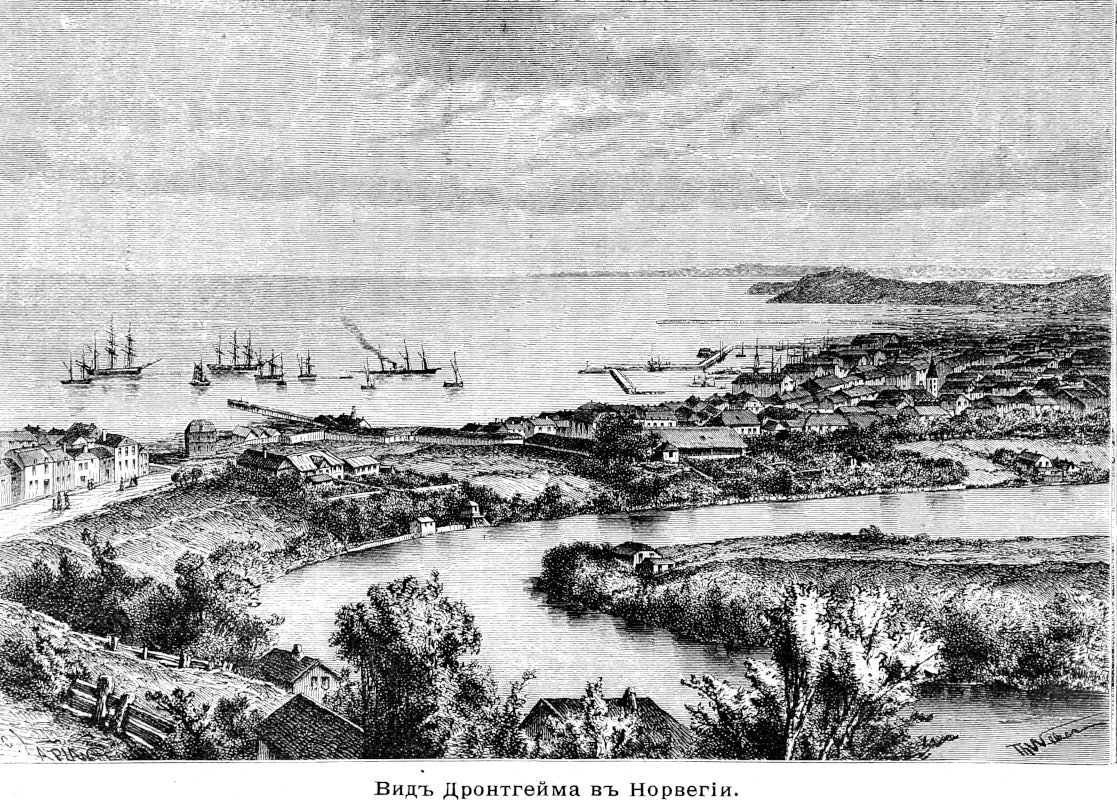
В течение последних десяти столетий деятельность человека могла до некоторой степени видоизменить морскую фауну северной Атлантики. Сначала бискайские рыболовы истребили вид кита, посещавший их воды. Впоследствии настоящий кит, которого встречали против европейских берегов во всех морях севера, был беспощадно преследуем басками и другими моряками; с начала восемнадцатого столетия китопромышленники, гоняясь за своею добычей, принуждены были забираться все далее и далее по окраине пловучих льдов полярного океана; плавая по морям, куда удалился этот великан животного царства, Скоресби собрал богатый запас наблюдений, благодаря которому книга его («An account of the Arctic Regions», 1820 г.) представляет одно из самых полезных пособий при изучении Ледовитого моря. В начале нынешнего столетия ежегодно убивали, средним числом, тысячу слишком китов в морях, окружающих Шпицберген; в 1811 году в этих водах было поймано 1.437 китов; но с той поры исполинское животное с каждым годом встречалось все реже и реже, а в 1810 году оно исчезло совершенно. Чтобы настичь свою добычу, китоловы должны теперь подвергаться таким же опасностям, как и исследователи полярных путей. В настоящее время ловля кита почти оставлена в северной Атлантике. Китопромышленники не ищут уже этих гигантов моря; что же касается громадных рорквалов (гренландский кит), то количество получаемого от них жира не настолько значительно, чтобы ловля их могла быть выгодна; до сих пор их употребляли только для фабрикации гуано, или удобрения. Морж, некогда столь обыкновенный, что норманны, не покидая вод Скандинавии, находили, чем платить свою «лепту св. Петра», в виде клыков этого животного, заменявших слоновую кость, в наши дни встречается только в полярных морях. Прежде число моржей, населявших остров Магдалины, доходило, по приблизительному исчислению, до 70.000 или 80.000 голов, теперь же они там так малочисленны, что не стоит труда охотиться за ними; но китоловные суда все-еще преследуют черную морскую свинью (delphinus globiceps, Grindehval), и моряки с Ферёрских островов одни убивают ежегодно более 1.200 экземпляров этого морского млекопитающего, принадлежащего к семейству плотоядных китов.
Рыболовы охотятся также за гакалом (scimmus borealis; haakjtiring, hakal), большой акулой, которая плавает одиноко в глубинах северного океана и которую они убивают ради её печени; на одних только берегах Исландии ежегодно убивается около 23.000 акул этого вида. Особенно значительна охота на тюленей, которые, в числе пяти видов, населяют берега Исландии, Ян-Майена, Шпицбергена и, кроме того, иногда попадаются в полярных морях, унесенные на пловучих льдах, гонимых ветрами и течениями. Количество тюленей, ежегодно убиваемых на водах, простирающихся от Скандинавии до Гренландии, исчисляется приблизительно в тысячу штук. Современная промышленность, постоянно расширяющая размеры своего производства, требует все больший и больший запас жиров и шкур, и потому морские рыболовы продолжают свою кровавую охоту за китообразными и ластоногими с возрастающим ожесточением. Но так как в природе все связано одно с другим, и совокупность организмов образует бесконечную цепь, от чудовищных китообразных до незаметных для простого глаза многодырочников, то понятно, что всякое нарушение прежнего равновесия в одной из частей морской фауны должно произвести общее перемещение во всех других частях этого живого мира до самых элементарных, имеющих простейшую организацию, существ.
Что касается морских рыб, которые преследуются рыболовами в соседстве берегов и на мелях, то им, кажется, до сих пор еще не грозит опасность быть истребленными человеком: так громадна масса их яиц или икры; при том, количество рыбы, умерщвляемой моряками, ничтожно в сравнении с страшным побоищем, которое происходит в недрах моря между враждебными видами. Известно, какое важное значение имеет треска для питания человека; однако, нет причины опасаться, что рыболовы берегов Исландии, о. Роккаль, Ферёрских островов и Доггербанка, в Северном море, а также двадцать тысяч норвежцев и лапландцев, преследующие ее вокруг Лофоденских островов, уменьшат породу этой рыбы: она только не всегда появляется стаями в одних и тех же водах, и потому недавно, до проведения электрических телеграфов, моряки часто теряли на поиски её многие дни и даже недели. Между тем как большинство рыб между прочим, лосось, осетр, корюшка (Salmo ереrlanus), покидают глубины моря и отправляются класть яйца в реки и вдоль морских берегов, треска, как это открыл Сарс, знаменитый норвежский натуралист, мечет икру среди моря, и зародыши её развиваются вдали от берегов. Таким образом, как бы ни было велико истребление мелюзги и большой рыбы в соседстве морского прибрежья, оно не наносит вреда огромным лабораториям, где обновляется самая порода.
Сельди, которых ежегодно вылавливают на одних только берегах Норвегии по меньшей мере триста миллионов штук, имеют еще более важное значение в истории экономического быта народов, чем треска: известно, как много способствовала эта рыба общему благосостоянию Голландии и её могуществу среди европейских наций. Рыболовы часто думали, что эта рыба перестала размножаться в океане; но на самом деле стаи сельдей только переходят с одного места на другое, и каждый год они появляются то тут, то там такими же, как всегда, густыми массами, делая море, так сказать, живым, и в сопровождении многочисленных верениц гоняющихся за ними хищных животных: «кажется, говорит Мишле, как будто огромный остров поднялся на поверхность воды, и целый континент готов выступить из недр моря». В первые два века текущего тысячелетия сельдь появлялась преимущественно в восточной части Балтийского моря; затем, до половины шестнадцатого столетия, она направлялась предпочтительно к берегам Скании, после того главные станции для лова сельдей были сосредоточены в Северном море, вдоль берегов Шотландии и Норвегии; наконец, в течение восемнадцатого столетия, сельди появились в большом числе на берегах западной Швеции, в Каттегате. Эти неожиданные переселения сельдей имели иногда следствием общую нужду и голодуху между рыбаками покинутого рыбой прибрежья. Несмотря на все эти перемещения, сельдь не принадлежит к странствующим рыбам, совершающим ежегодные путешествия, как полагали прежде; она живет в глубоких океанических долинах, откуда поднимается к берегам для метания икры, из которой там, под влиянием теплоты, развиваются зародыши. Натуралисты открыли также, что эта рыба не может жить в водах, температура которых менее трех с половиной градусов стоградусного термометра; поэтому, когда рыболовы вступят в жидкий слой более холодный, они знают заранее, что не найдут тут сельдей. Сведущие люди могут узнать вдали от мест лова, к какой именно разновидности принадлежат данные сельди—пойманы ли они у берегов Норвегии или у берегов Шотландии, в Балтийском или в Северном море.
Эта последняя часть северного Атлантического океана, нечто в роде залива, заключенного между Скандинавией и Великобританией, но сообщающагося с другими морями через Ламанш и через Зунд, чрезвычайно богата животною жизнью, и одна из её областей совершенно справедливо названа «Мелью рыболовов» (Fishers’ Bank): на этой мели рыба играет мириадами, и рыболовные суда приходят сюда ловить живую треску для рынков Лондона и других больших городов северной Европы. По справедливому замечанию Мебиуса, дно Северного моря гораздо более производительно для человека, чем обширные песчаные пространства, составляющие на юге часть его прибрежья. Средним числом, на эти мели ходит каждый год около 900 рыболовных шлюпок, из которых 650 принадлежат английским судохозяевам, и ежегодный улов рыбы в этом месте исчисляют в 75.000 тонн; с одной из мелей, называемой Доггербанк, или «Лугерной банкой» [по имени судна лугер], получается лучший сорт трески. Северное море, покрывающее тонким слоем воды плоскую возвышенность, на которой стоят Британские острова, представляет такия превосходные места для ловли рыбы именно по причине незначительной его глубины и потому, что ложе его нигде не усеяно подводными скалами и камнями; единственные сопротивляющиеся предметы, на которые иногда наталкиваются рыболовные снаряды,—это устричные мели. Эти моллюски открытого моря не очень вкусны; гораздо более ценятся прибрежные устрицы, особенно устрицы с берегов Франции и Англии, откармливаемые в Бельгии в особо устроенных «парках» и известные под именем остендских. Попытки разведения устриц на немецких берегах Северного моря в большинстве случаев не увенчались успехом. Кроме некоторых пунктов на плоских берегах Ганновера и в соседстве островов Сильт, Амрум и Фер, где насчитывают около 5 миллионов устриц, распределенных на 47 мелях, в других местах германского побережья не удалось развести этого моллюска; это объясняется тем, что мягкая тина, покрывающая дно немецких берегов, не представляет устрицам достаточной точки опоры; по рассказам мореплавателей, устричные мели на островах Фрисландии существуют только с начала прошлого столетия. Вообще говоря, животные виды на этих берегах немногочисленны, по причине крайнего однообразия морского дна; но зато большая часть этих видов представлены огромными количествами особей, благодаря обилию пищи, доставляемой им морскими водорослями, которых насчитывают до ста пятидесяти видов, и всякого рода нечистотами, приносимыми реками, впадающими в это море. Нужно считать сотнями миллионов ракушки, гребенки (Pecten) и другие раковины, которых собирают каждый год на морских песках Шлезвиг-Голштейна, для приготовления извести или для удобрения полей. Разнообразие видов, животных и растительных, действительно, велико, относительно поверхности, только в одной части Северного моря, именно вокруг скал Гельголанда. Тут разнообразию форм морского рельефа соответствует разнообразие населяющих его организмов.
Северное море, превосходящее по пространству Британские острова, ограничено со стороны северной Атлантики крутым обрывом, известным под именем Kimmer, и резко отличается своею малою глубиной от соседнего океана, который свободно катит свои могучия волны по направлению к полюсу. Почти везде лот достигает дна, пройдя жидкий слой не более как в 50 метров толщины. Большие пучины этого моря, на востоке от Шотландии, не превышают по глубине 100 и 120 метров. В южной его области самое глубокое место, в расстоянии 5 километров к югу от Гельголанда, имеет всего только 56 метров глубины: это—слой воды, почти равный высоте скалы, господствующей над этою областью моря. В целом дно Северного моря походит на так называемые Watten его берегов, где бассейны тянутся на необозримое пространство, пересекаемые по всем направлениям рвами, вырытыми в песках течениями или борьбой приливов, и которые можно сравнить с руками медуз, разветвляющимися до бесконечности. Все ложе Северного моря представляет одну огромную мель, разделенную на множество второстепенных отмелей. Очевидно, эти равнины моря, где весь естественный рельеф исчез под слоями песка и ила, обязаны своим замечательным однообразием какому-либо общему явлению, действующему одновременно на обширных пространствах. Большинство геологов полагает, что Северное море было в ледяную эпоху заливом, где плавали, гонимые течениями, длинные вереницы льдин, оторвавшихся и упавших в воду с глетчеров Скандинавии, Исландии, Великобритании. Эти плавающие ледяные массы, постоянно обновлявшиеся в замкнутом заливе, оставляли в нем камни и всякого рода обломки, которыми они были нагружены; остатки гор и плоскогорий, размельченные до бесконечности, сделались, таким образом, морским дном. Этот процесс засыпания Северного моря продолжается и до настоящего времени; теперь, правда, не прибивает к берегам Фрисландии пловучих льдов, как это было в ледяном периоде, но полярное течение, мало ощутительное в этом обширном заливе, приносит туда пемзу, извергаемую вулканами Исландии и Ян-Майена. Следовательно, мы видим и до сих пор то же самое явление, хотя несравненно менее важное по геологическим его результатам. При этом возникает вопрос: как могло случиться, что в то время, как Северное море мало-по-малу мелело, вследствие отложения наносов, на северо-западе его ров, называемый Скагерраком, сохранял свою глубину от 300 до 500 и даже до 800 метров вдоль берегов южной Норвегии? Причиной этого были, вероятно, ледники, наполнявшие некогда этот глубокий ров, древний, погрузившийся в воду фиорд, в котором соединяются многие другие второстепенные фиорды; соединенные массы ледяных рек уже за пределами этой впадины вступали в большое полярное течение, которое увлекало отделявшиеся от них льдины далее на юг и рассеивало содержавшиеся в этих льдинах обломки по дну моря.