VIII. Средний Днепр, нижний Днепр, Южный Буг и Днестр
Украйна, Новороссийский край
В России этнографические области не совпадают с границами гидрографических бассейнов и еще гораздо менее—с границами губерний, начертанными часто на-угад, без соображения с естественными условиями, или с намерением парализовать национальное сродство. Так, если мы возьмем малороссов, подвластных русской державе, то оказывается, что область их расселения далеко не ограничивается одним только бассейном Днепра,—они проникают на запад в бассейн Вислы и переходят за Буг, а на востоке занимают значительную часть Донецкого бассейна; они перешли даже за верхний Дон, а по ту сторону Азовского моря распространились до Кубани и на Кавказе. С другой стороны, великоруссы утвердились на верхнем течении почти всех восточных притоков Днепра, а румыны перешли за низовье Днестра. Таким образом, этим двум большим потокам, Днепру и Днестру, только в общем смысле может быть присвоено название малороссийских рек.
Наименования—Малая Русь или Малороссия, Украйна, Рутения—имеют чисто условное значение, постоянно менявшееся соответственно историческим превратностям и даже сообразно административным делениям. Ни одно из этих географических названий не относится точным образом к странам, населенным малорусским племенем, ибо эта народность, сгруппированная первоначально в изменчивую конфедерацию, никогда не имела политического единства; даже не считая закарпатских руссинов, живущих в пределах Венгерского королевства, другие малороссы оставались, начиная с четырнадцатого столетия, долгое время разделенными между двумя государствами, Польшей и Литвой. Малороссы центральной области, по берегам Днепра, едва только успели, в семнадцатом веке, завоевать себе некоторую автономию, в форме казацкой вольной общины, как вскоре утратили свою самостоятельность, отдавшись под покровительство Московского царства, сделавшагося, благодаря своим обширным размерам, Россией по преимуществу. Что касается населения древнейшей России, то-есть Киевской Руси, то оно известно под своим старинным наименованием—русинов или русняков—только на западных его границах, там, где этнографические различия еще более усиливались различием религиозных верований. Когда имя Малой России в первый раз появилось в византийских хрониках в конце тринадцатого столетия, оно применялось к Галиции и Волыни; затем оно сделалось наименованием страны по среднему Днепру, или Киевской области, отличаемой таким образом от великого княжества Московского, в столице которого, Москве, имел пребывание первосвятитель русской церкви—митрополит, перенесший туда свой престол в XIV веке. Точно также название Украйны, то-есть «окраины» или «пограничной области», соответствующее западно-европейским «мархиям» или «маркам», не переставало перемещаться, сообразно всем изменениям границ. Сначала его употребляли для обозначения Подолии, в отличие её от Галицкой Руси, которой она принадлежала; потом, когда бассейн Днепра перешел под владычество Литвы, имя Украйны было присвоено её южным провинциям, между Днепром и Бугом. В Польском государстве Украйной называлась преимущественно страна малороссийских казаков. Но и Великая Россия тоже имела свои пограничные области, свои окраины или «украйны», в одной из которых образовались, в семнадцатом столетии, малорусские вольные поселения, или слободы (так называемая «Слободская Украйна»), разделенные ныне между губерниями Харьковской, Курской и Воронежской. Как только известная область заселялась, как только в ней появлялись города, и жители устраивались мирными, хотя уже менее самостоятельными общинами, эта область переставала быть «украйной»; но везде, где поселялся малоросс относительно вольный, он приносил с собой и название «украйны» для земли, по которой бродил.
Малороссы, или малороссияне, сливаются нечувствительными переходами с белоруссами на севере, а по ту сторону Карпатских гор—со словаками; но они ясно отличаются от поляков на западе и от великороссиян на востоке; смешения очень редки между малороссами и великороссами. Даже с физической точки зрения эти две народности резко различаются между собой. У малороссиян—голова вообще более широкая и более короткая, чем у великороссов, а задняя часть черепа у них более плоская (средний указатель черепа у галицийских малороссов, по Маеру и Коперницкому, 84,3); они очень короткоголовы (брахицефалы). Около половины из них имеют темнорусые волосы и карие глаза; вообще говоря, малороссы—народ рослый (средний рост галицийских малороссов, по Маеру и Коперницкому, 164 сантим., 51/2 фут.), как показывают статистические данные относительно новобранцев; преимущественно из них набирают гренадеров, вследствие их высокого роста и статного вида, а также кавалеристов—вследствие длинноты их ног; но вообще они не имеют столько мускульной силы, как великороссы; дифтерит, эндемическая болезнь в крае, делает большие опустошения между детьми. В некоторых уездах, где малороссы и великороссы живут в непосредственном соседстве друг с другом, без промежуточного населения, можно явственно заметить физическое превосходство первых в отношении роста и красивой наружности. Малороссийские женщины отличаются грациозной поступью, ласковым взглядом, приятным голосом; у них также и более красивый костюм, похожий на одежду румынок, валахских и трансильванских. Вышивки красными и синими нитками, украшающие рубашку, юбку, передник разными фигурами: косоугольниками и крестами, треугольниками, шашешницами и ветками, сочетаются самым удачным образом, правда, по стародавним правилам, но с некоторой свободой, всегда позволяющей располагать украшения так, чтобы они гармонировали с турнюрой и чертами лица данной особы. Наконец, малороссиянки держат свои хаты в гораздо большем порядке, в большей чистоте и опрятности, чем великорусские женщины, как ни скромны эти жилища,—мазанки из глины, крытые соломой и выбеленные известкой. Национальное блюдо малороссов—борщ.
Было бы слишком смело произносить какое-либо общее суждение о целых народностях, так как смешения славян, как между собою, так и с первобытными населениями, произвели значительное разнообразие типов; но в целом, повидимому, можно указать ту разницу, что малоруссы превосходят великоруссов природным умом, насмешливостью, ирониею, природным вкусом, воображением живым и в то же время сдержанным; они не впадают в преувеличения, какие встречаются в произведениях народной поэзии великорусской или финской; но зато они не обладают практическим смыслом великорусса; они менее солидарны между собою, и хотя более даровиты, но менее энергичны. Будучи исконными соперниками, малоруссы и великоруссы награждают друг друга насмешливыми прозвищами: великорусс дал украинцу кличку хохол, вследствие пучка волос или чуба (оселедец), который тот прежде отращивал на макушке и закладывал за ухо; в свою очередь малоросс прозвал великоросса, или «москаля», кацапом, то-есть козлом, вследствие длинной бороды, которою он любит похвастать. Конечно, прозвища эти основаны только на наружных отличиях; но под этими странными названиями русские двух национальностей представляют себе также контраст, существующий между народными характерами и нравами.
Переходя к вопросу о родословной украинского народа, заметим, что при настоящем состоянии знаний возможны только более или менее вероятные гипотезы относительно степени родства или преемственности, прямой или косвенной, которая связывает малороссов с древними обитателями, следы пребывания которых найдены, в Полтавской губернии, в виде оружия и орудий из кости и кремня, рядом с костями мамонтов и с раковинами ледяного периода. Могилы каменного века, отрытые в окрестностях города Острога в Волыни, заключают в себе человеческие скелеты, совершенно непохожие на скелеты славянского племени, от которых они отличаются в особенности очень длинной и узкой головой, а также берцовыми костями, сплющенными и изогнутыми в форме сабельного клинка: эта первобытная раса, повидимому, довольно близко подходит к той, которая жила на западе Европы в эпоху дольменов. Но за этими первыми, древнейшими могилами следовали бесчисленные курганы, рассеянные по всей стране. Уже тысячи этих могильных насыпей исчезли: одни из них—в городах и деревнях послужили материалом при возведении больших построек или укреплений; другие, на полях, были употреблены для улучшения почвы на окрестных землях; некоторые, имевшие небольшие размеры, были сравнены плугом; тем не менее во многих местах, особенно на водораздельных высотах между реками, они и теперь еще настолько многочисленны, что составляют, так сказать, господствующую черту края, ибо для сооружения этих курганов обыкновенно выбирали местоположения видимые издалека—высокие, крутые берега рек, вершины естественных горок, мысы, далеко выдвинувшиеся в море. Однако, долина Днестра составляет исключение в этом отношении: мы видим там длинные ряды искусственных бугров, расположенные именно у подножья высоких берегов. Самые замечательные из могильных курганов находятся в области, соседней с Днепровскими порогами, особенно к западу от них: это—могилы «царственных скифов», погребальные обряды которых описаны Геродотом; все эти курганы имеют с северной стороны более крутой скат, чем с других сторон, и многие из них обложены плитами; между ними встречаются даже такие, которые соединены один с другим аллеями из сложенных камней, материал для которых нужно было привозить из очень отдаленных мест. Встречаются могилы (как, например, курган близ Хвостова, в Киевской губернии), которые имеют около 90 сажен в окружности и высятся среди других меньших горок, словно цари, окруженные своим двором. На многих курганах прежде стояли грубо изваянные статуи, в которых позднейшие поколения видели подобие старых женщин, откуда и произошло название каменная баба, данное этим загадочным истуканам, и которые, по общему мнению, напоминают скорее монгольский, чем славянский тип; может быть, это и есть те степные статуи, с которыми Аммиан Марцелин сравнивает гуннов: почти у всех баб руки сложены на груди. Впрочем, теперь уже не встретишь курганов, вершина которых была бы увенчана таким изваянием: почти все каменные бабы были разбиты или перенесены в другие места, чтобы служит межевыми знаками или украшениями в садах. Между тем, если верить местному преданию, баба очень крепко стояла на вершине горки, точно вросла в землю, так что требовалось не менее десятка сильных волов, чтобы увезти ее, тогда как достаточно было одной упряжи, чтобы привезти обратно на прежнее место: казалось, она сама шла, чтобы опять подняться на могильный холм, с которого ее взяли. Крестьяне чтут, как святыню, эти каменные изваяния: матери приносят к ним детей, заболевших лихорадкой, становятся на колени перед истуканом, почтительно целуют его и предлагают ему хлеба и мелкую монету.

Многие тысячи могильных курганов Малороссии были уже раскопаны, и тайны их, открытые миру, позволили отчасти восстановить мысленно давно исчезнувшие поколения, с их бытом, нравами и промыслами. Между этими памятниками представлены все последовательные века цивилизации—каменный, бронзовый и железный. Некоторые могилы принадлежат к относительно новым временам, и даже есть такия, которые, очевидно, были насыпаны после введения христианства в стране, как о том свидетельствуют предметы византийского или русского происхождения, находимые в курганах; иные заключают в себе одновременно древности, принадлежащие к трем векам—каменному, бронзовому и железному. Многие холмы содержат только скелеты лошадей. Наконец, есть много таких, где не находят ничего—ни костей, ни оружия. Великой эпохой искусства в деле погребения следует считать эпоху скифской цивилизации. Раскопки, сделанные в некоторых могилах Южной России, между прочим, в Александропольском уезде, к юго-западу от Екатеринослава, показали, что «скифы» той эпохи были в частых сношениях с греками и покупали у них самые дорогия произведения промышленности и искусства: оружие, резные сосуды, драгоценные украшения. Но рядом с этими предметами, чисто эллинскими, в курганах находят также оружие и орудия из бронзы, указывающие на тот факт, что греческая образованность, при своем проникновении в край, встретила там азиатскую цивилизацию совершенно иного характера. Мегалитические могилы, разсеянные между Днестром и Днепром, к северу от Одессы, также принадлежат к другой культурной эпохе или к другой религии. Из всех этих народов, кости которых сокрыты под насыпями курганов, одни быстро проходили, как завоеватели или беглецы, другие, напротив, подолгу оставались в стране, и, без сомнения, небольшая примесь их крови сохранилась в нынешнем населении Малороссии.
В девятом столетии население южной, черноморской покатости, между Днепром и Дунаем. и преимущественно на берегах Днестра, состояло из славян-улучей (угличей) и тиверцев. Но эти славяне находились на пути угров (венгров), печенегов, куманов, и столкновение всех этих народов оттеснило их к северу: в эпоху с десятого до двенадцатого века река Рось,—может быть «река Руси или Руссов»,—служила границей между русскими Киевской области и южными кочевниками. Многие поселения тюркского племени, торки, берендеи, «черно-шапошники», или кара-калпаки, поселились на юге от этой реки. Впоследствии татары водворились около Канева, в значительной части Киевской Руси; полагают даже, что и Бердичев был первоначально татарской колонией. Без сомнения, эти пришельцы во многих местах смешивались со славянским населением, доказательством чего служит, между прочим, тот факт, что люди, которых литовский князь Ольгерд вытеснил из Подолии в 1366 году, были татары, говорившие русским языком. На всем юго-западе России можно встретить множество названий, напоминающих пребывание в крае мусульманских поселенцев.
В наши дни малороссы—почти исключительно земледельцы, и люди самого мирного нрава. Но в прежния времена, впродолжении многих столетий, война была постоянным явлением в равнинах, где протекает Днепр, и жители всегда должны были быть готовы или к битве, или к бегству. Могучая река, которая ныне мирно катит свои воды среди стран, населенных людьми одной народности и одного языка, есть один из тех потоков, которые играли наиболее важную роль в истории народов и берега которых особенно упорно оспаривались друг у друга двумя враждебными племенами. После вторжения турок в Крым, в 1475 году, татары сделались поставщиками живого товара для гаремов и каторжных работ в Стамбуле, и вскоре южные области славянского государства стали ареной для охоты на невольников. Мусульманские хищники, задумав набег, обыкновенно собирались зимой близ Перекопского перешейка, при чем каждый из них приводил двух или трех коней для будущих пленников и ожидаемой добычи; отсюда они выступали в поход многочисленным полчищем, иной раз в количестве шестидесяти или восьмидесяти тысяч человек, переходили за Днепр, являлись неожиданно в какой-нибудь населенной местности, грабили села, хуторы, господские замки и забирали в плен всех жителей; затем, прежде чем успевали собрать войско для отражения набега, лихие наездники уже были в безопасности в своих степях, по ту сторону Днепра. Для борьбы с этими монгольскими отрядами грабителей выступали подобные же военные дружины, образовавшиеся из христианских элементов и стяжавшие себе громкую славу под именем казаков. Главная масса их армии состояла из людей независимых, искавших свободного образа жизни и простора для своей удали на границах, в то время оспариваемых друг у друга христианами и магометанами,—из рыболовов, укрывшихся под высокими лесистыми берегами Днепра,—из отважных торговых людей, странствовавших караванами по широкой степи. Кроме того, паны польские и литовско-русские, находившиеся в среде этого пограничного воинства и воспитанные более или менее под влиянием рыцарских идей Запада, сделали из казаков нечто в роде «украинного рыцарства». Один из первых центров сопротивления образовался близ Переяслава (на берегу большего колена Днепра), защищенного с восточной и северной сторон болотами, лесами, блуждающими речками. Канев и Чигирин также принадлежат к числу городов, имена которых всего чаще упоминались в первые времена истории казачества; но самой большой известностью пользовался город Черкасы, как центр «низовых казаков», то-есть рыболовов и торговых людей, и «городовых казаков», то-есть уже населенной области по среднему течению Днепра. Имя «Черкасы» даже сделалось у татар и у москвитян национальным наименованием для обозначения малороссов, и его употребляют поныне в южной части Великороссии.
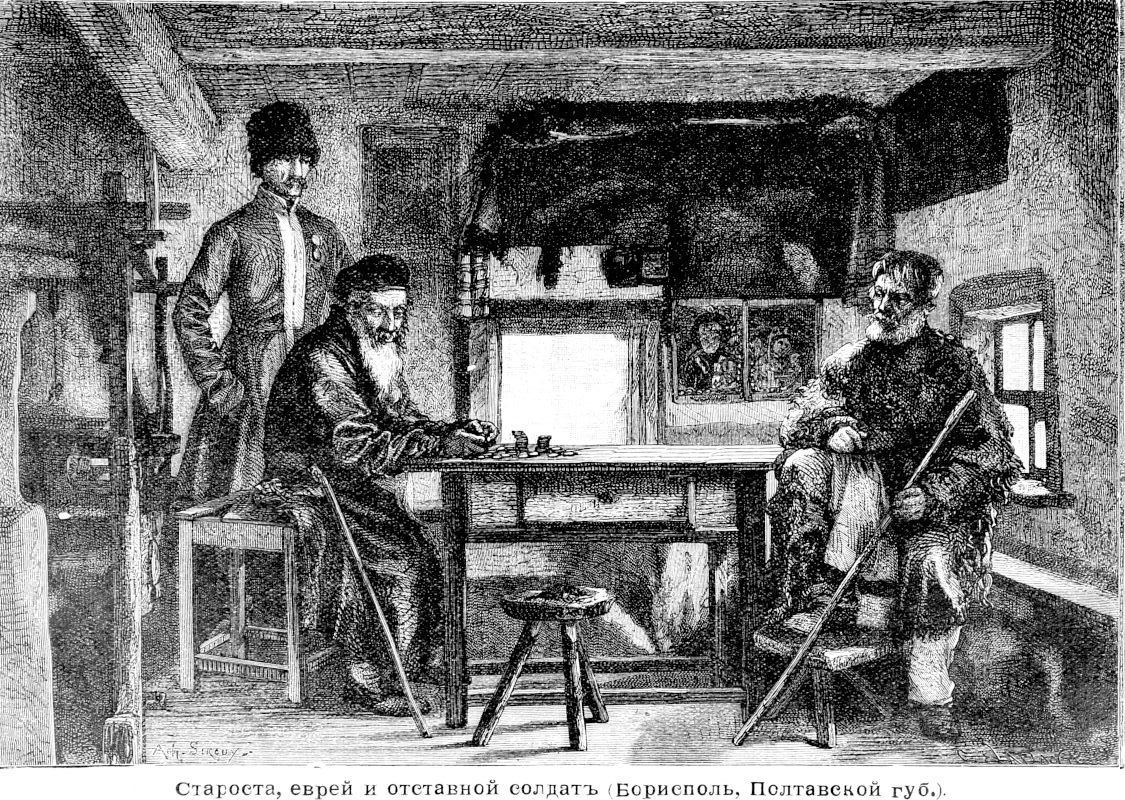
В конце шестнадцатого столетия, в эпоху великой борьбы между элементами польским и украинским, казаки перенесли далее на юг свои главные стратегические позиции и расположились укрепленными становищами ниже Самарского устья, на низменных, покрытых густым, высоким камышом, островах Днепра, среди порогов и на скалистых берегах реки: отсюда и произошли названия «запорожцы» и «Запорожье»; здесь-то, вдвойне защищенные утесами и болотами этой части Днепра, огражденные, сверх того, глубокими, хорошо охраняемыми окопами, они могли смело вызывать на бой татарских хищников и начали платить им за набеги набегами то в Крым, то на берега Черного или Азовского морей. Живя рыбной ловлей, охотой и войной, эта христианская вольница скоро заставила трепетать мусульманских разбойников. Дикая свобода казаков привлекала к ним постоянно увеличивавшуюся массу крестьян, уходивших от крепостной зависимости. В семнадцатом столетии ряды их состояли по меньшей мере из «ста двадцати тысяч человек, все людей привычных к войне». Они выплывали на своих легких челнах, называемых «чайками», в Черное море и грабили турецкие берега; более отважные переплывали даже море и однажды сожгли Синоп, на малоазиатском берегу, а в одну из своих морских экспедиций, в 1624 году, они пробрались до самого Константинополя и разграбили его предместья. Укрепленные сторожевые посты были расставлены, на известном расстоянии один от другого, по всему низовью Днепра, между Бугом и Азовским морем, а около середины их владений с изменчивыми границами находилось главное убежище их, имевшее вид укрепленного лагеря и называвшееся «Сичыо», или «Сечью». Первая Сечь, по словам летописей, была основана казаками в шестнадцатом столетии на острове Хортица, прежде Хортич—посреди Днепровских порогов, близ того места, где печенеги в 972 году отсекли голову великому князю Святославу, этому истому казаку былых времен, и сделали из его черепа чашу для своих пиршеств. Но, вскоре после того, самое известное убежище их было далее на юге, на одном из островов «Великого Луга», при слиянии Чертомлика и Днепра, и на противоположном полуострове. Эта «Старая Сечь», существовавшая до 1709 г., была впоследствии заменена другими, также расположенными вблизи лабиринта днепровских островов, где турецкия ладьи, преследовавшие запорожских удальцов, сбивались с пути в бесчисленных протоках между островами и часто теряли всех своих гребцов: их сражали меткия пули невидимых врагов, спрятавшихся в густых камышах.
Казаки не составляют особой семьи, которая бы, по языку или происхождению, существенно отличалась от других славян, более или менее смешанных жителей равнин; если они разнились от своих единоплеменников, то не кровью, а наследственными чертами, которые образовались у них под влиянием нравов бродячей жизни и чувства гордой независимости. Во все времена малороссийские казаки принимали в свое общество или военное братство только людей, умевших креститься по-ихнему, то-есть всякого врага нехристей-магометан и язычников, так что, следовательно, все восточные славяне в состоянии были выдержать этот вступительный экзамен. Случайное сходство имени казацкого города Черкасы с названием кавказского племени черкесов подало повод совершенно ошибочно предполагать восточное происхождение казаков. Что касается их названия, то оно действительно татарское, и элементы печенежские и хазарские, без всякого сомнения, встречались между предками казаков, этих защитников христианских обществ; но это смешение, и в особенности смешение с племенем каракалпаков, или «черно-шапошников», обозначаемых в летописях под именем черкасов, произошло уже гораздо ранее образования казацких общин.
Запорожцы, этот авангард малороссийского казачества, могут быть рассматриваемы как казаки по-преимуществу, и потомки их, сделавшиеся мирными земледельцами, и теперь еще присвоивают себе титул «добрых козакив». Организованные в курени, то-есть военные товарищества, жившие общим трудом, имевшие общее «куренное» имущество и сходившиеся обедать за общественные столы, они подчинялись только выбранным из своей среды начальникам, куренным атаманам, или «батькам», и каждый год собрание, состоявшее из членов всех общин, сходилось на общий совет или сейм («кош»), служивший представителем всего «низоваго товариства». Это казацкое вече, или рада, распределяло по жребию реки, продукты которых прокармливали всех запорожцев и служили им средством торгового обмена; в то же время оно выбирало нового главного (кошевого) атамана и другую войсковую старшину, состоявшую из обозного судьи, писаря, эсаула, хорунжего, полковников, для управления делами войска и разбора споров между казаками; горсть пыли, посыпанная на голову этим выборным казацким чинам, должна была всегда напоминать им, что они—не более как слуги общества. Для военных экспедиций они избирали диктатора, который назывался «гетманом»; слово это немецкого происхождения (Hauptmann), или турецкого—атаман. Власть этого выборного предводителя была очень велика, хотя, впрочем, всегда согласовалась с установившимся обычаем; гетман мог казнить провинившихся, обезглавить и даже посадить на кол, но не иначе, как спросив мнение своего военного совета. Во время походов всякий пьяница изгонялся из войска; употребление «горилки» было запрещено. Слово, возглашенное или одобренное всеми, становилось для них законом, и всякая, даже малейшая группа, составлявшая уже общину, должна была заставить уважать его. Всякий, кто нарушал это слово, находил нелицеприятных судей в своих товарищах, даже среди степи, вдали от остального братства. «Там, где есть только три казака», говаривал гетман Хмельницкий, «тот, кто сделает худое, судится двумя другими». В своих степных походах они укреплялись таборами из телег—«подвижными крепостцами на колесах», которые они, быть может, заимствовали, вместе с названием, у чехов Жижки, и которые они иногда во время битвы пускали в скачь против неприятеля, чтобы разорвать его ряды. Вольные в своих воинственных похождениях, так сказать, властители пространства, запорожцы сделались почти неуловимыми: когда их сплетенные из хвороста шалаши обращались в пепел, или их легкие челны, «чайки», погибали в волнах Черного моря, они скоро оправлялись от потерь, принимая в свою среду стекавшихся со всех сторон новых пришельцев. Запорожских «братчиков» связывали в одну семью, в один союз общая опасность и любовь к степи, по которой они рыскали на своих быстрых лошадках. «Кто за веру христианскую хочет быть посаженным на кол, колесованным, четвертованным, кто готов вынести всякия пытки, кому не страшна смерть, тот пусть идет с нами!» таковы были воззвания запорожских атаманов. Но, привыкнув смотреть на себя как на защитников веры христианской, они хотели также быть охранителями их «матери», Украины малороссийской, и свободы народа. Так велика была любовь казаков к родимой земле, что, покидая старую сечь, они уносили с собой комки земли, которые служили им символом отечества на чужбине. Если они погибали в морской экспедиции, то исповедывались «синему морю».
Вся область по южной границе между славянами и татарами или турками была занята казаками, и эта «пограничная страна», Украйна, то расширялась, то съуживалась, смотря по превратностям войны и ходу военной колонизации. Большая часть пространства, заключенного между черноземными равнинами и морским прибрежьем, обратилась, наконец, в настоящую пустыню, через которую отваживались переходить только беглецы; с 1667 по 1686 год было условлено даже, что вся страна поверхностью около 45.000 квадр. верст, заключающаяся между Днепром, Тясмином, Днестром и истоками Ингула и Ингульца, должна оставаться безлюдной, чтобы служить границей между двумя христианскими государствами славянской Европы и мусульманской державой. В то время, как испанцы и португальцы уже колонизовали Америку и острова Вест-Индии, южная степь еще ожидала новых жителей, после совершенного опустошения, произведенного мусульманами и христианами. Заселение, столько раз начинавшееся со времен «царственных скифов», было дважды предпринимаемо—в первый раз после турецких нашествий, в конце пятнадцатого столетия, во второй—после раздела степей между Польшей, Московским государством и Турцией. Каждый раз колонизация состояла из двух различных элементов: вольных казаков и господских поселенцев. Польские паны, которым были пожалованы обширные земли в этих пустынных пространствах, старались заселить их кем бы то ни было, обещая всем крестьянам, которые изъявили бы готовность поселиться в этих страшных местах, полную льготу от всяких податей и повинностей, безнаказанность за всякое преступление или проступок. Граф Замойский приглашал всех, даже отцеубийц, даже людей, «обвиняемых в убийстве своего господина», и этот призыв был услышан. Привлекаемые обещанием воли на землях, к тому же славившихся своим необыкновенным плодородием, которые должны были принадлежать им некоторое время, крепостные крестьяне литовских местностей устремились туда десятками и сотнями тысяч; города, местечки, деревни основались по берегам всех речек и ручьев, на дне всех оврагов, в каждой из этих обширных феодальных концессий; степь быстро изменилась в возделанную страну, подобным же образом, как два столетия спустя дикия «прерии» Дальнего Запада Северной Америки превратились в пахатные земли. Свобода совершила это чудо внезапного заселения недавних пустынь; но когда помещики захотели взять обратно свои земли, опять обратить крестьян в крепостное состояние и отдать их на съедение евреям-ростовщикам, то они столкнулись с людьми, которые претендовали на титул казаков и желали остаться вольными. Эти попытки порабощения, соединенные с религиозными преследованиями, должны были иметь окончательным последствием, после ряда смут и восстаний, падение самого Польского государства. В 1649 году большая часть украинцев, под предводительством гетмана запорожского Богдана Хмельницкого, успела добиться признания автономии малороссийского гетманства, затем в 1654 году последнее отложилось от Польши и отдалось под покровительство Московского царства, по Переяславскому договору. Свобода его не долго была уважаема; московские бояре жаловались, что их крепостные крестьяне уходили, ища убежища в Украйне, у воевод часто бывали столкновения с горожанами, а Петр Великий требовал выдачи выходцев с Дона, которым запорожцы оказывали гостеприимство. Малороссийские казаки являлись помехой московской централизации, и их старинное устройство было уничтожено. При Петре Великом тысячи казаков погибли на работах по сооружению Ладожского канала; затем Екатерина II совершенно упразднила малороссийское гетманство, в 1765 году, а десять лет спустя Сечь была занята русским отрядом, и запорожское войско перестало существовать. Те казаки, которые хотели остаться вольными, принуждены были удалиться за Дунай, к туркам, своим исконным врагам. В 1775 г., когда последняя Запорожская Сечь, стоявшая на нижнем Днепре, была взята генералом Текели, взрослые казаки «вольных земель» были в числе 13.000, из которых почти 1.200 находилось в самой Сечи; около 60.000 человек казаков и беглых крестьян жили на окружающей территории, в хуторах, которые были даны им во владение казацкими общинами.
Некоторые черты прежнего казацкого характера должны, конечно, встречаться и у современных нам украинцев. Крестьянские бунты всего чаще имели место именно на берегах Днепра, в тех местностях, где жили самые воинственные казацкия товарищества, и по всей Малороссии старинная преданность громаде (община, мир) сохранилась в силе до наших дней, несмотря на политические преобразования. «Громада—великий чоловик», говорит украинская пословица. Малоросс сохранил в себе также нечто, напоминающее прежнего кочевника: он без труда переселяется на новые места, хотя и не обладает колонизаторским гением великорусса. У него сложилась даже поговорка, очень часто оправдываемая действительностью,—в ней выражается его страсть к перемене, происходящая главным образом от любви к вольной жизни: «хоч гирше, та инше» (хоть хуже, да иное). В 1856 году по Украйне пронесся слух, будто бы князь Константин отправился в Бисову-Арабию (Бессарабию),—другие говорили в Крым,—и что там он восседает под красным шатром, предлагая волю и землю всем добрым украинцам; но что крепостные должны явиться на его призыв непременно в этом году, по прошествии же этого срока будет уж поздно. И вот целые поселения вдруг поднялись, не затем, чтобы восстать против помещиков, а чтобы удалиться с миром. В некоторых местностях, особенно в Александровском уезде, крестьяне продали за несколько рублей все свое имущество евреям-ростовщикам, покинули свои родные попелища и отправились в путь. «Много благодарны вам за хлеб за соль», говорили они на прощаньи своим господам, «но мы не желаем более быть панскими».
Казак-воин живет теперь только в легендах, да в песнях народных; также и чумак, другой оригинальный тип Украйны привольной, должен скоро исчезнуть, вместе со своим промыслом: железные дороги, пароходы вытесняют его мало-по-малу; они уже заставили его изменить приемы чумакованья и таким образом лишили его прежней физиономии; однако, он борется против железных путей с замечательной энергией. Сидя в быстро несущемся поезде, пассажиры часто замечают по сторонам дороги длинные вереницы телег и людей, в вышитых рубахах, запачканных дегтем шароварах, с длинными чупринами: это—караваны (таборы, или валки) чумаков. Вверяемые им товары часто доставляются на корабли в Одессу не только за более дешевую плату, но и скорее, чем при отправке их по железной дороге, хотя путешествие их от берегов Днепра до Одессы продолжается несколько недель. В старину чумак тоже был герой, как и запорожец: чтобы съездить за солью и рыбой на берега Черного или Азовского моря, в Крым или на Дон, ему нужно было приготовиться ко всяким лишениям и опасностям. После продолжительного странствования по пыльным равнинам, через высохшие или выступившие из берегов реки, под палящим солнцем, под проливным дождем или снежным бураном, он встречался лицом к лицу с неприятелями, перед которыми пропускной лист не всегда был достаточной охраной. Разбойники могли поджидать его в трудных проходах; помещики могли разорить его поборами; вся жизнь его проходила в постоянном шествовании впереди своего обоза, в компании своего неразлучного товарища—сидевшего на первом возу, бдительного петуха, который заменял ему часы, возглашая каждое утро час отъезда. Если смерть застигала чумака в дороге, то над его могилой воздвигали маленький курган. Еще в прошлом столетии рядом с покойником клали бутылку горилки, подкреплявшей его силы во время последнего путешествия.

Песни вольного казака, припевы вечно странствовавшего чумака остались в памяти малорусского народа; кобзарь или бандурист, распевающий под аккомпанемент своей большой лютни, называемой кобзой или бандурой, и лирник, играющий не на лире, а на инструменте в роде старинного «рыле», и теперь еще рассказывают на распев стихи, которые впервые раздавались на привольной степи. Некоторые из песен, ныне распеваемых малороссийскими рапсодами на ярмарках, имеют исторический характер; но, кроме всем известных песен, есть такия, которые, по вдохновению мысли, по силе выражения и богатству подробностей, составляют как бы отрывки эпопей; к сожалению, эти былины уже редко услышишь из уст народа, и, вероятно, их скоро можно будет встретить только в письменной литературе. Это—думы, исторические рассказы, которые живо рисуют нам прошлое со всеми надеждами и страхами, радостями и печалями, чувствами и страстями, волновавшими людей той эпохи: слушая эти думы, малороссу кажется, что он переносится в славную старину, живет жизнью своих предков, казаков. Мало найдется языков, обладающих народной поэзией, которая превосходила бы думы украинцев энергией слова и глубиной чувства. А их любовные песни—как много в них в одно и то же время нежности и силы, страсти и скромности! Между тысячами этих песен относительно мало наберется таких, слова которых могли бы оскорбить стыдливость молодой девушки; но большинство их вызовет слезы на её глазах, потому что почти все песни малоросса проникнуты тихой грустью, меланхолическим настроением: это—песни народа, которому пришлось много и долго страдать, и который любуется созерцанием своей несчастливой доли. Однако, собрание исторических песен, сделанное различными исследователями с начала нынешнего столетия, заключает в себе также несколько песен, дышащих гневом и укором. Такова, например, песня о правде, сущность которой заимствована из псалмов: «Правда нынче в тюрьме у панов; неправда же развязно восседает с панами в почетной зале».—«...Справедливость попрана панами; а несправедливости подливают меду в чаши..».—«О, наша мать, наша мать с орлиными крыльями—где тебя найти?...».
Народные малороссийские песни и думы, авторы которых неизвестны и которые передают кобзари (по большей части слепые старики, как те слепцы древней Эллады, которые распевали гомеровские песни) от поколения к поколению, научая им других бандуристов, уже сами по себе составляют очень драгоценную литературу; но эти произведения народной музы—не единственное сокровище Малороссии, язык которой никогда не переставал быть языком литературным. Даже под церковно-славянским, который сделался письменным языком древней России со времени введения христианства, не трудно узнать малорусские обороты в первых памятниках русской письменности, каковы «Повесть временных лет» Нестора и «Слово о Полку Игореве»; волынская хроника, наиболее поэтическая из всех летописей, имеет совершенно малороссийский характер. Но особенно с шестнадцатого столетия, с того времени, как «обыкновенный» или «казацко-русский» язык, очищенный от церковных или «болгарских» форм, сделался свободным, он получил важное литературное значение для полемики политической и религиозной, повестей, драмы, переводов. В конце семнадцатого столетия, раздел Украйны, эмиграция большего процента образованных людей в Москву и Петербург, затем, с конца восемнадцатого века, запрещение народного языка в школах,—все это задержало малорусское литературное движение; но оно опять ожило, благодаря поэтам и романистам, которые говорят теперь чистым малорусским наречием без примеси церковно-славянского или польского языка. Один из этих писателей—великий поэт Тарас Шевченко, бывший долго крепостным и солдатом, несчастливец, песни которого рассказывают о бедствиях его народа и говорят ему о будущей «правде и воле».
Малороссияне отличаются большой понятливостью и очень любознательны: статистика доказывает, что популярные научные сочинения распространяются у них быстрее, нежели у великорусов. В былые времена Московское государство получало своих преподавателей из Малой России и даже из Белоруссии; в шестнадцатом и семнадцатом столетии академии существовали в Остроге (на Волыни), в Киеве, в Чернигове, тогда как Великая Россия не имела еще ни одного высшего учебного заведения; даже в 1658 году, при заключении договора в Гадяче, казаки ставили одним из условий воссоединения Малороссии с Польшей учреждение двух университетов, которые бы пользовались такими же привилегиями, как Краковский университет; далее, выговаривали себе право основывать гимназии и свободу печати. Теперь же эти украинские области, где в старину образование было в таком большом почете, занимают последнее место по степени развития народного просвещения; они имеют наименее школ и учащихся по сравнению с числом жителей.
После промежутка в сто лет, число начальных школ уменьшилось более чем на половину в бывшей казацкой Украйне; так, например, на территории Черниговского казачьего полка в 1748 году существовало 143 школы, а в 1875 году на том же пространстве их насчитывалось только 52. Этот достойный сожаления контраст между прошлым и настоящим должен быть приписан, главным образом, употреблению в школах языка, чуждого детям. Система централизации не оставила в покое и языка жителей. Литературные попытки, которые могли бы заставить ценить его, как он того заслуживает, строго обуздывались. Цензура не разрешала никаких периодических изданий на малороссийском языке; не дозволялось даже переводить сочинения религиозные или учебные, давать театральные представления или читать публичные беседы на этом наречии; даже текст музыкальных сочинений очищался цензорами от малороссийских слов. Можно подумать, что имелось в виду довести народ до того, чтобы он относился с презрением к своему родному языку, смотрел на него как на простонародную речь, и почитал за честь употреблять лишь слова, так сказать, заклейменые казенным штемпелем. Сомнительно, однако, чтобы подобное предприятие могло увенчаться успехом, так как на малороссийском языке говорят двадцать миллионов людей, из которых три миллиона живут за пределами Российской империи, в Галиции, в Буковине, в Венгрии. Малорусский язык имеет даже четыре кафедры во Львовском университете; там переводят на малороссийский язык Байрона, Шелли и творения других современных писателей европейской литературы, и двенадцать периодических изданий,—еще очень мало для всей нации,—выходят на этом языке в Галиции и Буковине. Можно ли порвать узы солидарности, связующие людей одного и то же языка по ту и другую сторону политической границы? В настоящее время самым чистым малорусским языком считается тот, которым говорят в губерниях Полтавской, Екатеринославской, на берегах Черного моря и в южных уездах Киевской и Черниговской губерний. В северной части Киевской губернии, и особенно на Волыни и в Подолии, к малороссийскому наречию, по Чужбинскому, примешано много польских слов и выражений, тогда как в северных уездах Черниговской губернии оно приближается к белорусскому, а в губерниях Курской и Харьковской, равно как в области Войска Донского—к великорусскому. Однако, собрания народных песен, сделанные во всех странах, населенных малорусским племенем, от верховьев Тиссы до низового Дона, доказывают, что на этом огромном пространстве малороссийский язык представляет очень мало местных различий.
Аграрные вопросы имеют капитальную важность во всей России, но в землях украинских казаков они тем важнее, что крупная земельная собственность появилась там в сравнительно недавнее время. Народ помнит, что земля принадлежала ему, и в период крепостного права возмущения крестьян составляли довольно частое явление. Уже до освобождения крестьян, по крайней мере в Украйне правого берега Днепра, правительство признало нужным издать так называемые инвентарные положения (приводившие в известность повинности крестьян и право владельцев на крепостную работу) и обеспечить крестьянам пользование землями, на которые они имели право; затем, после отмены крепостной зависимости, когда польское восстание 1863 года отразилось на малороссийских областях, вызвав среди украинских крестьян правого берега попытки к бунту, цена выкупа земли, сделавшагося обязательным, была уменьшена на одну пятую, в то же время величина надела была увеличена. В самом деле, этот надел составляет в Киевской губернии две с половиной десятины, тогда как в Полтавской он не достигает даже 2 десятин. Однако, большое число украинских крестьян совсем не получило земли и принуждено выселяться или работать у других в качестве батраков. В Новороссийском крае положение крестьян лучше, потому что этот край еще сравнительно менее населен, вследствие чего крестьянские наделы там значительно больше (величина их колеблется, смотря по местностям, от 21/2 до 62/3 десятин), отчасти и потому, что там обработка почвы производится целыми общинами.
Дух общинной организации, который считали исчезнувшим из Малороссии, проявляется там, напротив, в замечательной степени со времени освобождения сельского сословия. Во всей стране существуют товарищества или артели рыболовов, косарей, жнецов, напоминающие братства старых запорожцев, с тою разницею, что вместо того, чтобы работать на самих себя, эти товарищества по большей части утилизируются предпринимателями или подрядчиками: начало ассоциации, основанной на равенстве всех членов, обнаруживается там лишь в организации труда и распределении заработка. В некоторых местностях крестьяне снимают у помещиков земли, чтобы сообща возделывать их, и делят между собой получаемый продукт: при этом способе, «работа, говорят они, идет спорее, лучше и веселее». В Черниговской губернии, где подобные товарищества всего лучше изучены, они существуют с давних пор, как о том свидетельствуют старинные письменные памятники. Труд миром, артелью так укоренился в нравах населения, что на табачных плантациях молодые девушки тоже соединяются в артель, чтобы исполнять все работы—садку, полотье, отборку листьев, приготовление табаку для продажи. Владельцу остается только вспахать землю да построить дома для работниц и сараи для склада табаку. Молодые девушки получают половину сбора и всегда делят ее между собой поровну.
Если малороссы перешли далеко за пределы бассейнов Днепра и Днестра, то и их территория получила представителей иноплеменной национальности в большом числе. В Малороссии насчитывают, по меньшей мере, до двадцати народностей, различающихся племенным происхождением, нравами, языком. Великоруссы врезываются там и сям архипелагами во внутренность этой страны и образуют, кроме того, колонии в городах; поляки-католики, потомки бывших властителей края и служители, составлявшие у них маленькие дворы, сохранились группами во всей территории, которая составляла часть Польского королевства в восемнадцатом столетии; на юге—татары, также происходящие от завоевателей, были там и сям пощажены и теперь живут среди христианских населений. Наконец, торговые или кочевые расы, евреи и караимы, армяне, греки, цыгане, рассеяны по поверхности Малороссии, одни—многочисленными группами, как евреи, другие—редкими колониями или бродячими кучками. Одна только из неславянских национальностей населяет сплоченными массами целую часть территории: это—румыны на юго-западной границе, происходящие частию от тех даков, которые представлены на колонне Траяна. Можно определить в 22.000 квадр. верст их этнографическую область, сопредельную с независимой Румынией.
Потомки колонистов, пришедших в край не по собственной инициативе, а по приглашению правительства, составляют особенный элемент в общем составе населения южной России. Степным пространствам черноморского прибрежья, которые столько раз были опустошаемы войнами или даже систематически обращаемы в безлюдные пустыни, чтобы обеспечить мир на границах, грозила опасность потерять всех своих жителей-казаков после уничтожения автономии запорожского войска. Необходимо было призвать поселенцев из других мест, чтобы заменить убегавшее население. Еще в 1784 году, когда период нового заселения страны уже начался за несколько лет перед тем, народная перепись, произведенная, в самой оживленной и многолюдной области Украйны, то-есть на пространстве почти 1.000 верст, которое тянется вдоль обоих берегов Днепра, от Киева до Херсона, нашла всего только 45.500 душ. Только начиная с этой эпохи население южной России сделалось прочно оседлым, имеющим постоянное пребывание, и историк может рассказывать его жизнь, не имея надобности гоняться за ним по степям.
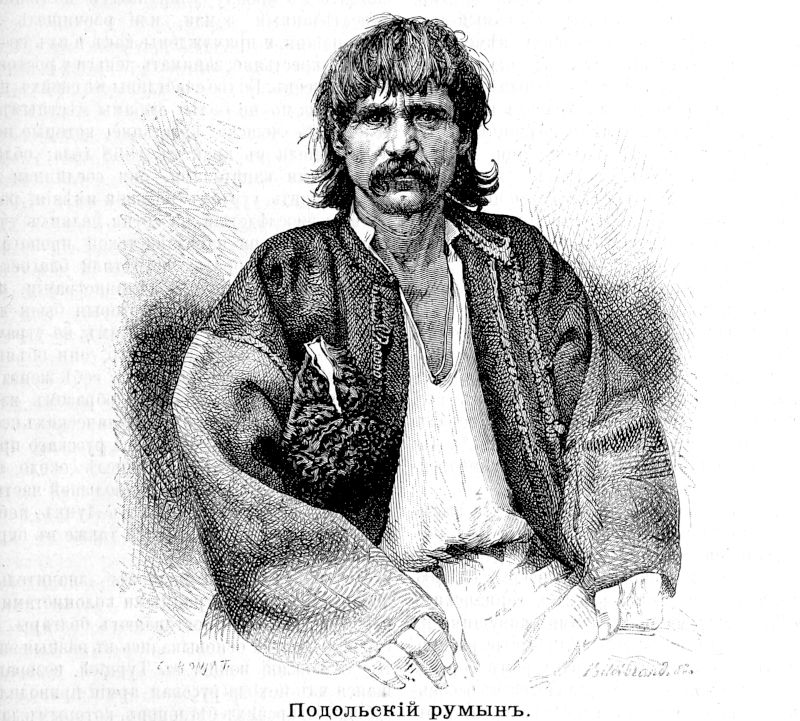
Между тем как русское население страны было водворено в ней как крепостное, принадлежащее дворянству или казне, иностранные поселенцы явились туда людьми привилегированными. Между иностранцами немцы откликнулись в наибольшем числе на призыв предпринимателей колонизации в этой обширной территории, известной под именем «Новой России». В 1789 году они основали несколько поселений в Екатеринославской губернии, на запад от Днепровских порогов, и в степях, расстилающихся между большим изгибом Днепра и Азовским морем. Большинство этих иммигрантов прибыло из юго-западной и западной Германии, из Швабии, Пфальца, Гессена; эльзасцы в небольшом числе также примешались к группам колонистов. Эмигранты, вышедшие из Мекленбурга и Восточной Пруссии в голодные годы, тоже основали колонии в разных местах Новороссийского края, равно как немцы, переселившиеся туда из Польши и Венгерского королевства. Имена многих колоний напоминают первоначальную родину жителей, и путешественник, проезжая через этот край, с удивлением встречает деревни, носящие громкое название Мюнхена, Штутгарта, Дармштадта, Гейдельберга, Карлсруэ, Мангейма, Вормса, Страсбурга. В 1876 году число немецких колоний, сгруппированных или рассеянных в четырех губерниях южной России: Екатеринославской, Херсонской, Таврической и Бессарабской, простиралось до 370, а жителей в них насчитывали свыше 200.000 душ, что составляло немного менее двадцатой части всего населения этих губерний. Вообще говоря, эти немецкия колонии находятся в цветущем состоянии, благодаря льготам, которыми пользовались иностранные поселенцы впродолжении нескольких поколений, благодаря также хорошим способам обработки земли и ведения сельского хозяйства, благодаря, наконец, трудолюбию и настойчивости крестьян германского происхождения. Поля меннонитов на реке Молочной, текущей к Азовскому морю, даже славятся в России и во всей Европе тем необыкновенным старанием, с которым они обработываются, орошаются и очищаются от сорных трав, красотой фруктовых деревьев, которыми обсажены эти нивы, комфортом жилищ колонистов. Правда, различные русские секты, как например, молокане (получившие свое название от р. Молочной), имели там и сям колонии так же хорошо содержимые, как и поселения меннонитов; но, как отщепенцы господствующей русской церкви, они часто подвергались преследованию, тогда как меннониты, эти немецкие молокане, пришедшие с берегов германской Вислы, пользовались покровительством до самого последнего времени: им дали нераздельными участками пространство, представляющее не менее 65 десятин земли на каждое семейство, а впоследствии прибавили еще и те земли, которые обрабатывали русские сектанты, духоборцы и молокане, переселенные на Кавказ. Однако, немецкие колонисты скоро разделились на два класса, из которых один, зажиточный, сделался богаче, чем были первые переселенцы, тогда как другой потерял землю и состоит теперь из безземельных батраков. Почти исключительно эти-то меннонитские пролетарии выселялись недавно тысячами за океан, в Бразилию, в Соединенные Штаты, чтобы избегнуть воинской повинности, хотя им предоставлено было право отбывать срок службы, если пожелают, на верфях или в строительных мастерских, в обозе или в бригадах лесной стражи; однако, этим эмигрантам-меннонитам не повезло в Новом Свете, и большинство их опять вернулось в южную Россию. Что касается других немцев Новороссийского края, то большое число их тоже эмигрировало, так что в 1874 году, в самый разгар этого великого переселения немецких колонистов, земли, предлагаемые в продажу, не находили покупателей. Отныне швабы Новой России уравнены в правах и обязанностях с другими русскими подданными. В силу принципа централизации, они должны употреблять в оффициальных сношениях русский язык; впрочем, некоторое число славянских слов и фраз и без того уже проникло в их обычную речь. Немецкий язык, употребляемый теперь колонистами, представляется более литературным, чем был язык их швабских предков, благодаря влиянию школ и маленьких сельских библиотек. Но в этих школах царствует строго консервативный дух: они неизменно остаются тем же, чем были в восемнадцатом столетии, и новые методы вводятся там гораздо труднее, нежели в русских школах. Ни один меннонит не поступает в университет, ни даже в гимназию.
Известно, что около 1864 года секта штундистов, получившая такое название от «часов» (Stunden), которые немецкие протестанты и меннониты посвящали религиозному бдению, возникла по близости от этих германских колоний, между малороссиянами, живущими в окрестностях Одессы. Эта секта быстро распространилась, притом с характером гораздо более радикальным; она отличается в особенности нерасположением к духовенству и отвержением св. таинств. Штунда уже не просто религиозная секта: это—«братство», члены которого обращаются друг с другом как с братьями в повседневной жизни. Новая секта, которая появилась, как бы в силу атавизма, в странах западной России, где некогда развивалось протестантское движение и где образовались православные братства, пытавшиеся подчинить церковь мирянам, сделала столь быстрые успехи, что целые деревни пристали к штунде. Новых «братьев», последователей штундизма, можно встретить даже в Гомеле, в Белоруссии.
Немецкия колонии другого происхождения, отличные от новороссийских, устроились недавно на Волыни, особенно в окрестностях городов Луцка и Новоград-Волынска. Новые поселенцы, по большей части очень бедные и почти все земледельцы, гонимые голодом из Померании и Восточной Пруссии, приходят снимать в аренду у крупных помещиков невозделанные земли, или расчищать леса под пашни, и принуждены, как и их соседи, русские крестьяне, занимать деньги у ростовщиков-евреев. Более счастливы в своих предприятиях, но не более любимы местным населением—чешские крестьяне, которые почти все пришли в край с 1868 года; обладая маленькими капиталами, они соединили их, чтобы купить гуртом большие имения, разделенные впоследствии на сотни мелких участков. Благодаря панславистской пропаганде, эти славянские братья встретили благосклонный прием со стороны администрации, и ни одно из преимуществ, которые были даны им, как и другим колонистам, не утрачено ими до сих пор; кроме того, они объявили себя гусситами и призвали к себе женатых священников, дабы таким образом избегнуть господства польских католических ксендзов, также как и господства русского православного духовенства. В числе около семи тысяч, чехи поселились по большей части на линии из Брест-Литовска в Луцк; небольшие группы их встречаются также в окрестностях Бердичева.
После немцев, наиболее значительные группы между иностранными колонистами Новороссийского края составляют болгары. Болгарские колонии основывались в разные эпохи. После каждой войны с Турцией, возвращавшаяся из похода русская армия приводила с собой болгарских беглецов, которым давали невозделанные земли в степях, или те земли, откуда были прогнаны мусульмане. После Крымской войны тысячи болгарских эмигрантов получили в собственность поля, оставшиеся свободными после ухода татар-ногайцев. Деревни их отличаются замечательной чистотой; их сады и поля, состоящие в общинном владении, свидетельствуют о хорошей земледельческой культуре; но тоска по родине похитила много жертв между этими болгарами. Новые колонисты жалели о своем балканском отечестве, более плодородном и более прекрасном, и с той поры, как Болгария организовалась в независимое княжество, много образованных молодых людей из болгарских общин Новороссии отправилось на Иллирийский полуостров. Значительная часть территории, недавно уступленной России Румынией, также населена болгарскими земледельцами. При турецком владычестве, население этого края, как и население Крыма и степей низового Днепра, состояло из ногайских татар; но еще прежде, чем левый берег Дуная перешел под власть русского правительства, эти татары переселились к Азовскому морю. Тогда их заменили болгарами. Главная иммиграция имела место после Андрианопольского мира 1829 года. Новые пришельцы, поселившиеся преимущественно в Буджаке, или южном «углу» Бессарабии, между Дунаем, Прутом и так-называемым «Траяновым Валом», скоро придали занятому ими краю печать благосостояния, которого он прежде никогда не имел. Их земли лучше обработаны, чем поля их соседей-молдаван; их дороги лучше содержатся; их деревни, по большей части сохранившие прежния свои татарские названия, составляют совершенный контраст с селениями других народностей по правильности планировки, опрятности, довольству и комфорту, по прекрасным виноградникам, которыми они окружены. Однако, эти болгары, так блистательно оправдывающие репутацию их племени относительно трудолюбия, воздержного образа жизни, бережливости, смешаны в большей или меньшей степени с молдаванами, русскими, греками, цыганами, с которыми они переговариваются на всех жаргонах Востока.
Кроме колоний немцев и болгар, есть еще несколько поселений, гораздо менее многочисленных, принадлежащих другим национальностям. Так, близ Бериславля существует еще старейшая колония, основанная Екатериной II, в 1782 году; она состоит из шведов, которые добровольно или против воли должны были покинуть остров Даго, уступив земли, составлявшие предмет их тяжбы с немецкими помещиками; по число этих колонистов, которое первоначально превышало тысячу душ, сильно уменьшилось, так что в 1863 году их насчитывали только 322, и все они занимались рыболовным промыслом; они говорили еще шведским языком и до этого времени оказывали отчасти успешное сопротивление усилиям их соседей, немцев, которые стараются «германизировать» их. Вероятнее, что употребление, почти неизбежное, русского языка поведет в конце концов к обрусению этих шведских колонистов. Что касается сербских колоний, основание которых относится к царствованию Елизаветы Петровны, когда несколько тысяч славянских семейств, преимущественно сербов, из турецких и австрийских владений, перешло в русское подданство, и которые были расселены русским правительством по всей северной окраине области запорожцев, с целью отделить ее таким образом от центра Малороссии, то эти колонии почти совершенно слились с туземным населением, хотя при Екатерине II они были так многочисленны вокруг городов Ново-Миргорода, Бахмута, Славянска, Славяносербска, что доставляли несколько полков солдат, а населенная ими часть южной России носила название «Новой Сербии». Греки и албанцы, или арнауты, рассеянные в различных земледельческих колониях или бывших военных поселениях, по большей части перебрались в города, где они занимаются торговлей. Из всех колоний, основанных в последнее столетие, наименее благоденствующими оказались поселения, где были водворены несчастные евреи, которых хотели приурочить к земледельческому труду. Те самые люди, которые обогатились бы в городах как торговцы или ростовщики, впадали в глубокую нищету как хлебопашцы: исхудалые, едва прикрытые лохмотьями, живущие в полуразвалившихся лачугах, они не умеют даже обработывать свои поля и сдают половину их в аренду колонистам другой расы. Однако, между этими еврейскими «колонистами» встречаются и очень зажиточные, но они не пашут сами своих полей. «На що я буду ходить за плугом? Про те е мужик,—я ёму заплачу, вин и зробить, що мини треба», говорил один колонист-еврей Чубинскому.
Еврейский мир, обнимающий Румынию, Венгрию, Галицию, Польшу, Литву, оканчивается на востоке в Украйне: к востоку от губерний Полтавской и Черниговской начинается территория, которая, не будучи безусловно воспрещена евреям для жительства, доступна только воспитанникам высших учебных заведений и лицам, получившим ученую степень, купцам первой гильдии и цеховым ремесленникам, имеющим надлежащие свидетельства. Поэтому все еврейское население скучено в западных провинциях России и в Царстве Польском, в числе по малой мере трех с половиной миллионов душ. Нормальный прирост, происходящий вследствие избытка числа рождений над числом смертных случаев, у них значительнее, чем у христиан. Размножение сынов Израиля в приднепровских областях было по истине изумительно: в конце восемнадцатого столетия только несколько еврейских семейств жило в Херсонской губернии, а в 1870 году еврейское население простиралось там уже до 131.900 душ. Все эти евреи—потомки польских евреев, которые, в свою очередь, первоначально вышли из Германии. До запрещения, состоявшагося в царствование императора Николая I, все евреи носили свой старый польский костюм—длинный до пят сюртук и шапку с околышем из лисьего меха; все они говорят испорченным немецким языком, с примесью еврейских слов и выражений условного жаргона, очень обедневшего в грамматических формах и сильно ославянившагося, вследствие введения всех русских названий деревьев и большего числа глаголов: этот язык называется идыш (испорченное немецкое слово judisch, еврейский), или ивритейц; но, кроме того, раввинский язык, смесь древнееврейского с халдейским, употребляется для важных документов, в оффициальной переписке и даже в большом числе частных писем, особенно в Литве и Белоруссии. Организованные в братства и соединенные прежде в кагалы или общины, которые имели в одно и то же время и религиозный, и гражданский характер, евреи западной России могли, в большинстве, предаваться тем профессиям посредников, которые так хорошо согласуются с их национальным гением; большая часть их—купцы или мелкие торговцы, подрядчики, коммисионеры, факторы; более седьмой части из них шинкари, кабатчики, и таким образом собирают по копейкам маленькую деньгу крестьянина; но есть между ними и такие, которые впадают в крайнюю бедность: в западной Украйне насчитывается свыше 20.000 евреев нищих. Средний доход каждого еврейского семейства в Украйне, по исчислению г. Чубинского, не превышает 290 рублей в год.
Известно, что в 1882 г. имела место вспышка народной ненависти против евреев: сотни их были убиты; некоторые даже погибли в пытках; более ста тысяч евреев должны были бежать в Австрию и в Германию, и целые партии беглецов отправились искать убежища в Америке. Теперь большинство этих добровольных изгнанников вернулись, но они должны подчиняться строгим полицейским правилам, и многие города закрыты для них.
Тетерев, первый приток Днепра, впадающий в эту реку ниже Припети, собирает свои первые воды на плоской возвышенности, где находится город Бердичев, часто называемый «русским Иерусалимом». В самом деле, это—важнейший центр, так сказать, главная квартира всего еврейского мира Волыни, Подолии, Киевской губернии. По переписи 1865 года, в этом городе оказалось 47.200 израильтян на 51.000 с небольшим всех жителей; но, по общему мнению, весьма значительный процент бердичевских евреев, часто отлучающихся из города в качестве странствующих торговцев, ускользает от всякого оффициального исчисления: вероятно, в Бердичеве иногда собирается одновременно до 100.000 сынов Израиля. Притягательная сила, которую этот город, не представляющий других естественных выгод, кроме своего центрального положения между расходящимися реками, оказывает на евреев, происходит оттого, что король польский Станислав-Август учредил здесь десять ярмарок, по ходатайству владельца, к владениям которого принадлежал Бердичев. Жители этого еврейского города занимаются разными промыслами: фабрикацией табаку, приготовлением галантерейных и косметических изделий; но все эти произведения предназначаются для мелочной разносной торговли, которая дает занятие тысячам коробейников, отправляемых по всем окружающим губерниям и даже за границу, в Румынию и в Австро-Венгрию. Ценность товаров, продаваемых ежегодно бердичевскими купцами, определяют в 60 миллионов рублей. Товары эти складываются по большей части в подземных гротах; последние идут по всем направлениям под городом, и происхождение их относится, вероятно, ко временам доисторическим; общую длину этих пещер исчисляют в 400 верст.

По выходе из Киевской губернии, речка Бердичев соединяется с Тетеревом, который вскоре после того встречает на своем течении Житомир, губернский город Волынской губернии. Этот город стоит на рубеже области лесов и области безлесных пространств,—рубеже, который продолжается далеко на запад, до самой Галиции, и который в то же время служит этнографической границей между полищуками (т. е. «лесовиками», жителями лесов) и степовиками (т. е. «степняками», жителями степей), как называют друг друга малороссы, живущие по обе стороны раздельной линии. По словам Житецкаго, первые, т. е. полищуки, сохранили наиболее архаические формы в своем говоре, также как в нравах и обычаях. Житомир ведет большую торговлю, преимущественно хлебом; но почти все выгоды от этой торговли идут в пользу евреев, которые составляют около трети городского населения. Много еврейских книг, печатаемых в России, выходит из Житомира. Город Радомысль, стоящий также на Тетереве, принадлежит уже к Киевской губернии.
Много важных городов расположено в бассейне Десны. Один уездный город Орловской губернии, Брянск, прежде Дебрянск, получивший это название от окружавших его некогда дремучих лесов, дебрей, о которых теперь сохранились только предания, расположен в месте соединения двух верхних ветвей этой реки, у подошвы высоких утесов, огибаемых течением Десны; это—город большой торговли, где железная дорога, идущая из Смоленска в Орел, пересекает реку, уже судоходную, и где находится пристань для сплава хлеба, пеньки, сала; здесь даже была основана судостроительная верфь; в настоящее время в Брянске существует казенный пушечно-литейный завод и арсенал. Брянские купцы скупают много земледельческих произведений в губернии и скота в южных уездах для отправки их в Москву, Петербург или южные порты Балтийского моря. Трубчевск, стоящий ниже на Десне, занимается такой же промышленностью, как Брянск, и продает хлеб, доставляемый ему по рекам Неруса и Сев, из уездов Дмитровского и Севского. Город Севск получил известность в истории смутного времени: здесь расположился станом и укрепился, в 1604 году, первый Лжедимитрий, среди своих приверженцев, изгнанников и казаков, чтобы идти потом на завоевание Москвы. К западу от Трубчевска, древний город Стародуб, находящийся уже в Малороссии (в Черниговской губернии), также напоминает многие события из войн между русскими, поляками, казаками и татарами; здесь явился второй самозванец, Лжедимитрий II, известный под именем «Тушинского вора»; в Стародубском уезде находятся некоторые из главных колоний раскольников. В этом городе сохранились остатки прежних укреплений, также как в Погаре, стоящем на том же западном притоке Десны. Далее к югу, на самом берегу этой реки, построен Новгород-Северск, бывшая столица древнего Северского княжества, воспоминание о котором сохранилось в имени города. Ниже, Короп и Сосница, другие города северян, следуют один за другим в долине Десны, объем которой почти вдвое увеличивается после слияния с важнейшим её притоком, рекой Сеймом.
Половина Курской губернии принадлежит к бассейну Десны, и главный город её расположен недалеко от того места, где река становится сплавной, при соединении двух из её притоков. Курск—великорусский город, имеющий довольно важное торговое значение, как узловая станция железных дорог, направляющихся к Киеву, Москве, Харькову, Ростову. Курская ярмарка, известная под именем «Коренной», была прежде главнейшим годовым рынком на юге России, да и теперь еще обороты её простираются до 4 миллионов рублей (прежде доходили до 15 милл.); но она значительно упала с той поры, как центр торгового обмена между промышленной областью средней России и земледельческими губерниями южной полосы переместился к югу, в Харьков. Соседние города, Щигры, Тим, Фатеж, суть простые рынки для земледельческих произведений окрестной местности, также как и лежащие ниже на Сейме—Льгов, Рыльск, Путивль (древний город). Рыльск замечателен еще как главный складочный пункт для привозимых из Штирии кос, которые отсюда рассылаются по всей Европейской и Азиатской России. Недалеко оттуда, в Черниговской губернии, и уже в Малороссии, находятся важные города Глухов, большой хлебный рынок, Кролевец (с ярмаркой), Конотоп, бывший крепостью в семнадцатом и восемнадцатом столетиях, Борзна, Березна. Конотоп, лежащий при пересечении железнодорожных линий, быстро увеличивает размеры своей торговой деятельности. Прежде важным городом этой страны был Батурин, названный так в честь его основателя, польского короля Стефана Батория, который сделал его резиденцией малороссийских гетманов; Меншиков разрушил этот город в 1708 г., но живописные развалины гетманского замка, вновь отстроенного, потом опять разрушенного, еще возвышаются над домами новейшей постройки, на южном берегу Сейма. В Глуховском уезде находится Шостенский пороховой завод, где приготовляется селитра для всех других заводов России.
История Чернигова, ныне губернского города, сливается с историей страны. Этот город, один из древнейших русских городов, принадлежал северянам, и в нем до сих пор можно видеть соборную церковь, где некоторые части здания относятся к одиннадцатому столетию. Долго оспариваемый друг у друга литовцами, поляками и москвитянами, он присоединился окончательно к Московскому государству в 1654 году, вместе со всей казацкой Украйной; в настоящее время он принимает участие в обширной торговле хлебом, пенькой и другими земледельческими произведениями, которая обогащает бассейн Десны. Несмотря на свое привилегированное положение в качестве административного центра, Чернигов лишь немногим превосходит по числу жителей (по переписи 1897 г.) Нежин, другой город губернии, расположенный на обоих берегах Остера, небольшого канализованного притока Десны, и при железной дороге из Киева в Москву. В семнадцатом столетии в Нежине поселилась колония греков, которая долгое время пользовалась особенными привилегиями; впрочем, это была скорее каста, чем колония в обыкновенном смысле, так как и другие иностранные выходцы, преимущественно болгары, неумевшие даже говорить по-гречески, вступали в эту группу, с целью возвысить свое общественное положение. Прежде нежинские греки вели значительную торговлю шелком, посылая этот продукт в Турцию, Италию и Австрию; но течения торгового обмена переместились, и греческая колония пришла в упадок. С 1820 года в Нежине существует высшее учебное заведение, основанное на средства частного лица (графа Безбородко), под именем лицея, и преобразованное с 1875 года в филологический институт; со времени преобразования, число студентов уменьшилось (студентов лицея в 1871 году—180; студентов института в 1877 году—31; в 1894 году—55). Промышленность этого края имеет важность только по значительному производству табака, составляющего одну из главных местных культур. Город Козелец, лежащий к западу от Нежина, также на р. Остер, населен отчасти ремесленниками, которые уходят на заработки в другие города.
Киев, «священный город», «мать городов русских» («Киоава» или «Самватас» Константина Багрянородного, «Куява» арабов, «Ман-Керман» татар), есть один из тех городов Европы, которые самым положением своим наперед были предназначены сделаться одним из центров тяжести в ходе истории. Он стоит почти на середине Днепровского бассейна, в равном расстоянии от области истоков и морского прибрежья, как раз в том месте, где все верхние притоки, уже соединившись с главной рекой, приносят ей свои воды и свое торговое движение. Географические поясы лесов, черноземных пространств, степей, очень сближенные в этом месте, соединяются один с другим течением Днепра, над которым Киев господствует с высоты своих гор. Столь выгодное местоположение не могло не быть оценено с тех пор, как мирные торговые сношения направились из Византии и от берегов Понта Эвксинского внутрь материка, к центральной России; по всей вероятности, город существовал задолго до того времени, когда имя его впервые упоминается в летописях: эпоха, в которую три легендарные брата, или три народа основали его, теряется в мраке времен, предшествовавших русской истории. Один летописец одиннадцатого века, епископ Дитмар, говорит о его четырех стах церквах: а во время пожара 1124 года пламя, по сказанию летописи, истребило шестьсот храмов. Через Киев проникло и христианство в Россию, именно потому, что этот город находился в непосредственных сношениях с южной Европой. Но самые его богатства служили опасной приманкой и привлекали со всех сторон врагов; он был четыре раза разграблен и разрушен: в 1171 г.—войсками Андрея Боголюбского, князя суздальского, в 1240 г.—монгольскими полчищами Батыя, затем 1416 году татарами и, наконец, в 1584 г.—татарами Крымской Орды, союзниками Ивана III Московского; впродолжении десяти лет, как говорят, холм, где был построен гордый город, оставался пустынным. Но он поднялся из своих развалин, и хотя Киев давно перестал быть центром славянских княжеств, хотя он таким образом утратил притягательную силу, обыкновенно оказываемую столицами, хотя он часто был отрезываем от своих прямых сообщений с морем и опустошаем войнами, он все-таки сохранил одно из первых мест между славянскими городами: теперь он седьмой город Российской Империи по численности населения. (В 1889 г. из общего числа жителей, 186.041, было: 144.070 православных, 18.871 католиков, 2.375 протестантов, 1.135 сектантов и 16.691 евреев).
Пространство, занимаемое Киевом, на террасе, которая возвышается на 330—430 фут. над поверхностью реки, на скатах холмов и на поясе земли, который тянется у их основания, составляет около 47 кв. верст. Дома следуют длинным рядом вдоль реки, или в некотором расстоянии от её вод, на протяжении около десяти верст; не везде соединенные в сплошные кварталы, они, по крайней мере, достаточно сближены одни с другими, чтобы различные части города образовали связное целое. Однако, обширные пространства еще не заняты постройками, или на них не встречается других жилищ, кроме настоящих ям, выкопанных в земле, или мазанок из глины. В 1874 г. в Киеве насчитывалось 9.867 строений; из них:
Строений из дерева—64,68%; из дерева и камня—14,75%; из камня—12%; из глины—8,57%.
Некоторые улицы Киева по ширине похожи на площади; группы и аллеи высоких пирамидальных тополей, ростущих там и сям по скатам холмов, своей зеленью составляют яркий контраст с позолотой куполов многочисленных церквей. Не разростаясь наружу, Киев может вместить еще двойное, даже тройное количество своего теперешнего населения, покрывая домами пустопорожния или малозастроенные пространства. Город делится на три части: Старый Киев, Печерск и Подол, и каждая из этих частей имеет свою особенную физиономию. Внизу, Подол, раскинувшийся в соседстве с рекой, служит средоточием торговли и промышленности; он занимает в обширной выемке плоскогорья, полуденную часть равнины, в которой река Почайна соединяется с Днепром, и над которой с северной стороны господствует холм Вышгород,—село св. Ольги, где жили жены Владимира-язычника. К югу от Подола, нагорье, разрезанное тремя глубокими оврагами, перпендикулярными к направлению реки, приближается к высоким берегам Днепра, и крутые скаты его сливаются, наконец, с этими берегами. Овраги делят город на особенные кварталы.
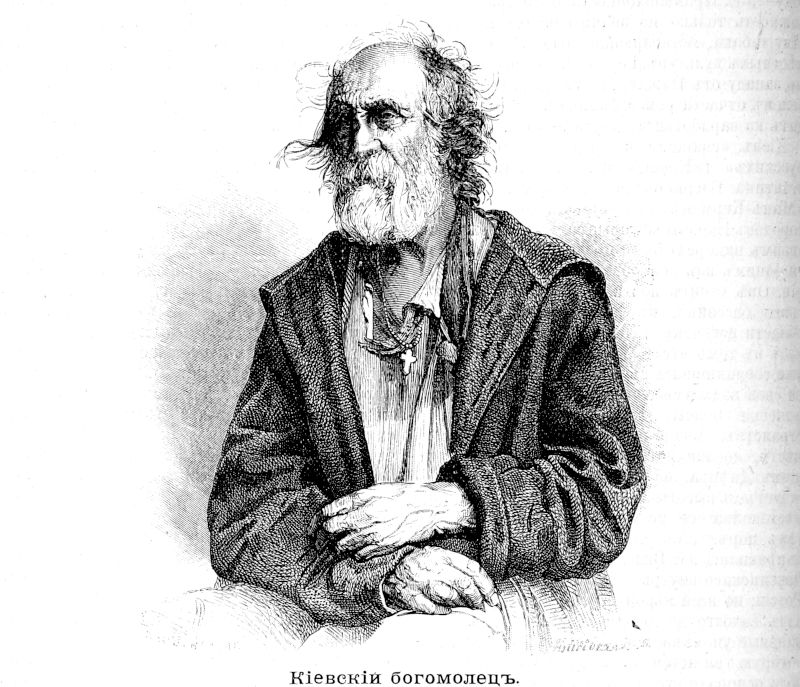
Из всех этих высоких мысов нагорного берега, следующих один за другим по направлению от севера к югу, третий оканчивается наиболее величественным выступом над рекой, а на самой оконечности его высится одно из славнейших религиозных зданий Киева, одна из главных его святынь—храм Андрея Первозванного. Собор св. Софии или Премудрости Божией (с гробом основателя храма, князя Ярослава), стоящий на том же отрывке плоскогорья, но в центре Старого Киева, есть, вместе с соседними «Золотыми Воротами», один из древнейших архитектурных памятников России в некоторых его частях, пощаженных огнем в эпоху нашествия Батыя: тут видны еще уцелевшие от времен глубокой древности ряды кирпичей и камней, несколько мозаичных и фресковых изображений (греческой работы), но большая часть украшающих его произведений иконной живописи была реставрирована или, вернее сказать, переделана. Прекрасная улица Крещатик, одна из красивейших улиц Киева, занимает овраг, отделяющий Софийскую террасу от террасы Липки; далее следует Печерск, южный выступ гор, на котором расположен Печерский монастырь и группа церквей Лавры, почитаемые главнейшей святыней России; они возвышаются над тем местом, где были крещены первые русские. При входе в ограду Лавры величественно представляется, посреди широкого монастырского двора, семиглавая соборная церковь Успения Божией Матери и за нею высокая, четырех-ярусная колокольня. Во внутренности горы идут многочисленные пещеры, извилистые подземные галлереи, происхождение которых, может быть, одинаково с происхождением других пещер, лежащих на севере, где найдены остатки, относящиеся к каменному веку; однако, они были, по крайней мере отчасти, ископаны св. Иларионом и другими отшельниками и превращены уже много веков тому назад в часовни, в подземные церкви (между ними особенно чествуется церковь св. Антония и церковь св. Феодосия), в ниши, в углублениях которых стоят гробницы; песчаные слои, залегающие в толще плоскогорья между двумя пластами глины, и в которых открываются все эти подземелья, хранят мощи подвизавшихся в пещерах св. угодников. Есть отдельные кельи с одним узким отверстием над наглухо заложенным входом; в них спасались затворники; только раз или два в неделю у отверстия клали просфору, и если она оставалась нетронутою впродолжении недели или двух, заключали, что святой затворник скончался; тогда его отпевали в той же самой пещере, где он похоронил себя заживо. В одной из гробниц покоится «Преподобный Нестор Летописец», который жил в Печерском монастыре и, без сомнения, написал там часть летописей, которые ему приписываются. Лавра с её святынями привлекает массы богомольцев, как малороссов, так и великороссов: каждый год до 300.000 человек приходит со всех концов России поклониться св. мощам и иконам, а в большие праздники, особенно в Троицу и в день Успения, тысячи богомольцев толпятся у ворот монастыря. Так как огромные комнаты монастырских гостиниц не могут вместить всей этой массы гостей, то множество странников располагаются на ночлег во дворах и на дорогах: в ночь на 15 августа 1872 года было насчитано около 72.000 богомольцев, расположившихся на голой земле. При появлении эпидемии в крае, она заносится богомольцами и в Киев; там она производит такия же опустошения, как холера между мусульманскими хаджи, стекающимися в Мекку, и оттуда разносится во все части России. В голодные годы число странников увеличивается: путешествие к киевским святым местам дает им право выпрашивать в виде подаяния хлеб, которого им негде было бы взять дома.

Старинные укрепления, защищавшие Лавру, были в новейшие времена расширены и увеличены правильными крепостными верками, которые окружают весь холм. Самый город Печерск был почти совершенно разрушен, чтобы дать место крепостным сооружениям. Напротив, ограда Старого Киева была снесена; в этой-то части и развивается новый город; по выработанным недавно проектам, еще неполучившим осуществления, новые форты должны быть воздвигнуты в том месте, где находятся университет, обсерватория и другие большие здания; пока же форты сооружены на высотах, господствующих над линией железной дороги и над долиной Лыбеди. Киевский университет, переведенный сюда из Вильно, после польского восстания 1831 года, может принимать в число своих слушателей не более 1/5 студентов католического вероисповедания. Это третий университет России, хотя он много потерял—в первый раз во время последнего польского восстания, в котором приняли участие студенты-поляки, а потом в 1878 году, когда 140 студентов были высланы. Некоторые из коллекций университета, особенно естественно-исторические, очень богаты и прекрасно систематизированы; библиотека его—одна из самых драгоценных, благодаря наследству, полученному от Виленского университета и Кременецкого лицея, которые были обогащены подарками польских магнатов: по истории Возрождения, реформации и религиозных войн тут есть редкия и весьма ценные сочинения; архивы также заключают единственные в своем роде документы по истории Малороссии. Киевский университет в 1894 г. имел 2.453 слушателя. В 1878 году в Киеве были основаны профессорами высшие женские курсы. До открытия университета, высшим учебным заведением в городе была духовная академия, также имеющая свою библиотеку и музей; она расположена близ реки, в начале Подола: в число её студентов до сих пор поступают молодые люди из всего южного славянского мира, из Сербии и Болгарии.
Кроме церквей и школ, в Киеве заслуживают внимания также памятник Владимиру Святому и колонна в память крещения русского народа в 988 году в водах Почайны. В ту эпоху Днепр протекал не у подножия киевских холмов,—его течение имело гораздо более восточное направление, на том месте, где теперь находится «Чертов ров», и Днепр соединялся с Почайной только при начале Печерского мыса. В последнее время Днепр снова стремится войти в свое прежнее русло, и уже много лет инженеры работают над тем, чтобы, помощью плотин, поставить преграду такому перемещению. Во что бы то ни стало нужно сохранить русло реки вблизи промышленного и торгового Подола, с его складами леса, хлеба, сахара и разнообразными мануфактурами. Два моста через Днепр построены ниже Киева. Первый, висячий, имеющий мало равных себе в Европе, начинается от крутого берега у подножия Лавры: он состоит из шести пролетов, имеющих в сумме 375 саж. длины. Железнодорожный мост находится в 3 верстах к югу от первого. Как пункт по торговле хлебом, Киев имеет меньшее значение, чем соседнее с ним село Ржищево, получившее свое название от слова «рожь» и расположенное на том же берегу, но несколько ниже по течению реки.
Ближайший к Киеву город, Васильков, лежит в 40 верстах к юго-западу, на небольшом западном притоке Днепра—Стугне. Это также один из древних городов, основанный еще в десятом веке. Третья часть его жителей—евреи,—процент еще небольшой сравнительно с другими городами Киевской губернии к западу от Днепра. В Сквире, на одном из верхних притоков Роси, они составляют половину населения; в г. Тараще, находящемся в бассейне той же реки, евреев более третьей части; некоторые роды промышленности находятся совершенно в их руках, как, напр., сапожное и портняжное ремесло, постройка домов. Белая Церковь, на Роси, бывшая одним из главных казацких городов, замечательна еще тем, что тут гетман Богдан Хмельницкий подписал в 1651 году вторичный договор с Польшею, по которому последняя признала автономию Украйны. Будучи торговым городом, где выделываются также земледельческие машины, Белая Церковь есть вместе с тем средоточие обширных поместий; в замке, находящемся там, есть драгоценные исторические документы. Равнина между Стугной и Росью славна в истории теми битвами, которые происходили здесь между русскими и куманами, между христианами и магометанами, между татарами и поляками; русские князья, начиная с Владимира Святого, поселяли здесь побежденные тюркские и даже чудские племена; о существовании этих колоний свидетельствуют географические имена. Сотни курганов, насыпанных на холмах, вздымающихся по берегам Роси, напоминают о вождях, павших здесь на полях битвы. К югу от Стугны видны остатки древних укреплений, воздвигнутых против половцев или куманов. Эти окопы известны под именем Змиева Вала: согласно легенде, дракон, запряженный в плуг какого-то героя или святого, прорыл ров вдоль вала. Везде, где производятся раскопки в этих местах, именно в Корсуне и Каневе, находят человеческие кости, оставшиеся там после осад и сеч. Немного ниже Канева, на холме, возвышающемся над Днепром, находится могила поэта Шевченко, родина которого недалеко отсюда.
По другую сторону Днепра, в Полтавской губернии, река Трубеж прорезывает одну из самых славных в истории частей Малороссии. Переяславль, лежащий при слиянии Трубежа с Альтою, основан, как говорят, еще Владимиром Равноапостольным на том месте, где он победил печенегов, и с того времени город этот сделался аванпостом Киева, куда собирались княжеские дружины для отражения набегов южных кочевников. Во время казацких войн, Переяславль был также одним из главных пунктов военных действий, и в нем Богдан Хмельницкий и казацкая рада, в 1654 году, решили отдаться под покровительство царя Алексея Михайловича. В прежнее время Трубеж был судоходен, о чем свидетельствует, между прочим, якорь, найденный в береговых наносах этой реки; теперь же пристань находится в 7 верстах к западу от города, в деревне Андруши, лежащей на одной из излучин Днепра. Золотоноша, лежащая к югу, также удалена от реки и принуждена перевозить свои продукты до Днепра гужем. Главная пристань этой части Днепра—древние Черкасы, по местному преданию основанная «черкесами» и передавшая это название также днепровским казакам. Город этот расположен на правом берегу реки, на мысе, размываемом водою. Чигирин на Тясмине, расположенный у подошвы холма, доставляющего жерновой камень, также один из бывших главных городов казаков; он был защищен еще лучше Черкас обширными окружавшими его болотами. К востоку, Тясмин соединяется с Днепром целою сетью блуждающих речек, впадавших когда-то в исчезнувшее теперь озеро, на месте которого были находимы обломки погибших судов. Полузатопленные леса этих низин служили, может быть, убежищем для некоторых мелких племен мордвы и хазар, на что до некоторой степени указывают названия деревень; а во времена исторические, как это достоверно известно, они же давали приют казакам, и преследование их там было сопряжено с большим трудом. В церкви одной из деревень этой местности, в Суботове, находилась гробница Богдана Хмельницкого, разрушенная поляками.
Один из менее неудобных путей чрез эту болотистую местность пролегал вблизи устья Тясмина, в том месте, где частые наводнения Днепра несколько возвысили местность наносами песка и глины, и здесь происходили постоянные битвы между поляками, казаками и татарами из-за обладания этим стратегическим пунктом. Поляки построили тут крепость Крылов, которая потом была перенесена несколько дальше, и с 1821 года получила название Ново-Георгиевска; но город и до сих пор известен в народе под своим прежним названием. На левом берегу Днепра, как раз против Ново-Георгиевска и тясминских болот, лежит Градижск (Городище), пристань которого, также, как и пристань Крылова, ведет значительную торговлю лесом и скотом. От Василькова до Чигирина почти нет деревни, которая не упоминалась бы в истории народных восстаний семнадцатого и восемнадцатого веков. А теперь тут широко раскинуты громадные поместья польской и русской аристократии, с дворцами и свеклосахарными заводами. Отдельная железная дорога с ветвями до Днепра связывает эти фабрики с главными складочными пунктами.
В бассейне реки Сулы, который занимает большую часть западной половины Полтавской губернии, есть несколько более или менее значительных городов; большая часть их окружена фруктовыми деревьями и табачными плантациями. Недригайлов или Дригайлов, близ верховья реки, основан в начале семнадцатого столетия, беглыми украинцами. Ромны, также в верхней долине,—важный торговый пункт: на его ярмарках, известных с прошлого столетия, продается товаров на сумму до 2 миллионов рублей: сотни его жителей каждогодно уходят в соседния губернии для мелкой розничной торговли. Лохвица, лежащая ниже по течению Сулы, Прилуки и Пирятин на Удае, западном притоке Сулы, также, как и Ромны, занимаются преимущественно культурой табака; г. Дубны, лежащий ниже впадения р. Удай,—богатый город, с кожевенными заводами и фруктовыми садами.
Псёл, впадающий в Днепр немного ниже Кременчуга, многоводнее Сулы и протекает по трем губерниям: Курской, Харьковской и Полтавской, всего на протяжении 435 верст. Ольшанка, недалеко от его верховья, имеет винокуренный завод и производит большое количество сапог; Обоянь имеет некоторое значение как земледельческий рынок, отправляющий зерновой хлеб и скот в Москву, Херсон и Одессу. Ниже по течению, в небольшом расстоянии от реки к северу, лежит Суджа, а также Мирополье и Сумы; город Сумы—один из торговых в Украйне, с ежегодным оборотом на ярмарках до 21/2 милл. рублей. Еще ниже по реке стоит Лебедин, в котором Петр Великий делал приготовления перед Полтавской битвой, и где друг царя, Меншиков, умертвил, как говорят, 900 человек; еще до сих пор там можно видеть высокий холм, называемый могилою гетманцев. Далее следует Гадяч, довольно древний укрепленный город, в котором в 1658 году был заключен договор о федеральном союзе между Украйною и Польшею. Ниже по течению находится Рашевка, главный пункт артелей малороссийских прасолов, а недалеко от неё Сорочинцы—родина Гоголя. На притоках Псёла находится к востоку Зеньков, а в западу Хороль и Миргород, население которого частию состоит из чумаков.
Главным рынком нижнего течения Псёла и торговым центром всей Малороссии считается Кременчуг, один из главных пунктов судоходства по Днепру, соперничающий по числу жителей с Полтавою; весною население его удвоивается: там производится перегрузка товаров: в городе и в его предместьи, Крюкове, лежащем на правом берегу Днепра, насчитывают в это время до 70.000 человек. Большие соляные магазины, принадлежащие казне, склады леса и дровяные дворы занимают большую часть берега в Крюкове. Промышленные заведения Кременчуга питают отчасти и местную торговлю: тележные мастерские, заведение земледельческих машин, кожевенные, паровые лесопильни и табачные фабрики ежегодно вырабатывают продуктов на очень большую сумму. В Кременчуге и теперь еще видны остатки крепости, построенной в 1635 году Бопланом; но самое замечательное сооружение города и в то же время одно из чудес технического искусства в Европе—крытый мост длиною в 450 саж., по которому ходят железнодорожные поезда из Харькова на Балту. Кроме этого моста, есть еще другой, плашкоутный, соединяющий город с предместьем. Весной, город иногда бывает совершенно затоплен: пожары также опустошают его довольно часто; он постоянно строится, с каждым годом разростается, но от этого не делается красивее.
Река Ворскла, близко напоминающая своими извилинами Псёл, немного короче его, но, также, как и он, протекает по трем губерниям—Курской, Харьковской и Полтавской. В верхней части на ней стоит Грайворон, ниже его,—Ахтырка, посещаемая богомольцами; затем в нее впадает Мерль, орошающий поля уездов Богодуховского и Краснокутского. Полтава, губернский город, расположена на правом берегу Ворсклы, при впадении в нее речки Полтавки, около места соединения всех выше лежащих по течению реки долин. Упоминаемый уже в двенадцатом веке, город этот, как и все другие степные города, был свидетелем битв и сеч; но имя его прогремело в Европе только после кровопролитного сражения 1709 года, когда Карл XII, этот «последний из варягов», закончил свое метеорное движение, и когда Россия, переставши, так сказать, быть азиатским государством, заняла место среди европейских держав. Различные памятники, воздвигнутые в городе и на поле битвы, напоминают о поражении шведов. До половины настоящего столетия Полтава возрастала весьма медленно; только с тех пор, когда перенесена была в город весьма важная ярмарка, он стал быстро развиваться, и обширные пространства, некогда занятые садами, начали покрываться зданиями. На Ильинской ярмарке торговые обороты достигают, средним числом, 12—15 миллионов рублей: торговля ведется преимущественно шерстью; велик также торг лошадями, табуны которых пригоняются с берегов Дона. Промышленность и торговля Полтавы находятся большею частью в руках евреев. Немецкие колонисты ввели в этой местности производство сукон и одеял. Некоторое значение приобрело также изготовление простых тканей в Кобеляках—городе, лежащем ниже Полтавы, почти на половине дороги от Днепра. Немецкие колонисты, живущие по деревням в окрестностях недавно основанного города Константинограда, в долине речки Орель, также занимаются выделкой сукон для армии.
Другой недавно основанный город, Екатеринослав, только в настоящем столетии приобрел некоторую важность, будучи возведен на степень губернского города. Близ того места, где находится теперь город, в 1635 году инженером Бопланом была основана для Польши крепость Койдак, разрушенная потом казаками. Деревня Ново-Койдак заняла место бывшей крепости; в 1784 г. население её не достигало и 450 душ. Вблизи этого-то места, верстах в 6 ниже, Потемкин основал, спустя два года, в честь Екатерины II, город, который он хотел сделать столицею Новороссии. Положение Екатеринослава при большом повороте Днепра, выше порогов, было весьма благоприятно: на небольшом расстоянии к югу, в Лоцманской Каменке, должны останавливаться все барки и лодки, чтобы взять лоцманов, или для перегрузки товаров. Почти против самого города находится устье реки Самары; гранитные пороги превратили ее в обширное болото в нижнем течении—между Павлоградом и Новомосковском (Самарчик запорожцев). Эти города, столь же недавние, как и Екатеринослав, тоже заменили прежния казацкия станицы. В 1785 г., Павлоград дал убежище корсиканским солдатам, после сдачи ими испанцам, за три года пред тем, порта Магона.
Ниже порогов лежит пристань Александровск (город основан в 1770 году на левом берегу Днепра, как раз против славного острова Хортицы), где останавливаются суда после перехода, иногда очень опасного, через пороги, и откуда отправляется извозом зерновой хлеб в Бердянск—порт на Азовском море; в ближайшем будущем железная дорога должна заменить перевозку гужем по степям. Ниже Александровска Днепр поворачивает мало-по-малу к западу; река Конская, берущая начало у Орехова, впадает в этом месте в Днепр; она в течение долгого времени служила границею между владениями запорожцев и татар. Обширные болота, песчаные мели и изменчивые излучины реки, часто заливаемые, весьма затрудняют переправу через Днепр в этом месте его течения; поэтому, город Никополь, некогда известный под именем Никитина Перевоза, издавна получил некоторое значение, благодаря своему положению на мысе правого берега, выше места съужения речной долины: но город должен постоянно отодвигаться в степь, так как течение реки размывает ежегодно часть крутого берега, на котором он расположен, и могилы кладбища низринулись в реку, вместе с находящимися в них костями. К Никополю направлялись и направляются дороги, ведущие к переправе через реку, в Знаменку—на другом берегу: здесь пролегал чумацкий тракт, по нем ездили чумаки в Крым за солью, и маленькия каботажные суда поднимаются вверх по Днепру до этого места. Немного ниже, на северном берегу Днепра, виднеются два места, где некогда была Запорожская Сечь: в самой же Старой Сече, существовавшей с шестнадцатого столетия и разрушенной по приказанию Петра Великого, крутой берег подмыть течением; соседние острова, уменьшаясь с одной стороны, увеличивались с другой, так что они как будто перемещались по реке. Из Никополя обыкновенно посещают лежащую к северу «Толстую Могилу» скифов, в которой была найдена драгоценная ваза почти греческой работы, с рисунком, изображающим ловлю диких лошадей. Берислав, или Борислав, расположенный на том же берегу Днепра, как и Никополь, имеет подобное же преимущество: когда пароходы еще не перевозили чумаков и их обозы, 70 больших баркасов служили для переправы между Бериславом и его предместьем, Каховкой. Во время Крымской войны в этом месте переправилась большая часть войска и обозы с провиантом. Некогда Берислав был татарской крепостцой, носившей название Кизы-Керман, и, говорят, железные цепи были протянуты через реку, достигающую в этом месте во время разливов 4 верст в ширину. В 1696 г. крепость эта была взята Петром Великим.
Река Ингулец, по мнению некоторых ученых «Геррус» Геродота, впадает в Днепр выше Херсона и издавна имела важное торговое и стратегическое значение, так как течет почти по прямой линии с севера на юг, от места впадения Тясмина до Днепровского лимана, и таким образом дает возможность миновать длинный изгиб Днепра с его порогами и болотистыми мелями нижнего течения. Только один пункт, с населением в 10.000 человек, существует в этом бассейне, большая часть которого была обращена в пустыню, чтобы избежать татарских набегов. Пункт этот—город Александрия, основанный в восемнадцатом столетии под именем Беча, в верхней части Ингульца. Около середины течения этой реки, в месте слияния её с Саксаганой, известном под именем «Кривого Рога», недавно открыты богатые месторождения железной руды, которая, при содержании от 48 до 70 процентов чистого металла, заключает в себе лишь незначительные количества серы и фосфора. По мнению инженера Конткевича, эта руда может считаться лучшей во всей России, лучше даже уральской. Запасы руды в известных уже залежах исчислены по меньшей мере в 130 милл. тонн (свыше 8 миллиардов пудов).
Алешки, на южном берегу реки, в прежния времена был морским портом для нижнего течения Днепра: с десятого века он служил складочным местом торговли греков с «варягами», чрез Киев. То был город Олеши; это название генуэзцы превратили в Эличе (Elice), а это последнее постепенно изменилось в Алешки; но слово это в первоначальном своем значении выражает то же, что и Гилеа (Hylea) Геродота, т.е. «Лесной». Однако, всякие следы леса давно исчезли в этой местности. Прогнанные в 1711 году из своего стана, находившагося при впадении Каменки в Днепр, запорожские казаки поселились близ Алешек, входивших тогда в состав владений крымских татар; но в 1733 году, по достижении соглашения с русским правительством, которое сначала приказало вешать всякого запорожца, захваченного в русских владениях, казаки оставили «землю неверных», чтобы основать «новую сечь». Алешки—торговое предместье Херсона, лежащего почти напротив, на правом берегу Днепра, в 10 верстном расстоянии. Отсюда доставляется в Херсон скот, зерновый хлеб, кожи, фрукты и арбузы, очень ценимые на всем юге России.
Херсон, главный город одной из самых населенных губерний России, по числу жителей и торговле стоит гораздо ниже Одессы; он уступает даже Николаеву—порту при устье Буга; но, как сторожевой пункт при входе в Днепр, он не мог не удержать за собой значительную часть торговли южной России. Однако, мели, острова и песчаные наносы не позволяют большим судам подниматься до города,—они должны останавливаться в 35 верстах к западу от Херсона, в лимане. Основывая Херсон на месте небольшого укрепления Александр-Шанца (по-немецки Alexander-Schantze) и давая ему прекрасное греческое имя, Потемкин рассчитывал на более славное и более счастливое будущее для этого города; в настоящее время в Херсоне осталось только небольшое число греков, хотя первоначальное население его состояло почти исключительно из переселенцев этой национальности. Хотя Херсон ведет довольно большую отпускную торговлю, в особенности лесом, зерновым хлебом и кожами, но все-таки значительная часть его торговой деятельности состоит в каботажной отправке товаров в Одессу, откуда он получает иностранные товары. Часть старинных укреплений Херсона существует еще и до сих пор. Припомним надпись, которую Екатерина II могла прочесть на воротах одного строившагося здания: «Здесь дорога в Константинополь».
Перечень городов с населением свыше 5.000 душ, в бассейне Днепра, ниже впадения в него Припети (число жителей губернских и других значительных городов показано по предварительным результатам переписи 28 января 1897 г.):
Волынская губерния: Житомир—64.452 жителя.
Орловская губерния: Брянск—20.592 жит.; Севск—8.604; Дмитровск—6.990; Трубчевск—5.443.
Курская губерния: Курск—52.908 жит.; Рыльск—16.912; Путивль—12.579; Обоянь—10.830; Фатеж—6.116.
Черниговская губерния: Нежин—31.892 жит.; Стародуб—25.195; Чернигов—25.580; Конотоп—22.834; Глухов—17.622; Борзна—11.892; Березна—10.790; Новгород Северск—8.389; Кролевец—13.330.
Киевская губерния: Киев—248.750 жителей; Бердичев—53.728; Белая Церковь—20.700; Васильков—19.720; Черкасы—29.620; Тараща—25.002; Сквира—17.317; Чигирин—17.954; Канев—9.843; Радомысль—8.126.
Полтавская губерния: Полтава—53.060 жит.; Кременчуг—57.879; Кобеляки—15.932; Прилуки—17.291; Зеньков—14.945; Переяславль—13.795; Гадяч—10.579; Лохвица—10.742; Золотоноша—9.900; Миргород—13.055; Градижск—10.805; Ромны—20.925; Хороль—7.225; Лубны—10.910; Пирятин—6.812.
Харьковская губерния: Ахтырка—27.085 жителей; Лебедин—16.160; Сумы—26.622; Белополье—17.241; Богодухов—12.149; Недригайлов—6.098; Краснокутск—5.641.
Екатеринославская губерния: Екатеринослав—121.216 жит.; Павлоград—32.528: Новомосковск—23.275; Никополь—8.144.
Херсонская губерния: Херсон—69.219 жит.; Александрия—13.310; Ново-Георгиевск—9.042; Берислав—11.789.
Таврическая губерния: Алешки—10.525 жителей; Орехов—5.161.
Подолия принадлежит всецело к бассейнам Буга и Днестра, и большая часть её городов лежит или по течению, или в соседстве этих рек. Город Проскуров, окруженный высокими холмами, лежит среди болотистой равнины, где берут начало несколько ручьев, впадающих в нарождающийся Буг; там же находятся поселения поляков, известных под общим именем «мазуров». Меджибож, или Междубужье, названный так потому, что находится между Бугом и притоком его, Бужком, также частию защищен болотами, что и побудило избрать эту стратегическую местность сборным пунктом русских войск близ австрийской границы. Ниже по Бугу следует Летичев, один из городов Подолии, часто подвергавшихся опустошениям от поляков и казаков. Хмельник окружен действительно полями хмеля, а ниже в долине Буга лежат богатая Винница (в семнадцатом столетии она была главным пунктом одного из казацких полков, горячо отстаивавших свою свободу), и еврейский Брацлав—некогда главный город большой польской провинции. К западу от реки, при подошве большого холма, стоит Литин, а дальше на юго-запад, в долине Рова, находится приобревший известность в истории город Бар, в котором, в 1768 году, образовалась конфедерация, заявившая протест против уступок, сделанных диссидентам, и тем самым приведшая Польшу к окончательному падению. Небольшой городок Киевской губернии Липовец, лежащий к востоку, напоминает о татарах-липанах, давно живших в этой местности. Соб, протекающий около Липовца, впадает в Буг и нижним своим течением орошает окрестности более населенного города—Гайсина или Хайсина. Синюха, главный из притоков Буга и некогда граница «запорожской вольницы», начинается в Киевской губернии и получает свои воды из Звенигородского и Уманского уездов. Умань—значительный торговый город, в котором казаки и малороссийские крестьяне в 1768 году, желая отмстить «Барским конфедератам», произвели всеобщую резню поляков и евреев, укрывавшихся в этом месте; в настоящее время евреи там более многочисленны, чем когда-либо. Ново-Миргород, сначала колония миргородских казаков, а затем центр Новой-Сербии, лежит на восточном притоке Синюхи.
Балта, лежащая почти на половине расстояния между Днестром и Бугом, но на притоке последнего, приобрела большое значение в последние годы, как пункт пересечения железных дорог из Одессы в Бреславль и из Одессы в Москву. В Балте производится обширная торговля скотом и земледельческими произведениями, в которой участвуют также соседние города Ольгополь и Ананьев и которая направляется почти исключительно к Одесскому порту.
Вступая в Херсонскую губернию, Буг, соединенный с Синюхой, омывает Ольвиополь, затем змееобразно извивается по степи. Город Вознесенск, в окрестностях которого бывают большие кавалерийские маневры, стоит на левом берегу реки, при впадении в нее Мертвой воды. Буг, расширяясь мало-по-малу, переходит в лиман гораздо раньше, чем в него впадает его главный приток, Ингул, в бассейне которого расположены два важных города Елисаветград и Бобринец. Елисаветград в прошлом столетии был не больше, как простая крепостца и маленькая колония беглых раскольников; но, подобно Ингульцу, Ингул представляет в торговом отношении ту выгоду, что по нем могут спускаться товары с севера на юг почти по прямой линии, укорачивая таким образом расстояние между средним Днепром и лиманом реки; этим и объясняется, почему Елисаветград, сделавшись главным средоточием торговли между Кременчугом и Одессой, развился с чисто американской быстротой. В последние годы в окрестностях города разработываются залежи лигнита.
Николаев расположен немного выше слияния Буга и Ингула, на обоих берегах реки, уже превратившейся в этом месте в лиман под влиянием морских вод. Это также один из быстро ростущих городов; но своим цветущим состоянием он обязан преимущественно правительству. С 1789 года Николаев превращен в главную морскую станцию на Черном море. Между тем как главные действующие морские силы были сосредоточены в Севастополе, Николаев, построенный внутри страны, в некотором расстоянии от прибрежья, получил более важное назначение—строить и снаряжать корабли и заготовлять провиант; но он имеет и некоторые невыгоды—особенно ту, что большие корабли могут приставать к нему не иначе, как облегченные от своего вооружения; фарватер на баре имеет глубину лишь в 6-7 метров (20-23 фут.). Этот обширный город, с широкими, пыльными и уходящими далеко в степь улицами, застроенными низкими домами, состоит из центрального квартала, вокруг которого группируются многочисленные военные предместья. Николаев, русский Тулон, имеет, кроме казарм, обширные сооружения, замечательные как по своей величине, так и по своим механическим приспособлениям. Молы, пристани, доки, верфи тянутся вдоль Ингула; тысячи рабочих населяют мастерские, в которых приготовляются щиты для брони, колеса, лафеты, пушки, паровые котлы и вообще все железные или деревянные предметы, необходимые для снаряжения и вооружения кораблей; пловучий док, стоящий на якоре, принимает броненосные суда. Укрепления возвышаются со всех сторон в окрестностях города и по обоим берегам Буга, ниже слияния. Хотя Николаев предназначен специально для военных целей, тем не менее он имеет некоторое значение и для мирного торгового обмена; он является наследником милетской Ольвии, находившейся несколько ниже, близ слияния обоих лиманов—Днепровского и Бугского, у «Ста Могил». Николаев не может соперничать с Одессой по части непосредственного импорта, но он отпускает довольно значительное количество зернового хлеба, особенно в урожайные годы, и несколько пароходных линий имеют здесь свою пристань. Движение Николаевского порта в 1895 г.: по заграничному плаванию: пришло—515 судов, в 710.182 тон.; отошло—523 судна, в 724.966 тонн: каботаж: пришло—777 судов, в 264.078 тонн; отошло—608 судов, вместимостью в 242.520 тонн. Ценность вывоза в 1895 г. выразилась цифрой 17.168.604 руб.
Город Очаков, или Кара-Керман, т. е. «Черная крепость», расположен на северном берегу морского лимана, в который впадают Буг и Днепр, и может быть рассматриваем как передовой порт Николаева. Некогда, благодаря своему стратегическому и торговому положению, он был одним из самых важных пунктов на Черном море. Основанный в 1492 году одним из татарских ханов на месте греческой крепости, он часто был оспариваем друг у друга русскими и магометанами во время многочисленных войн и, наконец, окончательно перешел под власть России в 1788 г., после кровопролитнейшей осады, окончившейся избиением турецкого гарнизона. В 1854 году, во время Крымской войны, Очаков и крепость Кинбурн, на южной оконечности при входе в лиман, подверглись нападению эскадры союзников.
Одесса, самый значительный торговый порт южной России, не лежит, подобно Херсону, Николаеву и Очакову, при устье реки, которая давала бы доступ внутрь страны; лиман Хаджи-Бей, некогда сообщавшийся с морем, давно уже представляет из себя лагуну с солоноватой водой, и при том он питается лишь временными водами, спускающимися из степи. Несмотря на это, Одесса может считаться истинным портом Днепра и Днестра, подобно тому как Марсель является гаванью Роны, а Венеция—гаванью реки По. Трудности входа в устье обеих главных рек Малороссии заставили моряков избрать приморским центром береговой пункт с более легким доступом, и Одесский залив действительно представляет все необходимые для этого условия. Суда могут подходить сюда безопасно, а гладкия степные дороги дозволяют без труда подвозить товары к дорогам, идущим вдоль рек. Кроме того, из всего западного бассейна Черного моря Одесский залив наиболее глубоко вдается в материк, а берег в этом месте изменяет направление—с одной стороны к югу, а с другой к востоку, вследствие чего естественные пути страны направляются к Одессе в гораздо большем числе, чем к какому-либо другому пункту морского берега. Значение Одессы быстро возростало, особенно с тех пор, когда к преимуществам географического положения присоединились еще выгоды, доставляемые молами, складами, железными дорогами и установившимися сношениями. С основания Одессы прошло всего только около ста лет: на том месте, где раскинулись теперь её дворцы, еще в 1789 году находилась татарская деревня, вокруг крепости Хаджи-Бей. В 1794 году Одесса получила свое настоящее имя от греческой колонии, основанной некогда на этой части морского побережья в память славного Улисса. В начале девятнадцатого столетия Одесса имела уже население в 8.000 человек, в 1850 году—около 100.000, а теперь в ней насчитывается свыше 400.000 жителей. По численности своего населения Одесса—четвертый город Российской Империи и, вместе с Петербургом, более всех русских городов имеет европейскую физиономию; это уж не огромная деревня, как большая часть городских поселений внутренней России.
С моря Одесса представляет очень красивый вид. Она лежит на 47 метр. (155 фут.) над уровнем моря, в самом возвышенном месте степной террасы, которая понижается мало-по-малу, с одной стороны—по направлению к Днепровскому лиману, а с другой к Днестровскому, и круто обрывается у моря. Вдоль ряда величественных домов, по скалистому берегу тянется Приморский бульвара., с центральной площадки которого, украшенной статуей герцога Ришелье, спускается к морю монументальная лестница, возвышающаяся над набережными и портами, тогда как «балки», когда-то безлюдные, а теперь густо застроенные, врезываются в глубь степного нагорья. Центральный квартал—роскошный город с домами в итальянском стиле, с широкими улицами, окаймленными тротуарами, и с изящными магазинами; но от этого квартала тянутся во все стороны, по направлению к степи, обширные предместья, где ветер вздымает облака пыли—сущий бич Одессы. Почва, на которой расположен город, состоит из раковистого песчаника; он употребляется для постройки зданий, но легко выветривается, и через очень короткое время дома, построенные из него, имеют вид развалин; этим и объясняется то обстоятельство, что греческие города, стоявшие на этом морском берегу, совершенно исчезли, оставив после себя лишь кучи мусора. Одесский песчаник, добываемый в расположенных под самым городом галлереях или катакомбах, из которых некоторые недавно обрушились, по своей хрупкости негоден для мощения улиц, и необходимый для мостовых материал привозится в Одессу с острова Мальты и из Италии на кораблях. В проточной воде тоже чувствуется недостаток: кроме двух ключей, в городе есть лишь колодцы с плохой водой и цистерны; в сухое время года прежде платили дорого за воду, привозимую из Крыма; теперь же вода доставляется по водопроводу из Маяков, лежащих на нижнем течении Днепра, в 40-верстном расстоянии. Резервуары вмещают 27 миллионов литров воды (около 2.200.000 вед.).
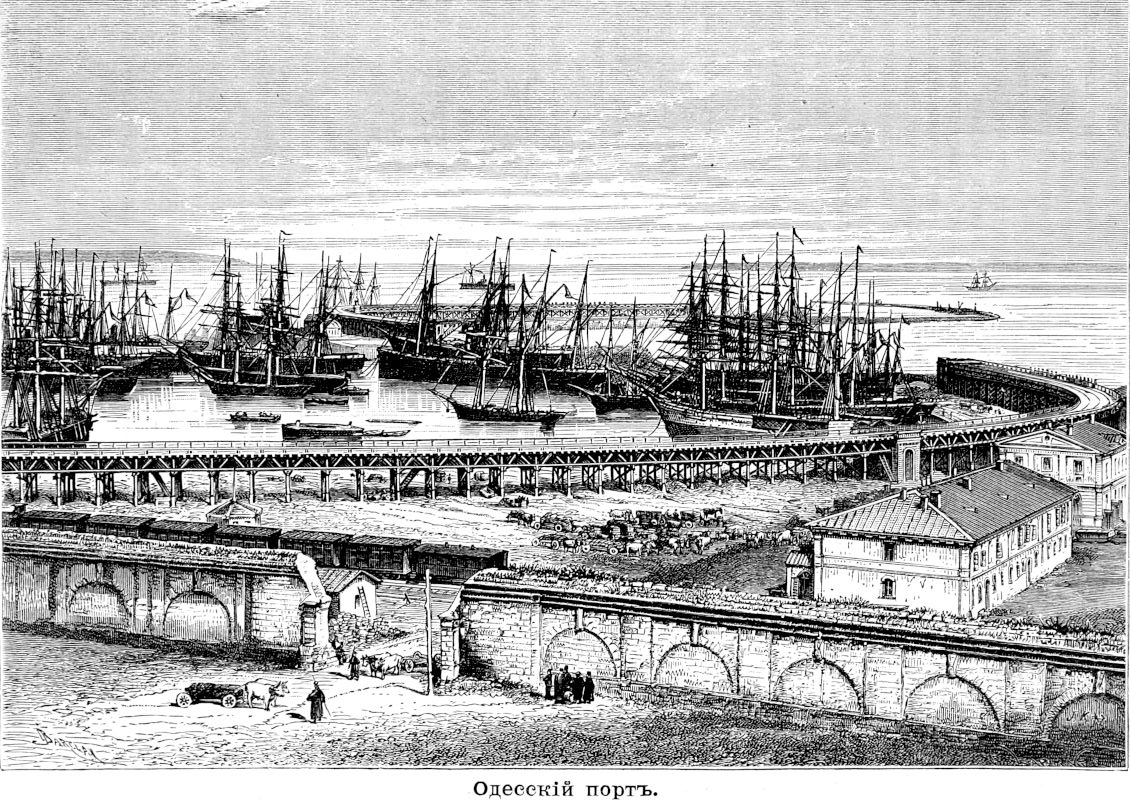
Будучи одновременно и русским городом, и городом Средиземного моря, Одесса принадлежит к числу центров Европы с наиболее смешанным населением. Главные одесские коммерсанты—евреи, итальянцы, греки, немцы, французы. Татары и румыны, турки и болгары встречаются на улицах с лазами из Малой Азии и грузинами с Кавказа. Французское влияние значительно в этом городе, основанном генералом де-Рибасом, построенном отчасти инженером Воланом, украшенном и дотированном герцогом де-Ришелье; но впоследствии, из иностранцев, преобладающее значение имели итальянцы; еще недавно названия улиц были написаны на двух языках—итальянском и русском, и много итальянских слов вошло в язык одесситов. Впрочем, физиономия города изменяется под влиянием хода торговли, а последняя представляет весьма значительные колебания, так как главный предмет отпуска из Одессы—зерновый хлеб, сравнительно с прочими товарами, чрезвычайно сильно колеблется из года в год, в зависимости от урожаев, потребностей и богатства стран, ввозящих этот продукт. Обширные магазины, из которых некоторые походят на дворцы, служат для ссыпки зернового хлеба и дают понятие о важности этой торговли. В 1866 г. из Одессы было вывезено—3.143.000 четвертей хлеба, в 1870 г.—5.264.000 четв.; за трехлетие, с 1878 по 1880 год, в среднем,—6.800.000 четв.: в 1895 г. вывезено—122.120.546 пудов. Из трех своих гаваней Одесса отпускает также значительные количества шерсти, сала, льна и получает взамен колониальные и мануфактурные товары, вино, а также предметы роскоши. Ценность торговых оборотов Одессы в 1895 году:
По ввозу—54.128.552 р.; по вывозу—89.312.422 р.
Движение Одесского порта в 1895 г.:
По заграничному плаванию: пришло 1.274 судна, вместимостью в 1.823.951 тонну; отошло: 1.276 судов в 1.825.901 тонну.
Каботаж: пришло—4.093 судна,в 1.154.178 тонн; отошло—4.185 судов в 1.182.240 тонн.
Наибольшая часть одесской торговли ведется посредством пароходов, и сам город владеет значительною частью флота, обслуживающего эту торговлю (Русское общество пароходства и торговли имеет 74 парохода, 6 паровых катеров и 67 железных паровых барж; Черноморско-Дунайское—10 пароходов, и Добровольный флот—9 пароходов). Что касается местной промышленности, то она лишь в слабой степени питает торговлю; только в 1830 году в Одессе появился первый настоящий завод, но теперь там имеются паровые мукомольни, мыловаренные заводы, табачные фабрики, винокуренные заводы, пивоварни, солеварни, лесные склады всякого рода. В 1891 г. фабрик и заводов в Одессе было 442, при 9.515 рабочих, с годовым производством на сумму 28,7 миллионов рублей. Окрестные солеварни доставляют от 4.000 до 5.000 тонн соли (2.480.000 до 3.100 000 пудов) в год. С 1857 года Одесса перестала быть порто-франко; но вскоре после этого она получила выгоду другого рода, сделавшись местопребыванием одного из русских университетов, впрочем, самого малочисленного по числу профессоров и студентов. В 1885 г. в Одесском (Новороссийском) университете было—610, в 1894 г.—506 слушателей.
По берегу моря к югу от Одессы нет городов, а встречаются местами лишь хутора, или дачи, которые богатые негоцианты с большим трудом обсадили деревьями и цветами. Деревни в этой местности большею частию населены немецкими колонистами и расположены по берегам стоячих вод, образовавшихся вследствие задержки течения степных речек.
Города бассейнов Буга, Тилигула и Херсонского побережья, с населением свыше 5.000 душ (число жителей губернских и других значительных городов показано по данным переписи 1897 г.):
Киевская губерния: Умань—28.628 жителей; Звенигородка—13.667; Липовец—9.825 жит.
Подольская губерния: Балта—32.558 жителей; Винница—24.989; Проскуров—20.489; Гайсин—10.782; Бар—13.434; Хмельник—12.228; Литин—10.511; Ольгополь—9.713; Брацлав—8.317 жителей.
Херсонская губерния: Одесса—404.651 жителей; Николаев—92.060; Елизаветград—61.841; Ананьев—13.646; Вознесенск—12.259; Бобринец—10.764; Ново-Миргород—6.852; Очаков—6.984 жителей.
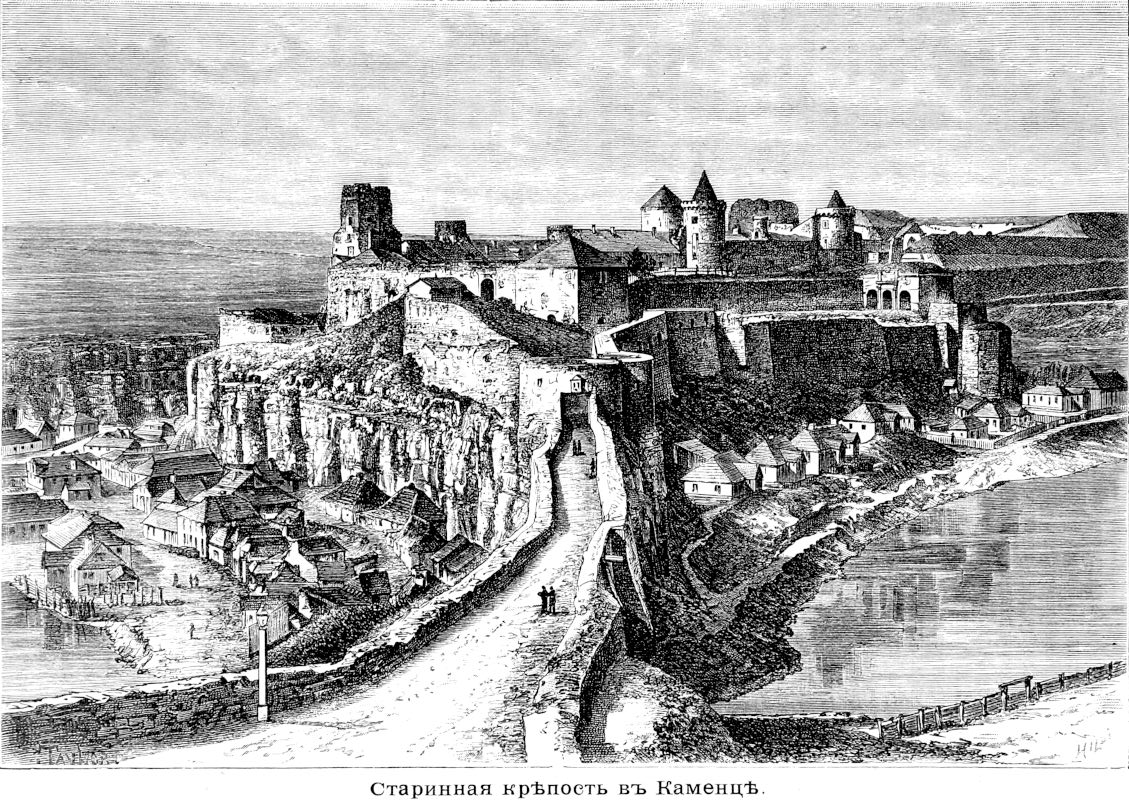
Вступая на русскую территорию, Днестр орошает окрестности Хотина (Хоцима), некогда бывшего самой северной генуэзской колонией: еще и теперь видны здесь некоторые остатки итальянской крепости. Хотин служил также туркам пунктом для наблюдения за польским городом Каменец-Подольском, расположенным севернее на высокой террасе, окруженной глубоким оврагом. Этот город, похожий по местоположению на Люксембург, соединен, как и последний, с кварталами на противоположном крутобережьи великолепным виадуком. Другой мост, построенный в 1627 году турками, в период кратковременного их владения, соединяет Каменец с древней крепостцой, которая придавала этому месту, какие-нибудь сто лет назад, важное стратегическое значение; круглые башни крепости с остроконечными крышами имеют живописный вид. Каменецкие армяне, которым польские короли предоставили большие привилегии, почти все эмигрировали. Теперь Каменец, населенный наполовину евреями, соперничает с Хотином в контрабандной торговле, некогда весьма значительной, с галицийскими деревнями по ту сторону границы. Новая Ушица, на берегу одного из оврагов, прорезывающих северную часть плоскогорья, и прелестный Могилев-Подольский, окруженный фруктовыми садами и виноградниками—вот остальные города этой местности по верхнему Днестру.
Ниже Могилева следуют по реке города: Ямполь, Сороки, Дубоссары, Григориополь. Сороки, ныне уездный город, населенный евреями и молдаванами, окружен табачными плантациями; в двенадцатом и тринадцатом столетиях он был одною из генуэзских колоний, основанных в долине Днестра для торговля с населением Галиции и Венгрии. К западу, на одном из притоков реки, расположены два города, часто утопающие в грязи: Бельцы, известный по торговле скотом, и Оргеев; но торговля их находится в зависимости от двух больших соседних городов: Ясс, столицы Молдавии, и Кишинева—главного города Бессарабии; последняя носила некогда имя более верное в этнографическом отношении—Россо-Валахии. Кишинев, илп Киссину на языке его обитателей—румын, не что иное, как громадная деревня, населенная сотнею тысяч жителей, с широкими улицами, грязными или пыльными, смотря по времени года; почти на семь тысяч жилищ, в 1878 году в нем было едва пятьдесят домов более чем в один этаж; главное здание города—громадная тюрьма с четырьмя зубчатыми башнями, возвышающимися над низкими домами. Город окружен садами, которые возделываются болгарами. К северу, несколько холмов покрыты частым кустарником, который кишиневцы называют «лесом».
Бендеры, прежний Тагын казаков, по населению и торговле далеко не имеет того значения, каким пользуется Кишинев, но зато он славен в другом отношении. В этот город, на правом берегу Днестра, бежал Карл XII после Полтавской битвы и здесь в течение двух лет пользовался гостеприимством султана; потом он устроил свой лагерь в трех верстах отсюда, близ деревни Варницы, где также прожил два года. Город Бендеры, трижды занимаемый русскими войсками, лишь в 1812 году был окончательно присоединен к России. Немного ниже по течению, на левом берегу Днестра и на другой его излучине, лежит Тирасполь, издали дающий о себе знать рядом ветряных мельниц; названием своим этот город напоминает древнюю греческую колонию Тирас, которая, впрочем, существовала не на этом месте; в течение последнего столетия город этот дал приют большому числу великорусских раскольников; они сохранили свои обычаи до настоящего времени и отличаются вообще, особенно женщины, красотой лица. Южнее, на Днестре же, расположена деревня Олонешти, напоминающая аленов, бывших некогда, вместе с ногайцами, обитателями этой страны. Бедный Овидиополь, расположенный однако совершенно не на том месте, куда был сослан римский поэт, как можно было подумать, судя по имени города,—лежит на восточном берегу Днестровского лимана; некогда он пользовался значением как сторожевой пункт на русской границе против турецкой крепости Аккермана, построенного на противоположном берегу лимана и окруженного обширными предместьями, из которых главное—Турлаки. В этом-то месте, вероятно, и находился древний Тирас, или Офиус, превратившийся впоследствии в Альба-Юлию латинизованных даков, Лейкополис и Аспро-Кастрон византийцев, Аклиба—куманов, Фегер-Вар—венгров, Цитате-Альба—румын, Бел-Город—славонцев, Ак-Керман—турок; город, носивший эти различные названия, имеющие одно и то же значение—именно «Белый город» или «Белая крепость», был предназначен защищать вход в Днестр, подобно тому как «Черная крепость» защищала вход в Днепр; в окрестностях города до сих пор еще видны остатки генуэзской крепости и стены, построенные румынами и турками. Рыбные ловли в лимане и земледельческие продукты, добываемые в окрестностях этих мест, придают городу некоторое торговое значение. Население города состоит в значительной степени из потомков крепостных, бежавших из Малороссии; им даны были права мещан, и их записывали под именами уже умерших; вот почему «безсмертие» аккерманских мещан вошло в пословицу. В 6 верстах к югу находится колония Шаба, населенная французскими и немецкими швейцарцами.
Значительнейшие города в бассейне Днестра:
Подольская губерния. Каменец-Подольск (97 г.)—34.483 жит.; Могилев-на-Днестре—29.000.
Херсонская губерния. Тирасполь (97 г.)—27,585; Дубоссары—10.651; Григориополь—6.575.
Бессарабская губерния. Кишинев (97 г.)—108.506; Аккерман—28.365; Бендеры—32.934; Хотин—20.283; Сороки—12.118; Оргеев—7.340; Турлаки—5.202.
Последняя война доставила России богатые местности Буджака, или Молдавской Бессарабии, и некоторые из многолюдных городов в бассейнах Прута и нижнего Дуная. Кагулу (по-русски Кагул) или Фрумоза, румынский город, лежит в соседстве с Прутом, а Болград расположен на северной стороне Дунайского лимана. Болград—столица болгарских колоний в Дунайской Бессарабии—очень промышленный и оживленной город, отличающийся также превосходным устройством и содержанием своих низших и средних школ. В 1877 году Молдавская Бессарабия имела 154 школы, в том числе 10 гимназий, между тем как во всей Русской Бессарабии, с населением в девять раз большим, было только 220 школ.
На Дунае самый населенный пункт—двойной город Измаил и Тучков, славный в истории дунайских войн. Три раза, в 1770, 1790 и 1791 годах, Измаил был взят русскими; в 1810 году, когда был основан Тучков, Измаил представлял из себя лишь кучу развалин. Хотя Тучков лежит на Килийском рукаве, реже других посещаемом судами, но все-таки ведет довольно большую торговлю зерновым хлебом и другими земледельческими продуктами; в один год было вывезено почти 600.000 четвертей пшеницы. Торговое движение Измаильского порта в 1895 году: пришло 198 судов, вместимостью в 68.509 тонн, отошло 197 судов в 68.449 т.; привоз—на 75.115 р., вывоз—на 2.286.498 руб. Выше Тучкова по течению лежит пристань Рени (близ этого места Дарий перешел Дунай, ниже—Килия, город населенный раскольниками-липованами, давший свое имя северному Дунайскому рукаву, и Вилков, населенный рыбаками; но в обоих торговля менее значительна, чем в предъидущем. Отныне обладательница Килийского рукава, самого значительного из рукавов Дуная, Россия занимается углублением его входа, чтобы сделать этот рукав истинным устьем реки, в ущерб Сулинскому рукаву.
Города Дунайской Бессарабии имеют жителей:
Измаил и Тучков (1889 г.)—34.310; Болград—8.179; Кагул—5.980; Килия—8.014; Рени—6.079.