II. Памир и Алай
Памир и Тибет, массивы которых встречаются друг с другом на север от Индустана и на восток от Оксуса, суть две горные цепи Азии, хотя, вернее сказать, обе они, взятые вместе, составляют одну континентальную цепь. Расположившись под прямым углом, одна параллельно экватору, а другая по направлению меридиана, они образуют ту «Крышу», тот «Венец мира», или Бам-и-дуниаг’ту, название которого, заимствованное с киргизского, применяется обыкновенно лишь к одному Памиру.
Вместе с своими мысами, выдающимися в виде гор над равнинами Оксуса на западе, и Тарима, на востоке, Памир занимает в центре Азии пространство, равное приблизительно 70.000 кв. верст. Его громадные уступы, выдвигающиеся вместе с контрфорсами верст на 500, образуют как бы западную часть той стены, которая окружает в виде плоскогорий и горных систем Китайскую империю, резко разделяя Азию на две половины и заграждая пути для переселений и военных набегов. Поднимаясь, в среднем, на высоту 13.000 футов над уровнем земли, годной к культуре, в области снегов и горных пастбищ, Памир был бы страной голода и смерти для народов или для армий, которые вздумали бы зайти в него. Однако небольшие караваны путешественников и купцов и небольшие отряды воинов проходили через это плоскогорие не редко. Невозможно, чтобы в прежнее время не пытались пройти кратчайшим путем пространство, отделяющее Оксус от Кашгарии и Европу от Китая. Греки, римляне, арабы, итальянцы и китайцы не раз пересекали Памир, одни с торговыми предприятиями, другие в пылу религиозной страсти, третьи ради завоеваний; но очень немногие из путешественников оставили описания своих маршрутов; все они старались перейти плоскогорие через борозды, лежащие в самой нижней части его. На однообразном пространстве следы путников теряются так же скоро, как и следы корабля в океане. В Памире, имя которого есть синоним пустыни, нет ни городов, ни обработанных полей, ничего, что могло бы служить вехами; местности всюду одинаковы, однообразны. Никакие точные указания в древних сочинениях о путешествиях не могут помочь отыскать с достоверностью прежние пути караванов, и только новейшие исследователи, прошедшие разные части его, тщательно наносившие на карту маршруты, дали наконец возможность составить общее понятие о плоскогории и его рельефе. Благодаря им, можно было разобраться в хаосе древней номенклатуры, восстановить географию Азии, стереть различные фантастические цепи гор, нанесенные на карты на-угад... «Меридиональный» хребет Болор, составляющий, по мнению Гумбольдта, ось материка, перестал уже существовать на картах, по крайней мере как ряд вершин; точно также Имаюс древних смешивается с громадным плоскогорием Памир. Очень возможно, впрочем, что название Болора или Балора прилагалось в сущности только к области, соседней с Гиндукушем, вероятно к стране, известной в наше время под названием Дардистана.
Греческие торговцы, сопровождавшие купцов других наций, может быть китайцев, во втором веке христианской эры, если не ранее этой эпохи, умели отыскивать дороги в Серику или «Страну шелка», через Памир. Основавшись в Бактриане, т.е. в долине среднего Оксуса, и войдя, конечно, при этом в сношения с народами, жившими на восток и север от них, греки принуждены были пользоваться дорогой чрез плоскогорие и, поднимаясь по Оксусу, пробираться возможно дальше узким горным проходом, перед тем как выдти в долину. Так Птоломей, собравший все документы, через географа Марина Тирского, добытые македонянином Маесом Тицианиуом, действительно говорит, что греки направлялись на север в страну Комед. Оттуда дорога шла у подошвы плоскогория через долину Оксуса, вероятно и через его приток Сург-аб, направляясь к «Каменной Башне», главному пункту пересечения дороги и остановок после столь продолжительного пути. Где находилась эта башня? Относительно этого вопроса можно делать только предположения, так как остановки купцов могли происходить безразлично в одной из тех бесчисленных впадин, в которых пересекаются несколько дорог и где для вьючных животных находят вдоволь травы и воды. Наконец, пастухи разве не могли, в разные времена, обозначать различные места «Каменными башнями», которые служили им сигналами, межевыми знаками, могильными памятниками? Один из этих многочисленных Таш-Курган’ов или «Каменных груд», расположенный на подъеме в 10.800 футов, у одного из верхних притоков реки Ярканд, у восточной подошвы Памира, стал даже чем-то в роде деревни и главным городом малолюдного Сириколя. Раулинсон предполагает, что это может быть и есть «Каменная Башня» греческих и римских купцов, ходивших в «Страну шелка». Во всяком случае невероятно, что для того, чтобы отправиться из долины Сургаб в долину Тарима,—древний Эхардес,—караваны шли тропинкой, хотя и более удобной, но которая вела их далеко на юго-восток. Кроме того Таш-Курган и Сириколь, по Гордону, происхождения сравнительно новейшего. До путешествии Федченко, Северцова и других русских исследователей, положивших в области плоскогорий пределы того пространства, на котором должна была находиться знаменитая «Каменная Башня», ученые искали ее по всей центральной Азии. Нет пункта, упоминаемого древними, который бы так часто не перемещали на карте с одного места на другое. Предполагали найти его на месте нового города Ташкента или «Каменного Замка», на севере от Яксарта; думали также, что он находился главным образом в Фергане, а Риттер, Гумбольдт и Лассен считали развалины, стоящие на холме «Соломонова Трона», что возле города Ош, за остатки Каменной Башни. Птолемей, сбитый с толку смутными и противоречивыми указаниями купцов, поместил Каменную Башню гораздо далее к северу: по указываемой им широте ее нужно бы было искать в самой Сибири, по ту сторону Тянь-Шаня.
Другим купцам, приходившим с востока, дороги были известны более чем за двести лет до той эпохи, когда римляне проходили через Памир. Китайцы знали о существовании народов, живших на берегах Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи, а их частые сношения с ними происходили через перевалы Цунг-Линга, или Памира русских географов. Вслед за экспедицией Чанг-Киена, снаряженной около 128 года до Р. X., торговля стала развиваться очень быстро, и вскоре китайские караваны, из которых иные состояли из нескольких сот человек, отправлялись прямо от берегов Тарима к берегам Сыр-Дарьи в страну Таван; нередко отправлялось до десяти и двенадцати караванов в год и, благодаря этим путешествиям, как полагают, введены в Китае лозы и семена винограда, ореха, гранатового дерева, бобов, огурцов, петрушки, люцерны, шафрана, кунжута. Отправляясь долиной Тарима, китайские купцы должны были искать переход через горы, конечно, в тех местах, где они менее широки: они огибали на северо-восток всю массу Памира и Алайских гор, идя через Терек-даван: но известно также из летописей того времени, что они пересекали Памир на-прямик, через южные перевалы, чтобы соединить этой дорогой земли Оксуса и Кипина или Кабулистана.
Междоусобные войны и большие переселения народов остановили торговое движение, установившееся непосредственно между восточной и западной Азией: но миссионеры и богомольцы-буддисты снова проторили дорогу в Памир. Гиуен-Цанг, знаменитейший из этих богомольцев, рассказывает о своем шестнадцатилетнем путешествии, совершенном им по Центральной Азии, в первой половине VI века, и в его путевых заметках можно отыскать довольно много сходных имен на пути в южный Памир, через Бадакшан, Иахан и страну Сириколь. Это почти тот самый путь, по которому следовал Марко Поло, сопровождавший своего дядю и своего отца во время знаменитого путешествия 1272-1275 г.; однако, кажется, что он держал путь несколько севернее и что с места перехода через верхний Оксус он прямо пересек «плоскогорие Памир» по направлению с северо-запада на северо-восток и должен был «объезжать верхом двенадцать дней» эту местность, не встретив за всю дорогу ни жилищ, ни растительности, при чем каждый нес с собою то, что ему было нужно. В 1603 г. католическому миссионеру Гоесу пришлось также проходить через южную часть Памира, вероятно той же дорогой, что и Гиуен-Цангу. После того протекло более двух столетий прежде, чем европейский путешественник снова проник в южный Памир. В 1838 г. англичанин Вуд поднялся по одному из разветвлений верхнего Оксуса до самого Сары-Куля или Куль-Кальяна: вслед за этим начался ряд новых научных исследований. В 1868 году Гайвард посетил юго-восточную часть плоскогорий; индусы, посланные английским топографическим бюро, также прошли как через большой, так и малый Памир: в 1871 г. грек Потагос тоже отправился через южную сторону плоскогорий из Бадакшана в Кашгар. В 1875 г. Форсайт, Гордон, Троттер спустились по плоскогорию до Бадакшана и посетили Шигнан и Рошан, вместе с топографом из Индии, принадлежавшим к их экспедиции.
Что касается до северного Памира, то его перестали посещать со времен китайского владычества. Арабы, владевшие долиной Сыр-Дарьи, имели интерес отправлять все торговые экспедиции дорогами сравнительно легкими, огибающими с северной стороны массивы Тянь-Шаня; по этим же дорогам ходили и европейские послы, отправлявшиеся ко двору монгольских властелинов. Дело географических исследований в северном Памире было начато лишь благодаря индусу Абдул-Меджиду, который в 1861 году первый прошел через Памир с юга на север, и затем русским исследователям: Федченко, Костенко, Мушкетову, Северцову, Оханину и проч. В настоящее время более 4/5 всей поверхности Памира более или менее известны: промежуток, отделяющий столь важную маршрутную линию г. Северцова 1878 года от пути, пройденного английской экспедицией в 1873 году, равен не более 45—50 верстам. В общих чертах и с приблизительной точностью Памир нанесен уже на карты; до двадцати важных пунктов определены астрономически Бонсдорфом, Шварцем, Скази; высота 2.000 местностей измерена барометром или другими инструментами: ни одна из неизследованных чрезполосных земель не отстоит своей центральной частью более чем на 55 верст от границ областей, уже известных, и можно быть уверенным, что ни одна из горных масс, ни одна сколько-нибудь значительная выпуклость поверхности не избегла взора путешественника.
Памир вполне ограничен, как со стороны севера, так и юга горными хребтами, высотой в 6.500—9.850 футов, несмотря на то, что само плоскогорие возвышается на 13.000 фут над поверхностью Туркестанской равнины. С юга, цепь Гиндукуш, продолженная горами, примыкающими к Куэн-Луню, составляет разделительный вал, по другую сторону которого развертывается бассейн Инда. С севера За-Алай и Алай, составляющие географически часть Тянь-Шаня, отделяют Памир от склонов, спускающихся к Сыр-Дарье. Однако плоскогорие, окаймленное двумя рядами гор, имеющих направление зап.-юго-западное и вост.-сев.-восточное, далеко не представляет на всем своем пространстве одинаковую поверхность. Напротив, Памир разделен на множество, так сказать, отдельных «Памиров» посредством ряда высот и даже настоящих гор, глубоких оврагов, по которым воды стекают на запад в р. Аму, на восток—в Тарим, не имея при этом явной водораздельной цепи. Рельеф плоских возвышенностей, исключая горных уступов, представляет колебания не свыше 3.500 футов, вследствие чего климат, ландшафты и незначительная флора плоскогория почти везде одинаковы. Кроме того выпуклости не настолько обрывисты, чтобы затруднять собою киргизских пастухов или путешественника. «По всему Памиру есть тропинки; тысячи дорог перекрещиваются: с проводником можно без затруднений ходить по всем направлениям». Во всей северной части Памира, расположенной на юг от величественной пограничной цепи За-Алай, нет таких высот, которые поднимались бы выше чем на 1.000—1.650 футов относительной высоты и составляли бы затруднение при переходе через них; всюду пространство это покрыто затверделой глиной и недвижущимися песками. Между Ранг-кулем и Яшил-кулем, в местности, посещенной недавно Северцовым, а также и в центральном Памире, путь настолько удобен, что походит скорей на шоссейную дорогу. В одном месте западного Памира генерал Абрамов перешел без больших хлопот, вместе с артиллерийской батареей, хребет Алай, высоты Кара-Казык или «Черный Кол»,находящийся на одной высоте с вершиной горы Роза. Недоступный в прежнее время для армий, по трудности добывания провианта, Памир не может уже более останавливать военные силы, снабженные хорошим обозом. Но черезз него можно проходить только во время четырех месяцев в году, от июня до сентября; в продолжение 2/3 года, земля покрыта снегом, а ветры слишком суровы, чтобы при них выдержать действие холода.
Горные породы Алая, покрытые на поверхности песком и глиной, состоят из гранита и кристаллических сланцев. Массы гранита, которые образовали бы остов гор, если бы плоскогорие было размыто реками, вытянуты как раз в том же направлении, как и главные цепи Тянь-Шаня; в том же направлении выдвинуты в самую равнину западного Туркестана и оконечности горных хребтов, но зато между гранитом места заполнены формациями, более поздними и даже триасовыми. Главный склон Памира обращен к западу и юго-западу; его предельная линия, которая очень извилиста и почти сглажена, находится гораздо ближе к восточной равнине, нежели к низменности Арало-Каспийского склона. На восточной стороне плоскогория поднимается самая значительнейшая вершина—горная Тагарма или Тигальма, называемая, благодаря, конечно, скале, также еще Уй-Таг или Гора-Дом, и Муз-Таг-Ата или «Отец Ледяных гор», так как её снега, покрывающие вершину и ледники, спускаются в окрестные ущелья. Тагарма поднимается, вероятно, не менее как 10.000 фут выше Монблана и тянется далеко на юго-восток контрфорсами Чичиклик, сохраняя высоту 20.000 футов. По Троттеру и Костенко высота Тагармы 25.500 футов, а по Гайварду—21.000. Можно вообще сказать, что восточная окраина Памира, в которой г. Северцов видел не более одного ряда возвышенностей, выдающихся в форме отдельных мысов и поднимающихся то там, то сям, напоминает горный хребет лишь в зачаточном виде и продолжается в направлении от азиатских плоскогорий к центральному горному узлу, параллельными рядами, к Гималайским горам. Тагарма и различные горные массы, направляющиеся наискось к Тянь-Шаню, часто описывались в кашгарском Туркестане под турецким названием Кизыл-Арта или «Красного Перевала»: это Цунг-Линг или «Луковичные горы» китайских авторов.
Плохо защищенный со стороны окраины, с её брешами, Памир часто бывает посещаем ветрами, которые, спускаясь с юго-запада в арало-каспийские равнины, дуют с страшной силой, поднимая вихри снега или пыли. В это время рогатый скот сбивается в кучу, стараясь плотнее прижаться друг к другу, чтобы противиться порывам ветра; отделившееся животное гибнет. У самого Кара-Куля и в песчаных ущельях Кизыл-Арта, камни носят на себе следы штрихов, которые чертит на них песок, постоянно проносящийся над ними с северным ветром. В этих местах воздух вообще очень сух и особенно прозрачен, исключая, конечно, тех случаев, когда целые тучи пыли наносятся ветром из пустыни. Случается, что термометр в тени показывает всего 10° С, тогда как на солнце ртуть поднимается до 70°; путешественник, который держал в руках градусник, принужден был предохранять руки от обжога. Холод и вьюги, случающиеся по Гордону особенно часто в феврале и марте, не составляют исключительного препятствия для путешественника; разница в температуре, зависящая от прозрачности воздуха, есть одна из опасностей, с которыми приходится бороться путешественнику. Часто также путники страдают от «горной болезни», и Гордон говорит об одном из своих сотоварищей, который мог служить «горным барометром» по жестоким головным болям, появлявшимся у него каждый раз, как поднимались на высоту свыше 11.800.
Тем не менее Памир бывает временно обитаем. Киргизы с севера из Кокана и Каратегина или с запада из Шигнана бродят по этим степям в летнее время, сопровождая свои стада; путешественники встречали там и сям груды камней, как остатки древних лагерей и гробницы киргизских святых, украшенные бараньими рогами и кусками развевающейся материи. Повыше границы деревьев, между которыми видны низкорослая береза, можжевельник с толстым и стелющимся стволом и колючий кустарник, нет иного материала для топки, кроме деревянистых корней одного вида лаванды; а еще выше не попадаются уже и эти корни, и пастухам приходится носить с собою топливо. Но во многих областях Памира трава на пастбищах, несмотря на высоту 13.200 ф., так же густа, как на лугах западной Европы, а может быть и более сочна: «это лучшие пастбища в свете, так как тощие лошаденки жиреют на них в десять дней», говорит Марко Поло, и это подтверждают новейшие исследователи и проводники из Ухана. В горной долине Сариколь, на склоне Кашгара, некоторые растения, как напр., рожь и бобы, созревают на высоте 10.150 фут. Но тем не менее параллельные склоны, разделенные между собою низменностями, особенно в северном Памире, по большей части почти всюду совершенно лишены зелени, и трава ростет только во влажных впадинах, на берегу ручейков и озер.
Но фауна гораздо богаче, нежели еще недавно предполагали. Экспедиция Северцева в 1878 г. нашла в Памире 112 видов разных птиц, тогда как в европейских Альпах, на той же высоте, насчитывают их не более дюжины. На болотах, окаймляющих озера, видели следы, оставленные сернами, зайцами, оленями, лисицами, медведями, волками, рысями и леопардами. В Большом Памире встречали каменных баранов, подобных тем, которые водятся в Гималаях. Наиболее характерное животное плоскогория—это овца, называемая качкар или архар, ovis Poli или Pallii натуралистов, и достигает 11/2, аршина вышины и весу 10-11 пудов; качкар отличается своими громадными опущенными рогами, свернутыми в спираль. Прежде это животное было очень обыкновенно на плоскогорьях, так как всюду во множестве находят его рога вместе с черепом, но в настоящее время можно иногда в продолжение нескольких дней не встретить ни одного качкара. Кажется, этот вид овцы вымирает; эпизотия 1869 года почти совершенно истребила расу ovis Poli во всем северном Памире; но Северцов находил их еще там в 1877 году. Медведя также не встречают в этой части плоскогория. Греческий путешественник Патагос видел обезьян мелкой породы в южных горных долинах. Вероятно, тигр не попадается более в Памире, и путешественники смешивали его с леопардом.
На плоскогории, не менее чем на Арало-Каспийском склоне, следы высыхания почвы очевидны, хотя впадины плоскогория Памир вообще не особенно глубоки и сравнительно небольшого дождя достаточно, чтобы вода стала выливаться из них через край, и тем не менее множество озер уже не могут питать свои реки и, оставаясь отныне изолированными в своих узких бассейнах, мало-по-малу, обращаются в резервуары солоноватой или даже соленой воды, как тому может служить примером Сусык-Куль, в полосе южного Памира. Масса соли залегает в центральном Памире, в долине, соседней с Ранг-Кулем или «Козьим озером»,—резервуаром, вода которого еще пресна, благодаря реке, протекающей здесь и вливающейся в один из притоков Оксуса. Во многих местах слои выпарившейся соли, или магнезии, покрывают, точно снег, пространства, когда-то покрытые водою.
Самое большое озеро Памира Кара-Куль или «Черное озеро», названное так по цвету темно-синей воды, в настоящее время, кажется, находится в периоде высыхания. Расположенный немного южнее За-Алая и «Краснаго» перевала или Кизыл-Арта, в Памир-Каргоши или в «Заячьем Памире», Кара-Куль окружен со всех сторон снежными горами, с которых спускаются несколько ледников; его громадная впадина не заполняется, как прежде, водою, и высоты уже не вдвигаются массами в западную часть озера. Глинистая равнина, окружающая его с рассеянными на ней кустарниками и лужами, тянется далеко на несколько верст шириною, до самых подножий гор. Очевидно, что Кара-Куль, занимающий в настоящее время поверхность не менее, чем на 220 кв. верст, был прежде гораздо обширнее и составлял с небольшими окрестными озерами один сплошной бассейн. Повсюду вокруг него видны крутые или отлогие разрыхленные берега, покрытые выпарившейся магнезией, блистающей на солнце ослепительной белизной и конечно в местах, не покрытых завалами песку. Места, поросшие травою, в которых ютятся дикие гуси, утки и чайки, идут широкой полосой по берегу, а полуострова и многочисленные острова также служат местом их кратковременного пребывания. Главный холм, поднимающийся среди озера, делит его на две половины, северную и южную, примыкая к берегу песчаной косой. Воды, приносимой реками, недостаточно, чтобы заместить убыль от испарения в Черном озере. Дожди здесь очень редки, и почти всегда влага приносится сюда в летнее время тучами, в виде крупного града, а зимою в виде снега. По Костенко, на всех картах Кара-Куль представляется изливающимся то в Оксус, то в р. Кашгар, то наконец в оба эти бассейна разом: это обстоятельство дало повод китайцам сравнить его с двуглавым чудовищем, и назвать его озеро-Дракон. Если и существовал когда-либо сток, достаточно полноводный, чтобы нести воды Кара-Куля в р. Кашгар посредством р. Маркан-су, то его давно уже не стало; что касается до южного стока, соединявшего озеро с Оксусом, то он, вероятно, не вполне еще высох: во время проливных дождей он доставляет еще немного воды через ту брешь, по которой течет Чон-су (Большая река) или Ак-Байтал. Кара-Куль, почти не имеющий стока, мало-по-малу сконцентрировал соли, содержащиеся в его водах: магнезия сообщила последним дотого горький вкус, что животные пьют их только при сильной жажде, но эти воды остаются всегда прозрачными, даже тогда, когда ветры волнуют их до самого дна, и в бассейне несомненно водится рыба, так как летающие над ним соколы и другия хищные птицы от времени до времени быстро спускаются к поверхности озера. По рассказам пастухов, уровень Кара-Куль повышается регулярно каждую пятницу: это странное явление, которому г. Костенко склонен придавать некоторую веру, можно объяснить только действием какого-нибудь сильного перемежающагося источника. Г. Коростовцев тоже говорит о периодичности прибыли воды в «Черном озере», но без указания продолжительности колебаний уровня.
Различные высоты Памира суть: Проход Кизыл-арт, по Коростовцеву—4.272 метр.; Кара-куль, по Костенко—4.020 м.; проход Уз-бель (к югу от Кара-Куля), по Коростовцеву—4.631 метр.; нижняя граница постоянных снегов, по Коростовцеву—4.650 метр.
На севере Памира два параллельные хребта, Алайский и За-Алайский, поднятые—первый диоритами, второй гранитами, ограничивают плоскогорье в виде двойного вала. Тот и другой принадлежат к системе Тянь-Шаня, и геологическое их строение, по словам г. Мушкетова, точно такое же; но будучи явственно отделены от восточного массива Небесных гор проходами Ког-арт и Терек-даван, из которых последний служит главным перевалом для караванов, ходящих между Ферганой и Кашгарией, они могут быть рассматриваемы как независимое целое. Западный отрывок Тянь-Шаня, который на западе врезывается своими отрогами в равнины Туркестана, между бассейнами Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи, тянется на 700 слишком километр, в длину; так же, как Тянь-Шань в собственном смысле, этот отрывок состоит из различных хребтов, направляющихся—одни от востока-северо-востока к западу-юго-западу, другие от юго-востока к северо-западу, и пересекающихся между собою, на известных расстояниях; но главным направлением остается первое, то-есть направление Алайских и За-Алайских гор.
На северо-восточном углу плоскогорья Памира, два гребня представляют замечательную правильность. Алай или Кичи-Алай, составляющий в то же время водораздельный хребет между бассейном Сыра и бассейнами Аму и Тарима, явственно ограничивает Ферганскую долину своими горами, от 4.000 до 5.000 и даже до 5.500 метр. средней высоты, отделенными одна от другой проходами, неглубоко врезывающимися в массу плоскогорья; один из наименее высоких между проходами, открывающимися на западе от Терек-давана, есть перевал Исфайрам (3.600 метр.), находящийся на одном из «переломов» Алая, то-есть в том месте, где цепь круто переменяет направление, поворачивая почти без изгиба к западу. С этого широкого порога, покрытого пастбищами и легко доступного, видны на обширном пространстве только мурава, скалы да снега: ослепительный гребень За-Алайского хребта закрывает вид Памира. С соседнего пригорка можно созерцать колосса За-Алайских гор, белоснежную пирамиду, которой покойный Федченко дал название «Пик Кауфман»; это, вероятно, самая высокая гора всей системы Тянь-Шаня. Другая группа, состоящая из трех равных вершин, почти такой же высоты, как и Гора Кауфман, поднимается над гребнем немного восточнее: это «Гурумди» киргизов. Ни одного дерева не видно на склонах: только изредка, там и сям, встречаются кусты можжевельника; туземцы не знают другого топлива, кроме кизяка, то-есть коровьего кала.
Пространство, заключающееся между Алайским и За-Алайским хребтами, рассматривают как особенное плоскогорье, образующее как бы внешнюю террасу Памира, одну из ступеней, по которым нужно спускаться с этой «Кровли мира» в долину Ферганы. Это не что иное, как высохшее озеро, ширина которого, на самом возвышенном месте, не менее 40 километр., и которое тянется в форме широкой аллеи по направлению от северо-востока к юго-западу. Высшая часть этого промежуточного пространства, известная у киргизов под именем Баш-Алай или «Головы Алая», представляет настоящее плато, тип стольких других возвышенных равнин, заключенных между горными цепями центральной Азии: с западной стороны глинистое пространство, там и сям содержащее в почве примесь соли, но представляющее местами богатые пастбища, съуживается и в то же время углубляется, врезывается в толщу горной массы, изменяясь сначала в долину, затем в простое ущелье, где остается место лишь для прохода вод ручья. Эта нагорная степь—земной «рай» киргизов (таков буквальный смысл слова Алай), но рай, который они могут посещать только в продолжение трех или четырех месяцев в году.
На этом-то едва приметном пороге плоскогорья Баш-Алай, в поперечном направлении к гребням двух горных цепей, и находится линия водораздела: с одной стороны тающие снега стекают к реке Кашгар, с другой—к одному притоку Оксуса. Два потока, берущие начало на Алайском плоскогорье, получили оба одно и то же имя, Кизыл-су (Красная вода), по причине красного цвета их высоких берегов и ложа; большая часть ручьев, спускающихся с гор к этим главным рекам, тоже имеют красноватый оттенок, зависящий, без сомнения, от глин, которые были отложены древними ледниками. Впрочем, ледяные реки и теперь еще висят над долиной «Красных Вод», спускаясь из снежных цирков За-Алайских гор. На северных склонах Алая горные потоки тоже катят во время разливов «кровавые воды», происходящие от глинистых слоев, образовавшихся вследствие размывания пластов триаса. В ручьях, текущих к западной «Красной воде», то-есть к Сург-аб, как ее называют таджики, Федченко открыл один вид форели, рыбу, которая не водится ни в одной реке равнин Туркестана. Быть может, эта рыба сходна с той, которую Гриффит нашел у Бамиана, на другом притоке Оксуса. Перемены климата прогнали эту породу рыб из вод равнины и заставили ее подняться к горным потокам.
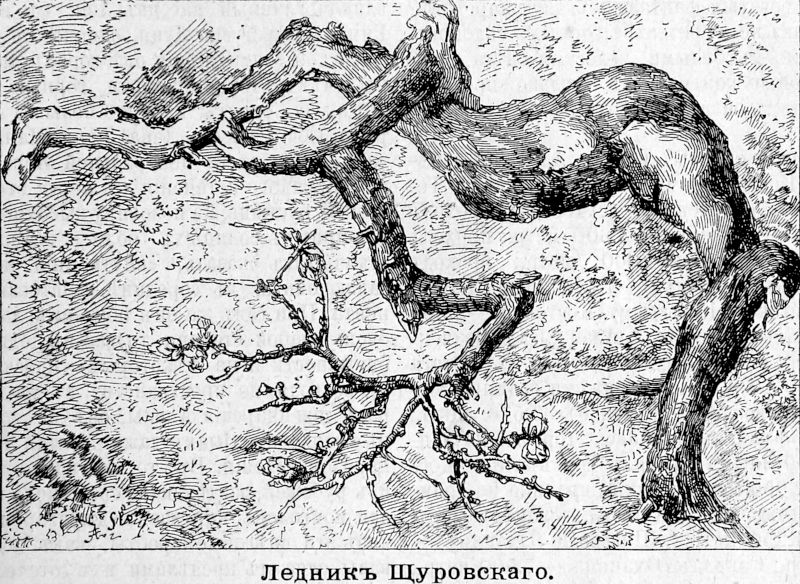
К западу от горного прохода Исфайрам и перевала Кара-казык, Алайский хребет, которому в этой области часто дают название Алайтага, поднимается постепенно, сопровождаемый на севере параллельными кряжами, через которые протекают горные ручьи Ферганы. Алай соединен посредством боковых отрогов с этими кряжами и составляет вместе с ними, к северу от истоков Зарявшана, массив высоких гор, превышающий на 2.000 метр. границу постоянных снегов и изливающий огромные ледники в окрестные нагорные долины. С высшего пика этого массива, самой высокой вершины Алая в собственном смысле, спускается на север глетчер, носящий имя «ледника Щуровскаго». С боков хребта Хотур-тау и с соседних гор льются многочисленные каскады, частию простые ручейки, рассыпающиеся в пыль на карнизах скал, частию прозрачные снопы воды, ниспадающие с сильным шумом на каменные утесы и образующие широкие потоки. Эти водопады составляют одно из наиболее поразительных зрелищ на Алае, ибо в горах центральной Азии каскады так же редки, как и на скатах Кавказа; вообще в отношении красоты вод алайские Альпы далеко уступают Альпам Европы. Леса, растущие на этих средне-азиатских горах, тоже далеко не имеют того величественного вида, каким отличаются леса европейские: они состоят преимущественно из арчи, особого вида можжевельника (juniperus pseudosabina), который издали похож на кипарис, но у которого ствол более кривой и ветви немного более раскинуты. Леса арчи начинаются на высоте около 1.500 метр., граница же последних дерев находится выше 3.000 метр.
Хребет Караче-тау, составляющий западное продолжение главной цепи Алая, сохраняет почти до самого Ташкента, к которому он подходит с южной стороны, высоту более 4.000 метр.; затем он довольно быстро понижается по направлению к Самарканду. Но от этого хребта отделяется под острым углом другой кряж, направляющийся на северо-запад. Эти горы, прерываемые широкими брешами, имеют особое название для каждого из своих отрывков, как-то: Ура-тепе, Джулан, или Саусар-тау, Кара-тау, Нура-тау; с южной стороны их сопровождают еще другие горы в виде стен.
Параллельные хребты, идущие между Алаем и западным Памиром, вообще говоря, выше внешней цепи, и при том они стоят на гораздо более высоком пьедестале. Но горные потоки делят их на многочисленные отрывки; они не только не сливаются с линией водораздела, но даже перерезаны через известные промежутки поперечными долинами, где проходят реки, спускающиеся с полуденной покатости Алая и с противолежащих гор. Так, За-Алайский хребет отделен, на западе, от гор Каратегин глубокой брешью, на пороге которой, в проходе Терс-агар, один и тот же источник с двумя водопадами течет на север к р. Туз-алтын-дара, притоку р. Сург-аб, и на юг к р. Мук-су. Далее на западе и сам Сург-аб отрезывает кусок от гор Каратегин, чтобы соединиться с более многоводной рекой Мук-су, которая берет начало в одной из самых диких местностей Средней Азии. С перевала Терс-агар, откуда видишь у себя под ногами лежащую на тысячу метров ниже верхнюю долину р. Мук-су, взор обнимает обширный амфитеатр гор, которые на северо-востоке примыкают к За-Алайскому хребту. Горы Шельвели и Сандал господствуют своими гребнями над фирновыми полями цирков и над ледниками ущелий; со склонов их боковых отрогов отделяются снежные лавины, которые заваливают течение ручьев и превращают их во временные озера. Река Мук-су образуется из соединения трех маленьких речек: одна из этих речек, которая спускается по долине Балянд-киик, открывающейся на восток, по направлению к озеру Кара-Куль, прикрыта, при выходе, из своего ущелья, боковым ледником, около 2 километров шириною, оканчивающимся кристаллическими стенами, имеющими 60 метр. высоты. Другой глетчер, наполняющий долину Сель-су, еще гораздо значительнее: простираясь в длину по меньшей мере на 15 километров (киргизы же приписывают ему слишком в два раза большее протяжение), он составляет одну из главных ледяных рек центральной Азии; Оханин, первый русский, имевший счастие исследовать эту грандиозную область, дал этому леднику имя путешественника Федченко, который до него так много сделал, чтобы пролить свет на неведомый мир Алая и Памира. От этого величественного массива, быть может равного массивам пика Кауфман и Тагармы, отделяются две цепи—одна, известная под названием гор Дарваз, направляется на юго-запад к большому изгибу Аму-Дарьи, другая, получившая наименование хребта Петра Великого, господствует на юге над долиной реки Сург-аб.
К западу от горного узла Алай-таг, где все параллельные цепи соединяются в одно снеговое плоскогорье, с которого спускаются ледники в окружающие цирки, два параллельные хребта Зарявшанских и Гиссарских гор тоже перерезаны брешами, через которые проходят реки; но уже цепи расходятся в форме опахала; они постепенно понижаются и наконец пропадают в равнине, снова появляясь то тут, то там в виде скал, выступающих на подобие островов среди низменности. Между Самаркандом и Гиссаром некоторые из горных вершин поднимаются еще за предел постоянных снегов, и хотя менее высокие, чем пик Кауфман в За-Алайских горах, они, быть может, кажутся более величественными, благодаря их большей относительной высоте над уровнем соседних равнин и низких боковых отрогов или предгорий. На юго-восток от Самарканда, пик Газрети-Султан, увенчанный блестящей диадемой из льдов, представляется обитателям равнины настоящим царем гор, на что указывает носимое им громкое прозвище. Не видим ли мы как-бы отблеск этих сверкающих снегов в описании алмазных и рубиновых гор, которое нам оставили богатые фантазией сказки народов? И что, как не амфитеатр горных склонов, испещренных белыми полосами снега, придает своим контрастом столько прелести зеленеющим оазисам верхнего Аму и Зарявшана?
Различные высоты системы Алая (по измерениям Костенко, Федченко, Оханина): Терек-даван (Костенко)—3.140 метр.; проход Исфайрам (Федченко)—3.600 метр.; проход Кавук (Федченко)—4.000 метр.; проход Кара-казык (Костенко)—4.389 метр.; Баш-Алай, у истоков Кизыл-су (Костенко)—3.500 метр.; главная вершина Алай-тага (Федченко)—5.800 метр.; средняя высота Алай-тага (Костенко)—4.800 метр.; нижняя граница ледника Щуровского (Федченко)—3.570 метр.; пик Кауфман (За-Алайск. горы) (Федченко)—7.500 метр.; перевал Терс-агар (Костенко)—2.956 метр.; нижняя граница постоянных снегов, на За-Алайских горах (Федченко)—4.250 метр.; Шельвели (Оханин)—7.500 метр.; Сандал (Оханин)—7.500 метр.; Чабдара (Гиссарские горы) (Федченко)—5.580 метр.; Газрети-Султан (Гиссарск. горы) (Федченко)—4.500 метр.