Глава II Китайская империя
I. Тибет
Вне так называемого «Срединного царства», Китайская империя заключает обширные территории, занимающие в совокупности более значительное пространство, чем Китай в собственном смысле: сюда принадлежат Тибет, бассейн реки Тарима, бассейн озера Куку-нор, возвышенные долины, наклоненные к озеру Балкаш, Чжунгария, Монголия, Маньчжурия, остров Хай-нань. Она присвоивала к себе, как вассальные, платящие дань, земли: полуостров Корею и даже, на полуденном скате Гималайских гор, Нипал и Бутан, две страны, принадлежащие к Индостану, по крайней мере с географической точки зрения, но ныне эти земли отчасти самостоятельны, отчасти принадлежат другим соседям. Впрочем, каждая из земель, признающих над собой верховную власть китайского императора, резко отличается от других рельефом и природой почвы, учреждениями и нравами своих жителей. Из всех этих стран Тибет всего лучше успевал, в последние времена, охранять себя от внешних влияний: то, чем был прежде Китай, Тибет остается еще и до сих пор, государством совершенно замкнутым, почти неприступным: в этом отношении можно сказать, что он является единственным представителем традиции, уже утраченной почти всеми другими царствами восточной Азии.
Наименование Тибет применяется не только к юго-западной части Китайской империи, но также к большей половине Кашмира, населенной жителями тибетского происхождения. Эти области «Малого Тибета» и «Абрикосового Тибета», получившего такое название от фруктовых садов, окружающих селения, состоят из глубоких долин, открывающихся на подобие рвов между снежными горами Гималая и Каракорума; расположенные на покатости, обращенной к Индостану, эти страны были постепенно включены в исторический круг индусского полуострова, тогда как Тибет в собственном смысле, Тибет восточный, то-есть провинции Уй, Цзан и Кам, пошел совершенно другой дорогой и испытал другие судьбы: это тот, который известен под именем «Большого Тибета»: но смешение номенклатур так велико, что другой «Большой Тибет», иначе называемый страна Ладак, составляет часть Кашмирского царства. Впрочем, это имя Тибет, которое европейцы употребляют для обозначения двух стран весьма различных по характеру природы и политическим учреждениям, неизвестно самим жителям, и ученые обыкновенно стараются объяснить его этимологиями иностранного происхождения, производя его от монгольского слова Тубот. Герман Шлагинтвейт видит в этом наименовании странное составное слово тибетского языка, означающее «силу» или империю по преимуществу; такое же объяснение дают миссионеры семнадцатого столетия, обозначая эту страну итальянским термином potente, то-есть «Могущественный». Как бы то ни было, туземцы ныне называют свое плоскогорье одним только именем, Бод-Юл, что значит «земля народа Бод», и которое, вероятно, есть синоним Бутана, индусского наименования, употребляемого европейцами для обозначения одного только государства на южной покатости Гималайских гор. Китайцы обозначают Тибет под названиями Си-цзан, то-есть «западный Цзан», по имени его главной провинции, или Уй-цзан—слово, которое применяется к двум провинциям Уй и Цзан, составляющим вместе Тибет по преимуществу; народ же, населяющий эту страну, они называют Ту-фань, то-есть «фанами аборигентами» в противоположность си-фаням или «западным фанам», жителям Сы-чуани. Что касается монголов, которым, впрочем, подражали и русские прошлого столетия, то они часто называли Тибет «землей тангутов», по имени племен, населяющих северную часть страны; но обыкновенно они обозначали Тибет именем «земли Барун-Тола» или «Западная страна», в противоположность Дзегун-Толе или «земле Левой стороны», называемой ныне Чжунгарией.
Тибет образует почти ровно половину обширного полукруга гор, который развертывается, с радиусом в 800 километров, на западе густо населенного Китая, от первых монгольских предгорий Тянь-шаня до проломов восточного Гималая, через которые реки Цзанбо, Салуэн, Меконг уходят к Индийскому океану. Высокая краевая цепь Куэнь-луня делит этот полукруг на две части, резко отличающиеся одна от другой: на севере открывается замкнутый бассейн Тарима и многих других рек, теряющихся в песках; на юге поднимается высокое Тибетское плоскогорье. Таким образом здесь рядом с одной из самых глубоких впадин внутренности континентов возвышается самая массивная выпуклость земной поверхности.
В своей совокупности Тибет, если не обращать внимания на неправильности контуров, зависящие от политических границ, есть одна из наилучше ограниченных естественных областей Старого Света. Опираясь на северо-западе на разрезанные горные массы, изборожденные долинами Ладака и Кашмира, Тибет постепенно расширяется на юго-востоке и востоке между главными хребтами азиатского континента, Куэнь-лунем и Гималаем. Так же, как Памир, две большие горные цепи, господствующие на севере и на юге над треугольной массой Тибета, почитаются народами, живущими у их основания, как «крыши мира», как «ступеньки на небо», как «местопребывание богов». Они рисуются воображению в виде границы другой земли, которая увенчана ярко-блистающей на солнце диадемой снегов и кажется издали какой-то волшебной страной, но которую немногие путешественники, предпринимавшие восхождение на эти громады гор, описывают как страну сурового холода, снежных буранов и голода. Поддерживаемое как исполинская терраса на высоте четырех и пяти тысяч метров над поверхностью окружающих равнин, Тибетское плоскогорье занято на большей половине своего протяжения замкнутыми бассейнами, где расстилаются несколько водных площадей—озер и болот, вероятно, остатки внутренних морей, излишек вод которых вылился через проломы краевых горных цепей. Только на расстоянии 1.200 километров от горных масс, господствующих над ними на западе, возвышенные земли Тибета ограничены с восточной стороны иззубренной закраиной, направляющейся от юго-запада на северо-восток. На западе от этих гор Тибетская плоская возвышенность наклоняется к востоку и к юго-востоку, распадаясь на многочисленные цепи, отделенные одна от другой речными долинами. А между тем с этой стороны плоскогорье еще менее доступно, нежели на остальной части его окружности: дикия горные ущелья, обширные непроходимые леса, недостаток населения и, следовательно, съестных припасов и всяких рессурсов, останавливают путешественников на этих восточных границах Тибета; в последнее время ко всем этим препятствиям прибавилось еще недоброжелательство китайских властей, всячески затрудняющих проход иностранцам. Если, в течение настоящего столетия, тибетскому правительству удавалось лучше, чем всем другим азиатским государствам, поддерживать политическую уединенность, замкнутость своего народа, то оно обязано этим главным образом рельефу и природе почвы. Тибет высится словно неприступная твердыня в центре Азии: защитники его могли гораздо легче воспретить вход в их крепость, чем защитники Индии, Китая и Японии.
Большая часть Тибета до сих пор остается неизследованной, или по крайней мере, пути, пройденные католическими миссионерами, которые посещали эту страну, когда вход в нее еще не был запрещен, не могут быть начертаны с полной достоверностью. Известно, что в первой половине четырнадцатого столетия, один монах из Фриауля, Одорико ди-Порденоне, отправился из Китая в Тибет и жил некоторое время в главном его городе Лассе. Три века спустя, в 1625 и 1626 годах, португальский миссионер Андрада два раза проникал в Тибет, где буддийские бонзы оказывали ему радушный прием. В 1661 году другие иезуитские патеры, Грюбер и д’Орвиль, совершили путешествие из Китая в Индостан, проехав через Лассу. В следующем столетии тосканец Дезидери и португалец Маноэль Фрейре, а также и другие европейские путешественники посетили столицу Тибета, куда они ездили из Индии. Но уже ранее капуцины основали в Лассе католическую миссию под управлением настоятеля Орацио делла-Пенна, который провел в этом крае не менее двадцати-двух лет. В ту эпоху тибетское правительство позволяло иностранцам беспрепятственно проникать в его владения через горные проходы Гималая, столь ревниво оберегаемые в наши дни. Один светский исследователь также прожил несколько лет в Лассе и отправился оттуда в Китай, через озеро Куку-нор, после чего опять вернулся в Индостан, тем же путем, через Лассу. Этот путешественник был голландец ван-дер-Путте, которого знали за человека образованного и необыкновенно наблюдательного; к сожалению, он сам уничтожил свои путевые записки и карты, опасаясь, чтобы его бумаги, неприведенные в порядок и неверно понятые, не сделались источником распространения ошибок. От него остались только кое-какие заметки и одна рукописная карта, сохраняемые, как драгоценность, в миддельбургском музее, в Зеландии.
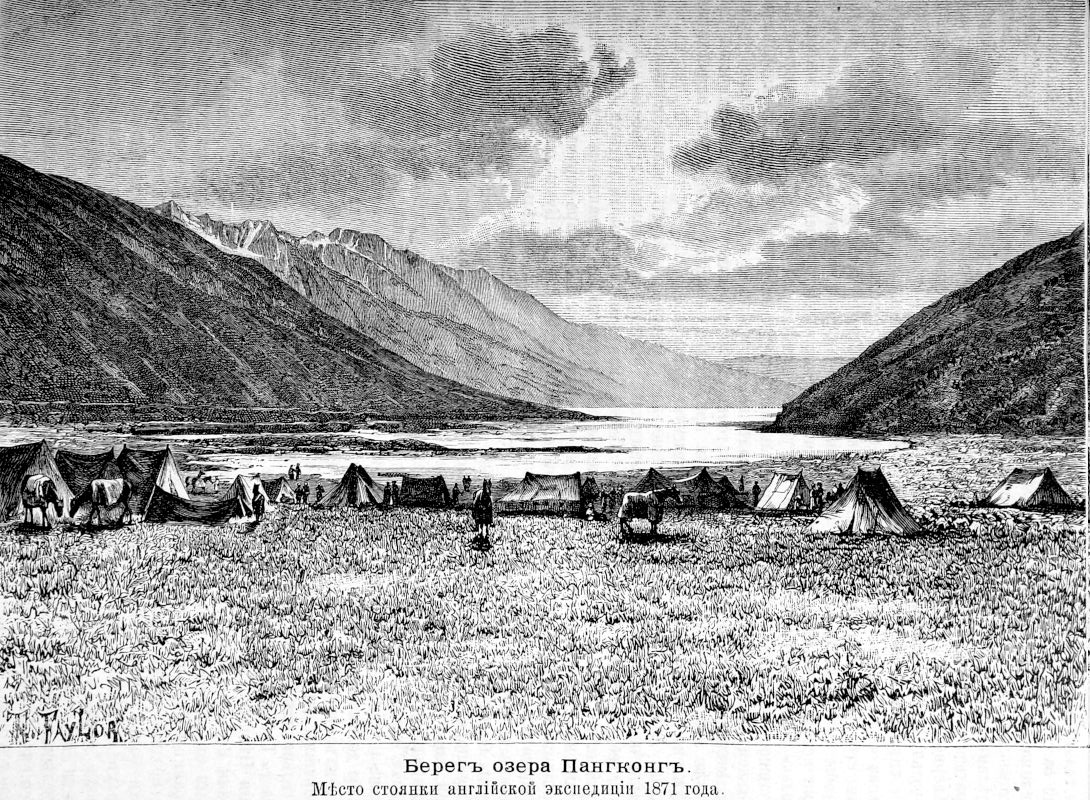
Пройденные исследователями пути, точно обозначенные на карте с помощью астрономических наблюдений или на основании съемок посредством компаса и хронометра, еще очень немногочисленны. Английские путешественники и ост-индские чиновники, командируемые правительством полуострова, посетили только юго-западную часть страны и верхний бассейн р. Цзанбо, на севере Нипала и Сикима. Юго-восточный Тибет был объехан французскими миссионерами; но все сделанные, в последнее время, попытки пробраться в Тибет с северо-восточной и с северной стороны имели неудачный исход. Братья Шлагинтвейты, которые, в подражание титулам Дибича «Забалканскаго» и Муравьева «Амурскаго», прибавили к своей фамилии странный эпитет «Закуэньлуньскаго», чтобы увековечить память о совершенном ими переходе через тибетские горы, видели только западную оконечность страны. Русский путешественник, полковник Пржевальский, должен был дважды вернуться назад, не успев проникнуть во внутренность края; точно также и венгерец граф Бела Сеченьи принужден был возвратиться, не достигнув цели. Для всех областей, которые еще не были посещены английскими и ост-индскими геодезистами, нынешния карты Тибета суть не что иное, как перепечатки карты, составленной знаменитым д’Анвилем на основании съемок. произведенных, по приказанию императора Кан-си, двумя тибетскими ламами, воспитанниками иезуитских астрономов. Однако, и теперь уже приобретены твердые опорные точки для будущих исследований, благодаря геодезическим работам, предпринятым в последнее время на Гималайских горах. В 1877 году инженер Райель даже получил позволение проникнуть в верхнюю долину Сетледжа для визирования пиков с их северного основания, и все видимые вершины этой долины вошли в его сеть треугольников. В 1889—90 годах северную часть Тибетского нагорья исследовала экспедиция Певцова. В 1895 году страну изследовали Роборовский и герцог Орлеанский; первый с севера успел пробраться до южной границы Куку-нора, второй с юга до Ассама, а позднее англичанин Ландор достиг почти самых стен Лассы. В приблизительных границах, показанных на нынешних картах, которые, постоянно изменяются во всех их чертах позднейшими исследованиями, поверхность Тибета, со включением бассейна озера Куку-нор, исчисляется пока, впредь до более точных измерений, в 643.734 квадр. мили, так что, следовательно, она в три слишком раза превосходит пространство Франции; но если прибавим к этому несколько сопредельных независимых территорий, часто причисляемых к тибетскому государству, и все округи, населенные людьми племени бод, в Кашмире и в китайской Сы-чуани, то оказывается, что общая поверхность страны превосходит два миллиона квадр. километров. По Матусовскому площадь Тибета и области Куку-нора равна 34.819,57 геогр. квадр. миль, а без Куку-норского края составляет около 21.763,03 кв. геогр. мили.
Не считая гористой области западного Тибета, которая составляет часть владений кашмирского магараджи, Тибет или Бод-юл делится естественным образом на три области: северные озерные нагорья, южные возвышенные долины, где реки Сетледж и Цзанбо текут в противоположных направлениях, следуя та и другая вдоль северной покатости Гималайских гор, и юго-восточный Тибет, разрезанный текучими водами на расходящиеся бассейны.
Северная область, самая обширная, но, в то же время, и наименее населенная, состоит из совокупности замкнутых бассейнов, которая на юге ограничена восточным продолжением цепи Кара-корум, а на севере опирается о могучий Куэнь-лунь. Эта краевая цепь плоскогорья, раздельный барьер между Тибетом и бассейном Тарима, должна быть, с гораздо большим основанием, чем Гималаи, рассматриваема как составная часть срединного хребта Азии. Это—цепь, которая, на востоке от Памира, продолжает собою горный узел Гинду-куш, соединяющийся, в свою очередь, с орографической «перегородкой» Передней Азии. Она составляет восточную половину раздельного хребта континента, хребта, который тянется неправильной линией от запада к востоку, то следуя вдоль плоскогорий в форме краевых цепей, то изгибаясь в виде параллельных или слегка сходящихся кряжей, или, наконец, поднимаясь в виде отдельных горных масс и групп. Вероятно, что в своей совокупности Куэнь-лунь и горные цепи, которыми он продолжается на восток во внутренность Китая, не представляют более правильности, как центральная ось Азии, чем цепи западной «перегородки». Впрочем, орография Тибета и Китая еще слишком мало известна, чтобы можно было с достоверностию решить этот вопрос. Рассматривая Куэнь-лунь и его восточное продолжение как один и тот же хребет, общая его длина, от его оснований или корней, в Памире, до его конечных ветвей, между реками Хуан-хэ и Ян-цзы-цзяном, может быть исчисляема приблизительно в 4.000 километров. Нужно, однако, сказать, что многочисленные проломы, перемены направления, пересечения расселин и выступов, всякого рода изменения рельефа разбивают эту орографическую систему на большое число цепей. Горная масса, носящая имя Куэнь-луня, была известна в китайской древности, еще в исторические времена, и есть группа величественных гор, поднимающаяся недалеко от истоков Желтой реки; но невероятно, чтобы эта группа могла быть рассматриваема как центральный узел орографической системы, к которой географы впоследствии применили её название. По мере того, как географическое знание распространялось с востока все далее и далее на запад, имя Куэнь-лунь (Кулькун, Куркун) передвигалось в том же направлении. Оно присвоивается теперь цепи, которую древние индусские переселенцы Кашгарии называли Ансута, от санскритского Анаватапта, то-есть «Неосвященная», гора холода или тени: это синоним татарского наименования Карангуй-таг или «сумрачная гора».
Куэнь-лунь, вероятно, не имеет вершины, которая бы подымалась до высоты высочайших пиков Гималая или даже Каракорума: наблюдения, которые были сделаны доселе на обоих оконечностях этой цепи, сведения, собранные путешественниками относительно частей Куэнь-луня, еще неизследованных ими, наконец указания, даваемые китайскими картами и документами, позволяют вывести заключение, что самые высокие горы земного шара нужно искать не на севере Тибета: Джонсон, Пржевальский, Монтгомери, Рихтгофен не думают, чтобы хоть одна гора тибетского Куэнь-луня достигала высоты 7.000 метров; но за пределами Тибета, между Кашмиром и страной Яркенд, некоторые вершины поднимаются более, чем на 7.300 метр.. Около истоков реки Черчен-Дарья высится горная масса Тогуз-дабан, где собственно так называемый Куэнь-лунь выделяет из себя отроги и террасы, постепенно понижающиеся к низменности, которую наполняло древнее Средиземное море центральной Азии. Северная цепь носит название Алтын-таг или «Золотых гор»; предгорья её выдвигаются почти до самого озера Лоб-нор. К югу от этого хребта, имеющего около 4.000 метр. высоты, тянутся параллельно две другие цепи и большой Куэнь-лунь, который продолжает следовать своему нормальному направлению от запада к востоку до Гурбу-найджи, в соседстве истоков Ян-цзы-цзяна. Монголы, населяющие цайдамские равнины, говорят, что эта цепь гор представляет непрерывный хребет, и что вершины её поднимаются в разных местах за линию постоянных снегов. Уступая Гималаю по возвышению главных вершин, Куэнь-лунь превосходит ее по средней высоте своей массы и по высоте проломов, которыми иззубрен его гребень. При том он, повидимому, гораздо древнее; так как происхождение его относится, вероятно, к более отдаленной геологической эпохе, когда Гималайские горы еще не существовали, то весьма естественно, что выступы его гребня с течением времени постепенно стерлись, осыпались, и обломки их были снесены водами и ветрами на низины и окружающие плоскогорья. Пройдя все горные хребты, отделяющие Индию от бассейна Тарима, путешественник Столичка убедился, что древнейшими каменными породами этой области несомненно должны быть признаны те, из которых образована масса Куэнь-луня: они состоят, главным образом, из сиенитового гнейса, и самые новые его осадочные слои принадлежат к триасу, тогда как формации Гималая и Каракорума обнимают весь ряд горных пород между палеозойскими пластами и эоценовыми образованиями; вообще геологи полагают, что Куэнь-лунь есть первоначальная складка или выпуклость плоской возвышенности, и что южные горные массы образовались последовательно после него.
Сравнительные наблюдения, сделанные на двух цепях, северной и южной, так же, как противоположность явлений климата, доказывают, что в целом Куэнь-лунь не представляет того разнообразия видов, того величия форм, какими отличаются Гималайские горы. Менее иззубренный пирамидальными вершинами, менее иссеченный проломами или вырезками гребня, он высится над узкими оазисами его основания и над песками пустыни Гоби, как длинный вал, там и сям испещренный полосами снега. Несмотря на свою большую среднюю высоту, Куэнь-лунь не может сравниться с Гималаями по обилию снегов и льдов; впрочем, по свидетельству китайских документов и позднейших путешественников, там есть настоящие ледники в восточной части цепи; глетчеры существуют также непосредственно на востоке от верхней долины р. Кара-каш. Кроме того, скопления неподвижного льда наполняют впадины плоскогорья, и горячие источники способствуют образованию ледяных площадей, которые во многих местах расстилаются на обширных пространствах. Северные ветры, встречая склоны Куэнь-луня, после перехода через равнины северной Азии являются уже сухими и приносят лишь весьма незначительное количество сгущенных паров; что касается воздушных течений, приходящих со стороны Индийского океана, то почти все приносимые ими атмосферные осадки они оставляют, в виде дождя или снега, на Гималае и на других горных цепях Бутана и южного Тибета. Таким образом остается мало влажности в воздухе, который проносится над верхушками Куэнь-луня; ручьи, получающие начало в верхних цирках этих гор, образуют по большей части незначительные потоки, и с той и с другой стороны теряются в песках или болотах.
Западная оконечность цепи на севере от Кашмира гораздо богаче струящимися водами, чем собственно так называемый Куэнь-лунь. В этой области, группа горных хребтов и плоскогорье, на котором они расположены, гораздо менее широка, нежели в Тибете, и снега и льды достаточно обильны, чтобы образовать на северном скате Кара-корума значительные реки, которые выходят через ущелья Куэнь-луня и затем извиваются в равнинах Хотана и Кашгара. Так, Яркенд-дарья, уже сделавшись могучей рекой, прорезывает толщу юго-восточного Памира как раз в том месте, где должны бы были встретиться продолженные хребты Гинду-куша и Куэнь-луня. Далее на восток эта последняя цепь открывается в виде ущелья глубиною около 3.000 метров, чтобы дать проход реке Кара-каш, главному притоку Хотан-дарьи. Эта последняя река и сама берет начало на юге от главной оси Куэнь-луня, и должна пролагать себе дорогу через ущелье цепи, пройдя перед тем длинный извилистый путь в продольной долине; но к востоку от этого потока, на севере плоских возвышенностей Тибета, Черчен-дарья есть единственная река, достаточно многоводная, чтобы соединиться с другими потоками и образовать большую реку, текущую на некотором расстоянии в равнинах. Как ни малы теперь эти реки, они. однако, совершили в течение веков громадные работы размывания, вырыв или расчистив ворота, через которые ныне путники спускаются с Тибетских плато к Таримской низменности. В некоторых частях краевой цепи спуск идет так отлого и постепенно, вдоль этих рек, что крутизна ската не превышает крутизны обыкновенных дорог в гористых странах: по словам туземцев, жителей Хотана, даже можно было бы сделать в колесном экипаже переезд через Куэнь-лунь,—до такой степени эта высокая цепь представляет пология покатости и округленные контуры. Один из ость-индских геодезистов, посланных Монтгомери, мог без труда подняться из Хотана на западное плоскогорье Тибета, следуя вверх по долине реки Керия до порога возвышенностей, лежащего в большом расстоянии позади цепа, на высоте 4.875 метров. Другие проходы позволяют взойти на плоскогорье с восточной стороны, так как чжунгары неоднократно делали набеги на Тибет, переходя через степи и пустыни, простирающиеся на юг от озера Лоб-нор. Монгольские пилигримы, когда отправляются в Лассу, тоже избирают этот путь.
Северное плоскогорье Тибета, необитаемое или посещаемое только кочующими пастухами, в наибольшей части его протяжения представляет область наименее известную из возвышенностей Срединного царства, и скалистые хребты, встречающиеся в этих почти пустынных пространствах, озера и болота, наполняющие их впадины и низменности, означаются на картах единственно на основании старинных китайских документов. Впрочем и сами тибетцы знают только южные части этой страны холода и буранов. На севернем плоскогорье кочуют только номады, тюркские и монгольские, со своими стадами, выбирая места для становищ на сангах или защищенных от ветров пастбищах, похожих на памиры водораздельного хребта, возвышающагося между бассейном Аму-дарьи и бассейном Тарима. Тюркские племена, известные обыкновенно под именем «Гор» или «Хор», живут на западе и в южных частях плоскогорья, между окраиной гор, господствующих над долинами верхних притоков Инда и притоками верхнего Цзанбо. Монгольские кочевники, которые наименовали почти все озера и горы северо-восточного Тибета, носят название «Сок»: они придерживаются обрядов шаманизма; однако, общее наименование жителей этого плоскогорья, употребляемое тибетцами,—Хаш-лен или «магометане», откуда произошло, быть может, имя Хачи, даваемое этой стране; по именам двух главных групп племен, которые там поселились, ее называют также «землей Хор-сок».
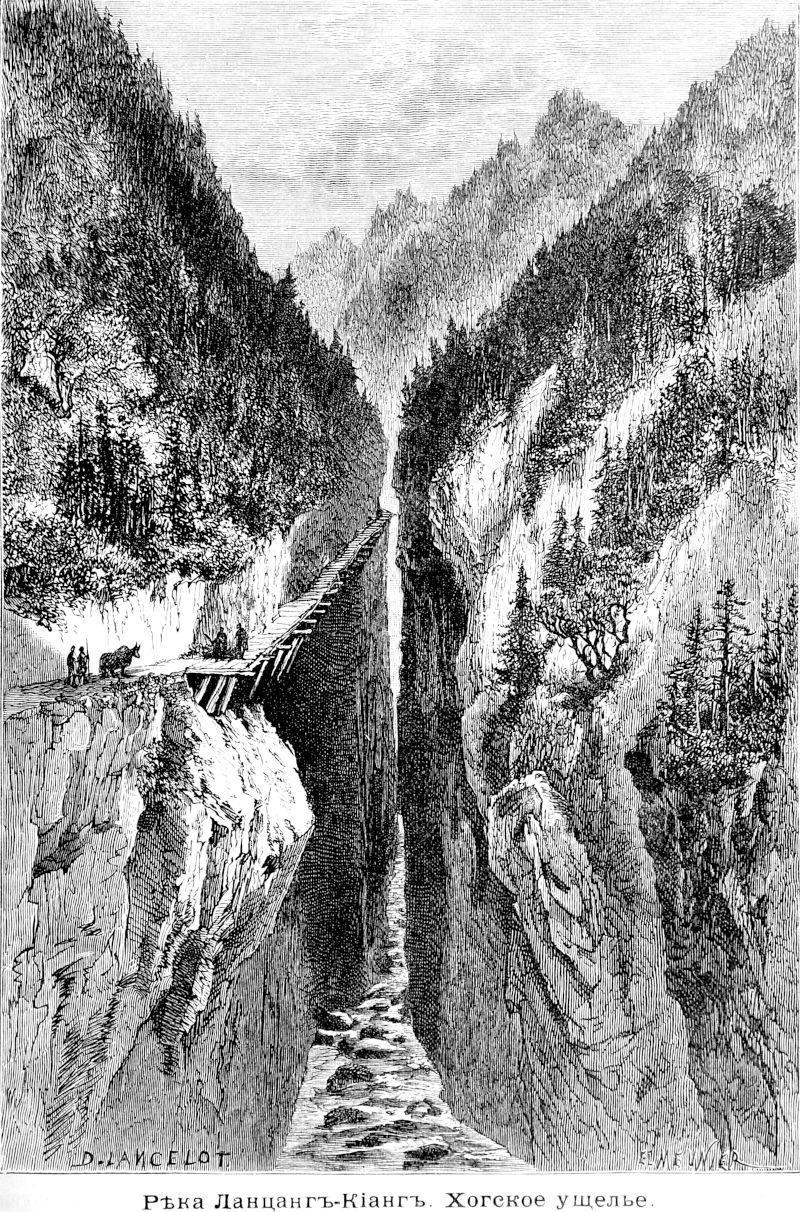
Из многочисленных озер, рассеянных на плоскогорье Хачи, озера Намур, Ихэ-намур и Багха-намур, в западной области, самые значительные, если судить по их изображениям, которые дают нам китайские карты: совокупность вод и земель, частию затопляемых, заключающихся в этом обширном озерном бассейне, продолжается по направлению от юго-запада к северо-востоку на пространстве 200 слишком километров. Каковы бы ни были очертания и размеры этих водных площадей, рисуемых на картах почти что на угад на основании сомнительных источников, теперь известно, что цепь озерных бассейнов занимает по линии от северо-запада к юго-востоку большую часть плоской возвышенности Хачи, параллельно понижению плато, в котором течет река Цзанбо. В 1874 году пундит Найн-синг посетил большое число этих озер, из которых многие, очевидно, не что иное, как остатки гораздо более значительных бассейнов: некоторые уменьшились до того, что представляют теперь не более, как грязные лужи, покрытые кристалической плитой, которую ломают рабочие, чтобы собирать соль. Иные из этих озер соляные, другие только солоноваты, тогда как большинство тех, которые имеют свободное истечение, содержат совершенно чистую воду. Средняя высота этой области озер от 4.500 до 4.800 метр.; скаты её почти везде очень пологи, и, как в некоторых частях Памира и Куэн-луня, там можно бы было совершенно свободно путешествовать в колесном экипаже и даже провести артиллерийские обозы.
Одно из самых значительных, по величине, озер этой области то, которое носит название Дангра-юм или «Мать Дангра». Суженное по средине до того, что образует два почти отдельные бассейна, это озеро имеет не менее 300 километр. в окружности, и, несмотря на то, благочестивые буддисты из окрестной страны и даже из Лассы часто предпринимают обход вокруг озера в религиозной процессии, который продолжается не менее восьми и до двенадцати дней, смотря по времени года. Большая гора, которая высится к югу от озера, получила прозвище Таргот-Яп или «Отец Таргот», и туземцы почитают ее и «Мать Дангру» как прародителей Земли: группы гор, которые виднеются в окрестностях, признаются буддистами за дочерей Таргота и Дангры. «Кора» или полное пилигримство вокруг этих священных мест, горы и озера, требует около месяца времени и считается одним из самых душеспасительных актов подвижничества, искупающим обыкновенные грехи. Две такия коры искупают человекоубийство, и даже отцеубийца не считается более виновным, когда он совершил три раза обхождение вокруг «Отца» и «Матери».
К востоку от Дангра-юм озера следуют одно за другим в большем числе, чем в других частях плоскогорья, и большинство их выпускают излишек своих вод в северном направлении, где находится, говорят, самый большой озерный бассейн южной области плоскогорья Чоргут-чо, который и сам есть приток одной из больших рек, спускающихся к Индийскому океану. Менее обширное, нежели Чоргут, озеро Тенгри-нор, лежащее на юго-восточном углу плоскогорья Хачи, находится уже в поясе Тибета, исследованном современными путешественниками, благодаря соседству Лассы, от которой оно удалено не более, как на сотню километров. Расположенное по направлению от юго-запада к северо-востоку, озеро Тенгри-нор имеет 80 километр. в длину, при ширине от 25 до 40 километров: пундит, посетивший его в 1872 году, употребил четырнадцать дней, чтобы пройти вдоль его северных берегов. Эта водная площадь, неизвестной глубины, в которой отражается небо почти всегда ясное, есть «Небесное озеро» по преимуществу, как показывают его имена, Тенгри-нор по-турецки и Нам-чо по-тибетски. Каждый год тысячи пилигримов, которых не пугают ни трудности пути, ни опасность подвергнуться нападению разбойников, стекаются сюда из разных мест, чтобы посетить монастырь Доркиа и другие обители, приютившиеся на высоких мысах, откуда открывается обширный вид на лазурную поверхность вод и на белеющие снежные пики, окружающие озеро с южной и юго-восточной сторон. В этой священной области благочестивым посетителям все кажется чудесным: тут расселина в скале образовалась оттого, что камень был расколот богом; там пирамида из глины, воздвигнутая человеческими руками, вдруг растреснулась, чтобы выпустить и дать вознестись на небо душе одного ламы, умершего в экстазе молитвы; даже ископаемые, камни почитаются священными предметами: богомольцы уносят их, как реликвии одной из «трех сот шестидесяти гор», которым поклоняются как богам, составляющим кортеж главного божества, Нинджин-танг-ла, сплошь покрытого снежной пеленой.
Недавно полагали, что испарение в озере Тенгри-нор вполне достаточно, чтобы уравновешивать прибыль воды, доставляемую его притоками; но это мнение оказалось ошибочным. Путешественник, объехавший вокруг этого бассейна зимой 1872 года, не заметил истока, покрытого в это время года, как и самое озеро, ледяной плитой; ручей, вытекающий из Тенгри-нора на северо-западном углу озера, соединяется с рекой, выходящей из другого озерного бассейна, называемого Чоргут-чо. В соседстве Тенгри-нора бьют из земли горячие ключи, а далее на севере, в углублении плоской возвышенности, залегает Буль-чо, простирающееся на пространстве около шестидесяти квадр. километров; некоторые из пилигримов, соединяющие благочестие с коммерческим духом, закупают на берегах Буль-чо целые грузы буры, которую они продают потом в нижнем Тибете и даже отправляют за Гималайские горы. С этого же озера прежде получалась частию бура, носившая в торговле название «венецианской», потому что она очищалась на фабриках Венеции.
Эти химические эффлоресценции свидетельствуют о редкости дождей и снегов на плоскогорье Хачи. А между тем непосредственно на востоке от него находится та замечательная область Азии, где со всех сторон текут ручьи и речки, образующие своим соединением могучия реки. Этот контраст происходит оттого, что край плоскогорья ограничен горами, которые получают атмосферную влагу только на южных скатах, обращенных к морским ветрам, дующим с юга и юго-востока. Эти горы состоят из нескольких групп, и на них расположены истоки рек бассейна Индийского океан, и Ян-цзы-цзяна. Хотя проломы, образовавшиеся путем размывания, делят на несколько отдельных кряжей выпуклины порога, но этот последний все-таки почти на всем своем протяжении сохраняет высоту достаточную для того, чтобы произвести большую разницу в климате между двумя противоположными покатостями. Неизвестно только, принадлежат ли горы этого порога к единственной краевой цепи, перерезанной на известных расстояниях высокими долинами рек, или, напротив, они составляют часть различных хребтов, господствующих над восточной оконечностью плоскогорья. Рихтгофен принимает первую из этих гипотез, допуская существование одной поперечной орографической системы, соединяющей горы южного Тибета с горами Куэнь-луня: он даже дал этой предполагаемой цепи название Тан-ла (слово ла обыкновенно означает «перевал, горный проход»; но в восточном Тибете этот термин нередко применяется к горам и даже к целым цепям), по имени одной группы вершин, возвышающихся на юго-восточном углу плоскогорья, к югу от озера Тенгри-нор. Однако, основываясь на том, что более или менее известно о верхнем течении рек, можно, повидимому, заключить, что промежуточные цепи ориентированы так, что образуют параллельные хребты, расположенные все по направлению от юго-запада к северо-востоку и отделенные друг от друга широкими и глубокими понижениями гребня. Дороги, по которым следуют караваны из Тибета в Монголию, проходят последовательно через эти параллельные хребты.
Гребет Тан-ла, через который миссионеры Гюк и Габе с таким трудом перебрались во время своего путешествия из области Куку-нор в Лассу, есть самая южная из этих параллельных цепей и соединяется своей западной оконечностью с той группой Тан-ла, в которой Рихтгофен усматривает исходную точку краевой цепи плоскогорья; оба эти названия, кажется, одно и то же слово, различно выговариваемое туземцами разных долин. Гюк говорит о хребте Тан-ла, как о горе, которая, может быть, представляет «самую возвышенную точку земного шара»; но полковник Пржевальский, во время своего третьего путешествия в западные области Китайской империи, тоже совершил восхождение по внушающим такой страх скатам хребта Тан-ла и мог определить высоту его, которая оказалась 5.120 метр., так что, следовательно, эти горы на 1.000 метров ниже других, часто посещаемых, перевалов. На верхнем плато растут еще пучки короткой и деревянистой травы, которую щиплют верблюды. Господствуя над целым миром гор, которые ему служат ступенями, хребет Тан-ла отличается мягкими очертаниями, правильными формами и составляет резкий контраст с остроконечными и зубчатыми вершинами горных масс, которые высятся на горизонте. У основания этой цепи, с южной стороны, бьют из земли многочисленные горячие источники, клокочущие в своих каменных водоемах и соединяющиеся в широкий ручей, который течет в русле, выложенном желтыми, как золото, голышами. Густые пары постоянно поднимаются клубами над этими источниками и сгущаются в беловатые облака, уносимые ветром. В некоторых резервуарах спертый пар по временам вырывается высокой струей, увлекая со собой огромный столб воды, подобный жидким колоннам исландских гейзеров и фонтанов Национального Парка в Соединенных Штатах.
Южный Тибет, та область плоскогорья, где выстроились города, где нация постепенно сформировалась, и где она развила свою культуру, представляет сравнительно защищенную горами низменность, которая продолжается на юге от плоскогорья Хачи. В обыкновенном языке к одной только этой части загималайских возвышенностей применяется наименование Тибета. Хотя воды текут там в противоположном направлении, с одной стороны к индо-персидским морям, с другой—к Бенгальскому заливу, тем не менее эта продольная долина самая обширная и, в то же время, самая величественная в свете, благодаря громадам гор, между которыми она заключена. Но эта длинная низменность или впадина, которая тянется в виде дуги круга, параллельно Гималайскому хребту, не есть правильная равнина, или простой ров, ограничивающий с южной и юго-западной стороны плоскогорье Хачи; это, напротив, целая горная, страна, где цепи и гряды вершин ориентированы по большей части в том же направлении, как и Гималайские горы.
Цепь, господствующая с северной стороны над низменностию, собственно, так называемого Тибета, и которая образует, в то же время, южную окраину нагорья Хачи, может быть рассматриваема как продолжение Кара-корума. К востоку от Кашмира и Ладака этот хребет поворачивает на юго-запад, параллельно Гималаю, и выделяет из себя влево несколько отрогов, которые, в конце концов, сливаются с плоскогорьем, тогда как главная цепь, изрытая оврагами, прорезываемая притоками реки Цзанбо и притоками некоторых замкнутых бассейнов и, наконец, на востоке, данниками больших восточных рек, продолжается до соединения с хребтом Нин-чэн-тан-ла, который она встречает на юге от озера Тенгри-нор. Позади этой цепи поднимаются многие высокие массы гор, между прочим, цепь Таргок-яп, которая господствует над озером Дангра-юм, и которую исследователь этой страны, пундит Пайн-синг, считает самой возвышенной группой во всей области плоскогорий на севере от Гималайских гор. Далее на восток, горная масса Гиахарма также омывает свое основание в водах большого озера, называемого Нияринг-чо, и отделена от южной краевой цепи долиной реки Думфу, одного из притоков Ньяринга. Вершины, достигающие высоты от 6.500 до 7.000 метров, венчают горную цепь, вдоль которой следует течение реки Цзанбо, и которая здесь еще не имеет окончательно установившагося и общепринятого названия. Какое имя выбрать между различными, употребляемыми ныне названиями? Следует ли оставить за этой тибетской цепью, как это делают братья Шлагинтвейт, турецкое наименование «Кара-корум», принадлежащее более специально хребту, отделяющему Кашмир от возвышенной долины реки Яркенд-дарья? Или не лучше ли было бы, как предлагает Годсон, называть ее Нин-чэн-тав-ла, сходно с именем величественного пика, господствующего над озером Тенгри-нор? Но эта одноименность не введет ли бесполезной путаницы в географическую номенклатуру Тибета? Точно также не следует ли устранить тибетское имя Гангрн или «Снежная гора», которое уже употребляют для разных вершин западного Тибета? Клапрот предложил наименование Ганг-дис-ри, принятое Маркгамом, тогда как Петерман и другие географы, цепи и хребты, лежащие на юг от плоской возвышенности, называют просто «Цзанскими горами», по имени тибетской провинции Цзан, которую эти горы защищают от северных ветров.
Другая цепь гор и вершин, которую можно было назвать «Загималайским хребтом», тянется между Цзан или Ганг-дис-ри и блистающими пиками Гималаи, и с обеих сторон её спускаются ледники. Таким образом низменность южного Тибета разделена в продольном направлении, от запада к востоку, на два второстепенные понижения, параллельные одно другому. Средняя цепь, составляющая продолжение одного из хребтов Ладакского «Малаго Тибета», поднимается своими высокими лангурами или покрытыми вечным снегом пиками, на юге от долины Сетледжа, затем на юге от долины Цзанбо. Уступая по высоте Гималайским горам, эта цепь имеет более важное значение как водораздельная возвышенность, и текучия воды прорезывают ее менее многочисленными поперечными долинами: на протяжении около 800 километров Загималайские горы совершенно ограничивают бассейн Цзанбо как водораздельный хребет, тогда как высокая южная цепь, прерываемая глубокими проломами, пропускает к равнинам Ганга многие реки, получившие начало в бассейнах, открывающихся на севере от его гребня. Тем не менее все воды этих возвышенных стран находят дорогу к морю, и большие впадины промежуточных плоскогорий наполнены озерами без истечения, каковы, например, Чомто-донг и Пальгу-чо. По сообщению одного индусского пундита, вода в озере Чомто-донг совершенно чистая и пресная, из чего нужно заключить, что исток существовал еще в недавнюю эпоху. Все эти горы переходимы, даже через те вырезки гребня или перевалы, которые на 500 или на 1.000 метров превосходят высоту Мон-Блана,
Различные высоты озерного плоскогорья, цепи Ганг-дис-ри и Загималайского хребта суть:
Озерное нагорье. Ток-ялунг, самое высокое в свете обитаемое место—4.980 (?) метр.; Таргок-яп, высочайший пик цепи Таргок-лех—7.500 (?) метр.; озеро Дангра-юм—4.600 (?) метр.; пик Гьяхарма—6.430 метр.; Тенгри-нор (Небесное озеро)—4.693 метр.
Цепь Ианс-дис-ри на севере от долины Цзанбо. Мариам-ла (перевал Мариам)—4.725 метр.; Хоморанг-ла—5.721 метр.; Кайлас или Тисс—6.700 метр.; Нин-чэн-тан-ла—(7.192?) (7.280?)—7.625 (?) метр.; перевал, на запад от этой горы—5.760 метр.; Бакнакский перевал, на север от Лассы—5.440 метр.
Загималагиский хребет. Снежный пик ил «лангур», на юго-запад от Джанглаче—7.520 метр.; Тунглунг-ла— 5.630 метр.; Лагулунг-ла—4.941 метр.; Хамба-ла, на юго-запад от Лассы—5.240 метр.; озеро Пальти—4.125 метр.; Хоро-ла, на запад от озера Пальти—5.101 метр.
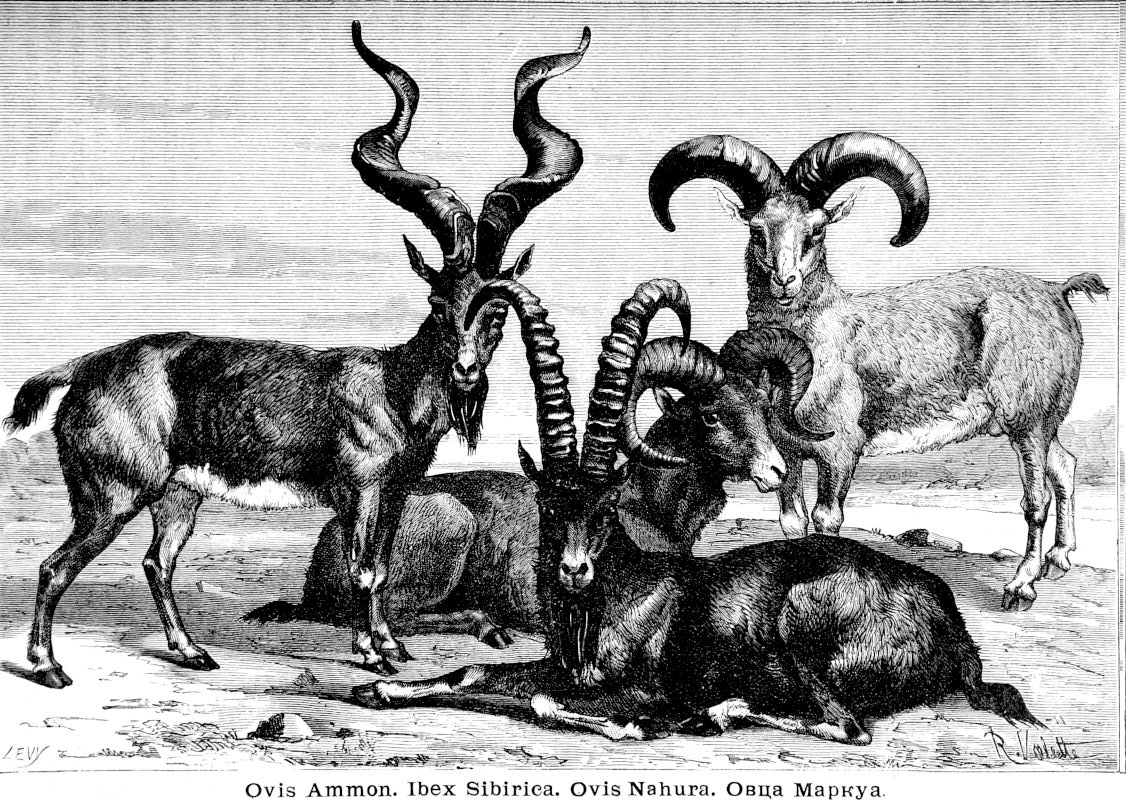
Область Тибета, в которой берут начали реки Сетледж и Цзанбо, есть одна из священных земель браминов и буддистов; это благоговение народов вытекает, без сомнения, из сознания важности страны с географической точки зрения. Поперечный порог, соединяющий Гималаи с Ганг-дис-ри, и через эту цепь со всем Тибетским нагорьем, важен не только как место необходимого перехода между двумя большими долинами, продолжающимися далеко через разные страны, он важен также, как корень или узел, посредством которого плоская возвышенность Тибета, самая обширная на земном шаре, связана с высочайшей в свете цепью, с Гималайскими горами. На северо-запад от этого раздельного порога высится гора, называемая тибетцами Тисс, а индусами Кайлас, пирамидальная масса которой стоит уединенно, отдельно от других гор цепи Ганг-дис-ри. Когда индус заметит издали обрисовывающийся на горизонте высокий гребень этой священной горы, форма которого похожа на пагоду в развалинах, он семь раз падает ниц и семь раз воздевает руки к небу: в его глазах это жилище Магадео или Великого Бога, первый и самый величественный из всех Олимпов, на вершине которых народы, на каждой из последовательных станций при их движении на запад, видели сияние ослепительного света их божеств; эта гора Меру древних индусов, пестик символического цветка лотоса, изображающего собою мир. Тибетские ламы не уступают индусским иоги в выражении благоговения к священной горе, и самые смелые из них предпринимают пилигримство вокруг Кайласа, совершаемое через снега, скалы и груды обвалившихся камней, и продолжающееся по нескольку дней, у подножия этой горы с четырьмя фасадами, из которых «один золотой, другой серебряный, третий рубиновый, четвертый из лазуревого камня», был построен первый буддийский монастырь Тибетского плоскогорья, за два столетия до начала христианской эры. Индусские легенды, впрочем, сильно расходящиеся в подробностях, согласны в том, что все они ищут по близости Кайласа или даже в его боках таинственные гроты, из которых вызываются на свет четыре божественные животные, слон, лев, корова и лошадь,—по словам других павлин,—символы четырех больших рек, Сетледжа, Инда, Ганга и Цзанбо. Эти могучие потоки, спускающиеся к четырем разным точкам горизонта, действительно берут начало если не на склонах одной и той же горы, то по крайней мере на пространстве, которое, вероятно, имеет, от юга на север, не более сотни километров протяжения. Алакнанда, Карнали и разные другие реки, из соединения которых образуется Ганг, река божественная для браминов, вытекают из земли на индусской покатости Гималайских гор, а Инд получает свои первые воды из северных снегов цепи Ганг-дис-ри. Но между этими двумя крайними точками, отделенными одна от другой двумя хребтами гор, открывается та глубокая впадина или низменность, где образуются и текут в противоположном направлении две другие большие реки: Сетледж и Цзанбо.
Порог долины с двойной покатостью, служащий водоразделом между двумя бассейнами и соединяющий в поперечном направлении Гималайские горы и цепь Ганг-дис-ри, имеет незначительное относительное возвышение при основании горных вершин, которые поднимаются на 2.000 метров выше, как гора Кайлас, и даже на 3.000 метров, как гималайский пик Гурла или Мандгата, повышения почвы сливаются с соседними высотами, так что не без труда можно различить водораздельный хребет. Впадины этой долины наполнены озерами и прудами, залегающими почти на такой же или немного меньшей высоте, как и порог, и спуск от одной из этих водных площадей к другой идет по отлогим скатам. Весьма вероятно, что в предшествующую геологическую эпоху вся низменность, которая тянется в виде полумесяца вдоль северного склона Гималая, была наполнена водами, и что нынешния озера, рассеянные в бассейне, суть не что иное, как остатки большого альпийского озера прежних времен. По замечательному параллелизму, эта длинная некогда озерная долина развертывается в том же направлении, как цепь озер полуденного плоскогорья Хачи, от Дангра-юм до Тенгри-нор. В этой низменности тоже получают начало две большие реки, текущие в противоположном направлении: с одной стороны Инд, с другой таинственный поток, из которого, вероятно, образуете река Салуэн.
Наименее покатая половина южной впадины Тибета та, в которую изливаются воды Сетледжа. Первую её террасу, в соседстве с порогом, занимает озеро, тсо или чо Конгкио, водная площадь без истечения, сделавшаяся соленой, как почти все замкнутые озера. В окрестностях рассеяно несколько других прудов, наполненных соленой водой, но два главные бассейна этой долины, Мансаровар и Ракас-таль, пресноводные озера, соединенные постоянным ручьем, приносящим Сетлджу божественную струю, ибо Мансаровар, Манаса-саровара индусских легенд, есть «озеро, образовавшееся из дыхания Брамы (по Муркрофту, название Манаса-саровара означает просто «Священное озеро»; тибетцы называют его «чо Мапанг»). Лебеди, почитаемые как блаженные существа, плавают тысячами на голубых водах этого священного озера. Там и сям на окрестных пригорках виднеются домики пилигримов, ибо, несмотря на опасности путешествия и климата, благочестивые пустынники не боятся проводить по нескольку месяцев в этих страшных необитаемых местах: те из них, которые умирают в дороге, утешают себя мыслию, что их пепел будет брошен в эту воду, «самую святую на земле», и это составляет дли них высшую награду за подвижничество. Прежде говорили, что Ганг вытекает из озера Мансаровар, и это предание было санкционировано на некоторое время рассказами иезуитов и картой д'Анвиля. Муркрофт первый доказал, что истоки Ганга находятся на внешнем склоне Гималайских гор. Еще и на этих высотах сходились враждебные армии и вступали в кровопролитный бой: так, в декабре 1841 года китайцы разбили здесь на голову кашмирских догров и преследовали их вплоть до Леха, в индийском Тибете.
По выходе из озера Ракас-таль, называемого тибетцами Ланагу-ланка, Сетледж, Сатраду или Сатадру, иногда пересыхает в конце лета: постоянное течение эта река имеет только ниже в долине, где она начинает прокладывать себе дорогу через обломки скал. Эта долина, лежащая на высоте 4.500 метров, есть одна из замечательнейших в свете своими теплыми источниками, из которых одни сернистые, другие инкрустирующие: огромные пласты скал были отложены в течение веков этими минеральными водами; в некоторых местах только и видишь что эти травертинские туфы, образованные дымящимися источниками. Как во многих других областях Тибета, который, однако, нигде не содержит вулканических пород, здесь тоже вылетают из земли струи паров, сернистыя фумароллы.
Общая покатость верхнего бассейна Сетледжа охраняет почти одинаковый уклон на всей тибетской территории. Близ того места, где река прорывается через теснины Гималайских гор к равнинам Индостана, уровень террас, окаймляющих ее справа и слева, держится на 4.500 метрах, как на Мансароварском пороге, в 300 километрах выше этого пункта, и местность тут так же пустынна, так же лишена всякой растительности, за исключением только защищенных от ветра лощин. Сетледж вырыл себе в этих террасах озерного происхождения ущелья в 400 и даже в 500 метров глубиною, которые, однако, не достигают до живой скалы дна. Каждый впадающий в эту реку горный поток должен, как и сам Сетледж, открыть себе проход через каменные глыбы и пласты глины, и таким образом вся территория представляется изрезанной на огромные овраги. В этих-то оврагах, либо по берегам ручьев, либо даже на каменистых откосах, редкие обитатели страны устроили свои жилища, временные или постоянные. Так, Даба, главный город тибетской долины Сетлоджа, занимает стены пропасти около 100 метров глубиной, открывающейся в пластах камней и глины, которые господствуют над течением одного из притоков Сетледжа. В этом месте воды и снега изрезали стены ущелья в фантастические формы башен, бастионов, пирамид, обелисков. В самых твердых частях этих стен открываются гроты, вырытые рукой человека: это жилища и склады обитателей Дабы. Несколько каменных двух-этажных домов прерывают там и сям своими белыми фасадами красноватые крутые откосы, а в верхней части города расположен квартал лам, образующий нечто в роде цитадели, над которой господствуют неприступные стены горы; единственные ворота, открытые в нижнем квартале, дают доступ жителям. Зимой город Даба совершенно пустеет; овраг наполняется снегом, и кучки домов исчезают под снежными хлопьями, кружимыми ветром; с наступлением весны нужно очищать вход в пещеры от остатков лавин, где снег перемешан с грязью и каменьями. Изрытые теперь глубокими оврагами обломки, которые засыпали обширное озеро, принадлежат к третичной и потретичной эпохам, и заключают в себе много ископаемых, равно как и костяки больших позвоночных животных. Следовательно, целая фауна успела развиться и исчезнуть в течение веков, употребленных камнями и землистыми осадками на засорение внутреннего моря, остаток которого опорожнился через пролом в Гималайском хребте, по которому текут стремнины Сетледжа.
Многие из рек, берущих начало на северной стороне цепи Ганг-дис-ри, считались прежде туземными жителями главным истоком Сцинда или Инда, и ко всем этим рекам применяли мифическое название Сенгсхабад, «река, вышедшая из пасти льва». Их называли также Сингичу или «Львиный поток»,—имя, которое мы находим в древнем санскритском наименовании Синга, слегка измененном в наши дни. Исследования, произведенные в новейшее время англо-индийскими геодезистами, доказали, что между этими реками истинным Индом нужно считать ту, которая получает начало—далее на восток, недалеко от северной покатости горы Мариам-ла: из всех потоков, которые соединяются в общем русле Инда выше того места, где он вступает в пределы Кашмирского царства, это самый длинный и самый многоводный. Гартунг или река Гарток соединяется с Индом еще на тибетской территории и увеличивает его объем почти в два раза.
Явления постепенного высыхания, которые, со времен озерного периода, следовавшего за ледяной эпохой, низвели пресноводные озера Тибета в простые лужи соленой воды, и покрыли налетом соли и селитры столько впадин плоскогорья, изсушили также много рек, превратили в замкнутый бассейны многочисленные долины, воды которых некогда вероятно изливались в Инд. Замечательный пример этого видим на севере от сейчас названной реки, в округе Радох. В этой части плоскогорья, средняя высота которой 4.200 метров, одна долина тянется параллельно течению Инда; сначала она идет к северо-западу, затем подобно долине Инда, уклоняется на запад, чтобы образовать поперечную горную долину или ущелье, после чего опять принимает свое нормальное, северо-западное направление. Большая часть этой долины наполнена водой; но образовавшееся в ней озеро, которое походит на многие внутренние фиорды Скандинавии, попеременно расширяется и съуживается, смотря по ширине русла и выступу мысов: обвалы или, может быть, аллювиальные образования, нанесенные боковыми потоками, даже разделили это озеро на три бассейна, имеющие различный уровень. Верхний бассейн называют озером Нох, по имени соседней станции караванов. Центральный бассейн, лежащий на 12 или 13 метров выше нижнего резервуара, носит название чо или озера Монгалари, то-есть «Горного пресноводного озера»; (по словам пундита Найн-синга, истинное его имя Могна ларинг, что значит «Длинное и узкое озеро женщины». Нижнее озеро, немного меньших размеров, известно в крае под тем же именем, хотя по недостатку истечения оно мало-по-малу превратилось в соляное озеро; содержание солей, около 13 на 1.000 в нем почти такое же, как в Черном море, но пропорции их различны, ибо оно заключает почти столько же сернокислой соды и магнезии, столько морской соли. Англо-индийские исследователи познакомили нас с этим озером под именем Пангонского, заимствованным им от провинции Кашмира, в которую врезывается северная оконечность озерного бассейна. Линии прежнего уровня и слои пресноводных раковин, очень легко различаемые на крутых горных склонах, окружающих Пангонг, и в ущелье, через которое уходил излишек воды, доказывают, что уровень воды в озере прежде был на 74 метра выше, чем нынешняя его средняя поверхность, лежащая на высоте 4.149 метров; следовательно, толщина жидкой массы, в то время еще не соленой, была вдвое больше, чем в наши дни, ибо, по Троттеру и Биддульфу, наибольшая глубина равна ныне 43 метр., по Герману Шлагинтвейту, 51 метру. Общая площадь двух озер, исчисляемая теперь только в 543 квадр. кил., тоже была слишком в два раза больше в то время, когда выходивший из озерного бассейна ручей спускался в Шайок или «женский Инд» по долине длиною около тридцати километров, ныне высохшей, и посредством реки Танксе. Понижаясь мало-по-малу вместе с уровнем озера, вытекавший из него ручей вырыл скалу до высоты 47 метров над нынешней водной площадью, затем истечение совершенно прекратилось, и озеро постепенно уменьшилось до настоящих его размеров, вследствие убыли от испарения, не восполняемой притоком новой воды. Пески, оставленные на берегах, были унесены южными ветрами и образовали дюны на северном берегу, или расположились в виде откосов на скалах; что касается северных ветров, то действие их на пески слабее, потому что эти ветры господствуют преимущественно зимой, когда почва, так же, как и поверхность озера бывает скована морозом.
Река Цзанбо (Тсанну, Тсамбо, Дзангбо, Сампо или Самбо), то-есть «Святая вода», называемая часть в верхнем своем течении Яру-цзанбо или «Верхний Цзанбо», должна считаться рекой тибетской по преимуществу, так как она протекает через две центральные провинции этой страны—Цзан и Уй. Так же, как Инд и Ганг, тибетская река уподобляется туземцами мистическому животному, и многие из даваемых ей имен делают ее «рекой павлина» или «рекой лошади»: по сказанию одной легенды, она «выходит из рта коня». Тот же самый невысокий перевал, который изливает с одной стороны ручейки растаявшего снега в Сетледж, питает с другой стороны нарождающийся поток Цзанбо. Главные его притоки—ледниковые ручьи, выходящие из цирков Гималайских гор; отделенные от главной цепи Кара-корума параллельной грядой Хоморанга, верхний Цзанбо получает с этой стороны лишь небольшие ручьи. Едва сделавшись рекой, он течет по равнине с очень малым уклоном, где его замедляемые воды широко разливаются близ Тандумского монастыря; в том месте, где тропинка, проложенная через гору Мариам-ла, спускается в долину, Цзанбо представляет уже судоходную реку, по которой поднимаются мелкие ладьи, нагруженные товарами; но пороги здесь так часты, что туземцы не иначе отваживаются пускаться по его водам, как бросив предварительно монету в поток, чтобы обеспечить себе благоприятное плавание. Без сомнения, во всем свете нет другой реки, которая носила бы суда на такой огромной высоте, исчисляемой слишком в 4.300 метров; ниже, Цзанбо тоже судоходен во многих частях своего течения, при помощи особого рода плотов, обтянутых кожей; но в других местах всякое судоходное сообщение представляется невозможным по причине порогов и песчаных мелей. Высокие террасы, выступы скал, съуживающие русло реки, позволили тибетцам перекинуть мостики, висящие над потоком; но этими легкими сооружениями, которые качаются от дуновения ветра, почти никогда не пользуются путешественники, предпочитающие переправляться с одного берега на другой в лодке.
Цзанбо получает в своем тибетском течении очень много притоков, выходящих, на юге с Гималайских и Загималайских гор, на севере из цепи Ганг-дис-ри и даже, через некоторые прорывы окраинной цепи, из возвышенных областей плоскогорья, которое простирается за этими горами. Один из этих северных притоков, Намлинг, берущий начало на хребте Халамба-ла, в соседстве озера Тенгри-нор, протекает по одной из любопытнейших местностей Тибета, замечательной своими горячими источниками. Там, между прочим, есть два гейзера сернистой воды, которые от времени до времени бьют фонтаном до высоты 18 метров, и за исключением летних месяцев, ниспадающая вода замерзает вокруг отверстия в виде хрустальной закраины, усаженной высокими сталагмитами. Большинство озер этой части бассейна были засорены наносами или опорожнены через выходящие из них потоки; однако все еще остались довольно значительные резервуары, между прочим Ямдок или Палти, который изображают на картах, основываясь на чертежах д'Анвиля в форме почти правильно кольцеобразной, так что озеро имеет вид рва, окружающего крепость. Остров, который, впрочем, некоторые описания представляют скорее как полуостров, возвышается слишком на 700 метров над поверхностью вод, которая сама, как говорят, находится на высоте 4.114 метр. над уровнем моря. По свидетельству Манинга, вода этого озера имеет слегка солоноватый вкус, тогда как, по словам пундита, который обошел северные берега бассейна, она совершенно чистая и пресная. Неизвестно, сообщается ли это таинственное озеро, по рассказам очень глубокое, посредством какого-нибудь западного истока с рекой Цзанбо, от которой оно отделено на севере высоким хребтом Халамба-ла, или оно составляет совершенно замкнутый бассейн.
На северо-востоке от озера Палти или Ямдок-чо, главная ветвь Цзанбо соединяется с другой священной рекой Ки-чу, которая орошает долину Лассы. В 1875 году неизследованные области Тибета начинались в небольшом разстоянии ниже этого слияния, именно в местечке Четан, приблизительно в 1.000 километр. от истоков Цзанбо. В этом месте, где пундит Найн-синг переправился через реку, он видел, что долина продолжается в восточном направлении километров на пятьдесят, затем исчезает на юго-востоке, между синеватыми стенами гор. Но после того, именно в 1877 году, другой англо-индийский изследователь, руководствуясь указаниями инженера Гармена, проследил течение реки на протяжении более 300 километров вниз от Четана. Этот путешественник, самое имя которого известно нам только в сокращенной форме Н—м—г., прошел сначала по берегу Цзанбо до оконечности долины, которую Найн-синг видел издали; но далее он принужден был сделать большой обход через горы, чтобы избегнуть глубокого ущелья, в которое вступают воды реки. Тем не менее он мог опять подойти к самой реке, верстах в тридцати от того места, где покинул ее, и тут он убедился, что Цзанбо описывает кривую в северном направлении, прежде чем снова принять свое нормальное течение к востоку и юго-востоку. С того места, где должен был остановиться путешественник Н—м—г., он видел на юго-востоке пролом, открывающийся в цепи гор, и через эту-то брешь, как говорили ему тибетцы, Цзанбо уходит в землю диких, пройдя которую он течет по стране, принадлежащей британскому правительству, и получает название Брамапутры.
В Четане уровень долины Цзанбо около 3.400 метров, и однако, на этой огромной высоте тибетская река, бассейн которой обнимает уже площадь в 200.000 квадр. километров, может быть сравниваема, по объему жидкой массы, с такими европейскими реками, как Рона и Рейн. Когда пундит Найн-синг видел эту реку, воды ее были относительно низки; однако, принимая во внимание указываемую им значительную ширину реки (от 300 до 450 метров), а также глубину и скорость течения, можно считать, что даже в эту пору сток Цзанбо или количество протекающей воды составляет никак не менее 800 кубич. метров в секунду (по Монтгомери, от 681 до 993 куб. метров). Но плоские берега, покрываемые водами весеннего разлива в продолжение месяцев мая, июня и июля, тянутся в некоторых местах на несколько верст от ложа, занимаемого в период мелководья, и тогда масса катимой рекою воды, без сомнения, достигает нескольких тысяч кубич. метров, может быть, 20.000 метров в секунду, если даже во время разлива уровень воды повышается только на 5 метров, как рассказывают туземцы. Цзанбо, который принимает в себя еще, ниже Четана, в восточном Тибете, большое число многоводных рек, и который должен проходить в этой части своего течения через одну из самых сырых стран земного шара, приносит, следовательно, огромную жидкую массу в Индийский океан. Путешественник Франсис Гарнье высказал предположение, что юго-восточная часть Тибета, через которую проходит Цзанбо, занята известковыми горами, изрытыми пещерами в роде тех, какие он видел во многих местах Китая и Индокитая, и что эта река, текущая отчасти в глубинах земли, делится между несколькими бассейнами; однако, то немногое, что мы знаем до сих пор о геологии восточного Тибета, противоречит этой гипотезе: известняки показываются только на окраинах Юнь-наня, остальная же часть страны состоит из кристаллических горных пород, прикрытых ледниковыми глинами.
Как бы то ни было, ни один исследователь, даже ни один туземец, по крайней мере между теми, которых расспрашивали путешественники, не проследил нижнего течения Цзанбо далее того пункта, которого достиг упомянутый посланный инженера Гармена, потому географы принуждены довольствоваться гипотезами по этому вопросу, бесспорно капитальной важности. Что становится со «Святой водой» после того, как она выходит из своей тибетской долины? В 1721 году миссионер Регис, который велел составить карту страны, по приказанию китайского Кан-си, говорит, что, «достоверно ничего неизвестно относительно места, куда изливается эта река»; он узнал только, что она течет в Бенгальский залив, «около Арракана или близ впадения Ганга в Могол». Д’Анвиль, пользуясь картой тибетских лам и документами, доставленными ему миссионерами, начертил течение Цзанбо таким образом, что оно должно продолжаться, в королевстве Ава, рекой Иравадди. Реннель, напротив, отождествляет Цзанбо с Брамапутрой, и его гипотеза в настоящее время подтвердилась. Некоторые географы, например, Генри Юль, спрашивают, не может ли этот вопрос считаться уже окончательно разрешенным, и в подтверждение своего мнения Юль приводит, следующий факт, который ему кажется решающим. В 1854 году два католические миссионера, пытавшиеся пробраться из верхнего Ассама в Тибет, были убиты туземцами одного из колен племени мишми. Один епископ, проживавший в то время в тибетском княжестве, присоединенном к Китаю, писал, что тибетцы рассказывали ему об этой драме, как о происшествии, имевшем место на берегах Гакпо или Канпу, «притока Иравадди», который течет на севере от Цзанбо. Но известно достоверно, что миссионеры были умерщвлены на берегах Лохита или восточной Брамапутры, так как туда был отправлен английский отряд, чтобы отомстить за них и захватить убийц. Из этого Юль выводить такое заключение, что Лохит есть несомненно продолжение Гакпо, и что эта река, описывая извилину на востоке от Цзанбо, заключает, так сказать, эту последнюю реку в своей большей кривой; следовательно, Цзанбо не может направляться к Иравадди, и гипотеза д’Анвиля и Клапрота должна считаться окончательно опровергнутой. Спрашивается, однако, может ли смутный слух, переданный неизвестными лицами относительно сомнительного названия реки, дать подобную географическую достоверность?
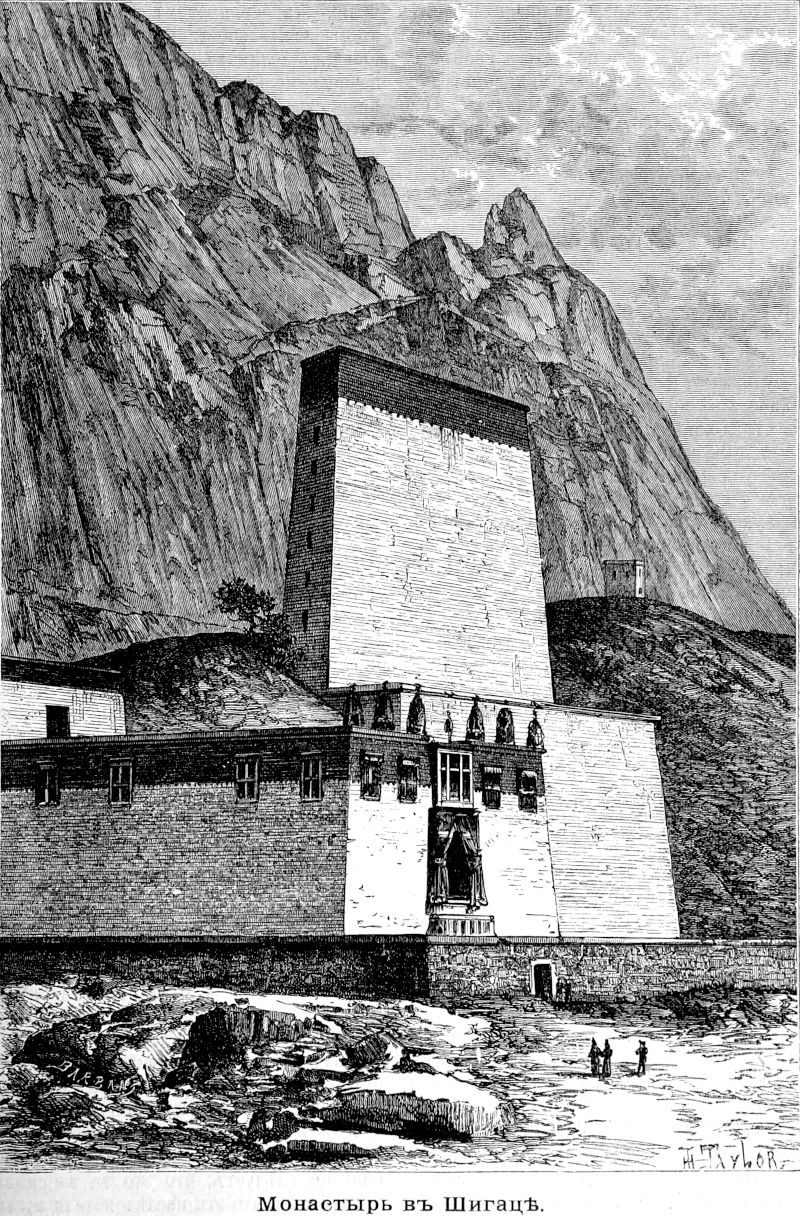
Сторонники гипотезы Реннеля долго спорили о том, какую реку, в провинции Ассам следует считать главной и несущей в Брамапутру воды тибетской реки Цзанбо? Будет ли это Дихонг, Дибонг, Субансири или какой-либо другой приток? Большинство географов, по крайней мере между англичанами, за исключением Фергюссона и Гордона, высказались в пользу Дихонга, после того, как Уилькокс и Борльтон, поднявшись по нижнему течению этой реки, в 1825 и 1826 годах, доказали, что она есть несомненно главная ветвь Брамапутры. Однако, в то время, когда они высказали, как доказанную гипотезу, свое предположение, что Брамапутра есть индийское продолжение тибетской «Святой воды», неизследованный пробел между этими двумя реками составлял не менее 500 километров по прямой линии, и горы, которые высятся в промежуточном пространстве, были еще совершенно неизвестны. При том, сведения, собранные Уилькоксом, относительно реки, по которой он поднимался, были совершенно недостаточны, чтобы оправдать его мнение о тождестве двух названных рек: он должен бы был доказать прежде всего, что Дихонг катит количество воды, превосходящее объем жидкой массы Цзанбо, ибо под небом столь дождливым, как небо Ассама, ручьи и реки увеличиваются, можно сказать, заметным для глаза образом. Между тем он ограничивается сообщением, что в том месте, до котораго он доехал во время своего путешествия, Дихонг имеет 100 ярдов (91 метр) в ширину, и что течение его тихое; но глубина, которую он предполагает «огромной», осталась ему неизвестной, так как путешественник даже не дал себе труда измерить ее при помощи камня и веревки.
В наши дни проблема, о которой идет речь, заключена в более тесные пределы. По вычислениям Уокера, пространство совершенно неисследованное, которое отделяет крайний пункт, достигнутый англо-индийским исследователем Н—м—г. на реке Цзанбо, высшей точкой, до которой могли подняться вверх по Дихонгу, равна с точностью 155 километрам, а разность уровней воды составляет около 2.250 метров. Если бы эти две реки составляли продолжение одна другой, то общее падение, для приблизительного течения в 200 километров, было бы, следовательно, немного более одного метра на сто,—покатость, какой ни одна река в свете не представляет в средней части своего течения, какую можно встретить только в долинах горных потоков в самом сердце гор. Неопределенные рассказы, передаваемые миссионерами, говорят, правда, о каких-то порогах и водопадах, которые будто бы стремительно уносят воды Тибета в низменные равнины; но мы не знаем, к каким именно рекам и ручьям относятся эти рассказы туземцев, и до сих пор ничто еще не обнаружило существование Ниагар, которые, казалось бы, можно было ожидать увидеть в этой части Азии, Ниагар, низвергающихся одним потоком или ниспадающих со ступени на ступеню, скачками в сотню метров высоты.
Впрочем, точные измерения, произведенные в это последнее время относительно количества протекающей воды в Брамапутре и ее притоках, тоже говорят не в пользу гипотезы Реннеля, Уилькокса и Уокера; во всяком случае, эти изменения показывают, что географы слишком поторопились, без достаточного основания, написать окончательно на картах Тибета имена Дихонга или Брамапутры, вместо имени Цзанбо. Стоки Субансири, Дибонга, верхней Брамапутры доказывают, что все эти реки, по объему жидкой массы, гораздо менее значительны, нежели Цзанбо у Четана, и, следовательно, объем их еще гораздо меньше, чем объем тибетской реки, когда она спустится на 300 километров ниже Четана. Что касается Дихонга, то, по измерениям Вудторпа, эта река несет в секунду 1.550 кубич. метров воды в период снегов, когда уровень ее начинает подниматься, и, судя по величине площади песчаных берегов, затопляемых во время разливов, сток при больших наводнениях колеблется между 10.000 и 12.000 куб. метров в секунду. Но эта жидкая масса представляет как раз такой объем, какой доставлял бы речной бассейн, ограниченный мысленно цепью Загималайских гор, ибо в этой области, которая, по обилию дождей, занимает первое место в свете, падение атмосферной воды, достигающее в некоторых долинах 15 и 16 метров, составляет средним числом по меньшей мере 4 метра, и естественное истечение,—такое, впрочем, каким оно оказалось в действительности по измерениям, сделанным в долинах гор Гарро,—может быть исчисляемо в 50 и до 75 литров на квадр. километр поверхности. Для снабжения этого истечения, достаточно было бы бассейна, площадь которого равнялась бы от 20.000 до 30.000 квадр. километров; неизвестное пространство, отделяющее долину Цзанбо от долины нижнего Дихонга, довольно обширно, чтобы содержать бассейн такого размера, включая сюда бассейн реки Лопра-ко-чу, которая течет на западе, между Гималайскими и Загималайскими горами, и нижнее течение которой еще не изследовано.
Напротив того, сравнительный сток речных вод, как он был определен приблизительно для Цзанбо и с точностью для Иравадди, повидимому, оправдывает китайскую карту, воспроизведенную д'Анвиллем, по которой бирманская река составляет продолжение Цзанбо. У Бамо Иравадди, о котором Уилькокс, на основании свидетельства путешественников, говорил как о «маленьком ручейке», катит, в период разлива, более 30.000 кубич. метров воды в секунду: среднее количество протекающей воды составляет в этом месте около двух третей объема реки при устье, так что, следовательно, оно там не меньше 9.000 кубич. метров. Правда, что в сухое время года, с ноября до июня, сток нижнего Иравадди может упасть до 2.000, даже до 1.350 куб. метров в секунду, но тогда эта могучая река не получает более воды из облаков и оскудевает от верховья до низовья вследствие испарения. Тем не менее остается объяснить, каким образом Иравадди может иметь столь значительный средний объем воды у Бамо и в области, где годовое падение дождя, гораздо меньшее, нежели в бассейне Брамапутры, не превышает, вероятно, 130 сантиметров. Чтобы объяснить большой сток этой реки при Бамо, нужно приписать ей значительную площадь истечения, а между тем на большей части карт бассейн Иравадди отчетливо ограничен на севере от бирманских пределов амфитеатром гор. Хотя Уилькокс и Борльтон видели близ ее истоков на бирманской территории, ручей который они называют Иравадди, но из этого еще не следует, что это та же самая река, тем более, что эти изследователи и сами слышали о существовании большого восточного потока, принадлежащего к тому же бассейну, но до которого они не пытались добраться.
Какие бы ни высказывались предположения относительно излучин и направления реки Цзанбо, по выходе ее из горного ущелья, в котором она скрывалась из виду у индусского путешественника Н—м—г., нужно воздержаться от окончательного решения вопроса, прежде чем будут собраны несомненные доказательства, и подождать по крайней мере, чтобы бревна или стволы деревьев, занумерованные и спущенные стараниями ост-индского топографического бюро, приплыли с нагорий Тибета в равнины Бенгалии или Бирмы. Из вышесказанного видно, что эта область Азии еще менее известна нам, чем в последнее время центральная Африка, благодаря трудам Стенли, Ливинстона и др. Вероятно даже, что безосновательные гипотезы Реннеля, Уилькокса и других географов только увеличили путаницу понятий по поводу бассейнов Брамапутры и Иравадди. Проблемы, которые, быть может, уже были решены древними китайскими географами, снова приняли для нас всю свою таинственность. Будем надеяться, что скоро откроется путь между Ассамом и Тибетом, и что дикари племени абор и пограничные китайские власти позволят исследователям подниматься из равнин на плоскогорья, через леса, болота и горы!
На севере от низменности, в которой течет Цзанбо, Тибетское нагорье было изрезано текучими водами на безчисленное множество долин: это то же самое явление,—только в больших размерах,—которое мы видим на краю глинистых террас, где проливные дожди вырывают глубокие рытвины. Южные муссоны, дующие с Бенгальского залива находят широкие проходы в Гималайском хребте и без труда поднимаются к притягательному фокусу, который образуют, в летние месяцы, нагорья Хачи. Следовательно, восточная покатость возвышенностей получает в изобилии дождевые воды, почерпаемые атмосферными течениями в Индийском океане. В то время, как сухость почвы, разреженность воздуха, палящий зной летом, страшный холод зимой делают нагорья почти неприступными, область оврагов представляет большие трудности для путешественника по причине неровности рельефа, крутых скал и глубоких пропастей, горных потоков и рек, лесов и диких населений, обитающих в лесных прогалинах. Оффициально наибольшая часть этой страны зависит от Тибета, и административные центры установлены там, как и в других провинциях; тем не менее многие народцы этой области могут считаться совершенно независимыми. Ни одна из армий, которые снаряжались для завоевания их, не могла до сих пор овладеть вполне этим краем, изрезанным на бесконечное множество маленьких бассейнов и если дикие народцы, населяющие страну, находили выгодным признавать за собой верховную власть либо Тибета, либо Китая, то только для того, чтобы иметь возможность беспрепятственно вести торговлю своими произведениями. Никакая значительная политическая группировка не могла образоваться в этом лабиринте долин; во всей этой области нет ни одной большой аллювиальной равнины, куда бы толпой устремилось население, и где выстроились бы города, которые смогли бы служить ядром государства в собственном смысле.
Хотя эта страна, столь трудно доступная, была не раз посещаема путешественниками, преимущественно миссионерами, но большинство их не могли начертить точную карту пройденного пути, и лабиринт этих гор, в пятнадцать раз более обширный, чем группа швейцарских Альп, еще долго останется неизвестным: в настоящее время можно только попытаться определить общее направление и расположение горных хребтов. Параллельно цепи Тан-ла другие хребты тянутся до области озера Куку-нор, и все они примыкают к цепям, гребни которых следуют почти по направлению с севера на юг, и которые продолжаются далеко, теряясь в Бирме и в других странах полуострова по ту сторону Ганга: эти горы образуют индо-китайскую систему, о которой говорит Рихтгофен. Все системы гор пересекаются, и в углах пересечения образовались многочисленные изломы, через которые уходят реки верхних бассейнов. Насколько можно судить по маршрутам путешественников и по кратким картам, которые они составили, при помощи китайских документов, реки провинции Кам указывают, направлением своих долин, общее ориентирование горных цепей. Все эти реки текут сначала на северо-восток, параллельно хребтам группы Тан-ла и других цепей, расположенных по краям плоскогорья; затем, после того, как течение их нашло выход к западу, они изгибаются мало-по-малу к югу, следуя по одной из узких, глубоких долин индо-китайской системы. Так, Цзанбо, как удостоверяет новейший исследователь его течения, направляется на северо-восток, прежде чем образовать изгиб и повернуть к южным равнинам. Из сравнения карт видно, что Салуэн и Меконг тоже описывают, но гораздо большим радиусом, чем Цзанбо, подобные же кривые, и самый Ян-цзы-цзян, развертываясь параллельно Меконгу, сопровождает его к югу на пространстве нескольких сотен километров, до пролома в горах, через который он круто поворачивает на восток, и, следуя в этом направлении, проникает в так называемый собственно Китай. Ни в какой другой стране земного шара не увидишь столь замечательного примера независимых рек, текущих в параллельных долинах на таком близком расстоянии одна от другой и затем расходящихся в разные стороны и впадающих в разные моря. Между устьями Иравадди и Ян-цзы-цзяна, которые получают воды с одних и тех же гор, и которые долго текут вместе, по одному и тому же пути, протяжение морских берегов составляет по малой мере 9.000 километров. А между тем реки, устья которых удаляются на такия огромные расстояния, протекают часть Тибета в смежных долинах и так близко одна от другой, что с первого взгляда их можно принять за параллельные рукава одной и той же реки. Юль сравнивает расположение этих далеко расходящихся рек с той формой, какую древние греки придавали громовым стрелам Зевса.
Поток, выходящий из озера Чаргут и принимающий в себя в то же время воды истечения бассейна Тенгри-нор и большей части озер юго-восточного угла нагорья Хачи, образует значительную реку, которую Гюк и пундит Найн-синг описывают под именем Нап-чу или Нак-чу. Но по выходе с плоскогорья, эта река часто меняет название, смотря по стране, через которую протекает, и по языкам народцев, обитающих на её берегах. Вообще, как это заметил уже Франсис Гарнье, во всех частях Китая и особенно в этой части Тибета имена рек представляют местные названия: нигде одно и то же наименование не продолжается для одной и той же реки на пространстве более 100 километров. Так и Нап-чу принимает последовательно названия Хара-усу, Ом-чу, Ань-цзе, Ну-цзян, Лу-цзян. Это обильное разнообразие имен так же, как и трудности исследования на месте, были причиной того, что географы, так сказать, заставляли эту реку путешествовать на картах через долготы и широты. В то время, как братья Шлагинтвейты, гипотеза которых принята и Петерманом, полагают, что Нап-чу есть не что иное, как Дибонг, та река Ассама, которая соединяется с Дихонгом в небольшом расстоянии выше впадения последнего в Брамапутру, Дегонен, проехавший по средней долине «реки народа луце» или Лу-цзян на пространстве около 400 километров, убедился, что она течет на восток от Брамапутры и отождествляет ее с Салуэном. Он не сомневается также, что Лань-цань-цзян, то-есть «Река Большого Дракона» то же самое, что Меконг или Камбоджа, и это мнение было подтверждено исследованиями французской экспедиции, ездившей на Меконг, хотя Шлагинтвейты, Киперт, Петерман, как кажется, питающие некоторое пристрастие к Брамапутре, произвели и Лань-цань-цзян в данники этой последней реки: они принимали его за Лохит или Красную Брамапутру, бассейн которой, теперь достаточно известный, находится почти весь на южной покатости высот, составляющих продолжение Гималайского хребта. Выше мы сказали, что английский географ Юль, считает Лохит продолжением Гакпо, небольшой тибетской реки, которая течет на севере от Цзанбо и параллельно его долине.
Из всех этих рек, спускающихся с плоских возвышенностей Тибета, и которые должны пробираться по глубоким расселинам между скал, чтобы выйти из области гор и достигнуть низменных равнин, Лань-цань-цзян проходит, быть может, через самые дикия теснины и ущелья. У Иеркаля, где поток находится на высоте 2.250 метров над уровнем моря, стены утесов поднимаются на несколько сот метров над поверхностью реки и во многих местах стоят почти перпендикулярно. К югу от Атенпе бока утесов так круты, что не везде можно было проложить тропинку во внутренности ущелий, а потому приходится там и сям взбираться до высоты 450 и даже 600 метров над уровнем реки, которая с этих террас представляется в виде простого ручья: камень, брошенный в пропасть, перескакивает с уступа на уступ, пока достигнет воды, бегущей по дну. Одна теснина, которую Купер назвал «дефиле Гогга», по имени одного из своих друзей, представляет настоящую трещину, ширина которой менее 20 метров, и которая кажется даже совершенно смыкающейся там, где выступы стен и нависшие скалы останавливают взор. В самой узкой части этого ущелья принуждены были устроить между вертикальными стенами род пола или помоста, поддерживаемого на сваях, косвенно вбитых в камень: эта перекладина, кое-как сколоченная из гнилого, источенного червями леса и очень дурно содержимая, позволяет видеть сквозь щели между досками поток, который, кружась и пенясь, беловатыми водоворотами несется по дну черной трещины. Когда караван должен проходить по узкому помосту, вперед шлют гонцов на другой конец ущелья, чтобы останавливать путешественников, едущих или идущих в противоположном направлении. Во многих местах течения этих рек, там, где ущелья представляют с той и другой стороны легко доступные террасы, устроили летучие мосты, напоминающие несколько tabaritas колумбийцев, или «корду», которая в былое время служила средством перехода через теснину реки Эро, близ Сен-Гильем-ле-Дезер, в Лангедоке, и другие мостики того же рода, употребляемые пастухами и контрабандистами для переправы с одного берега на другой, в теснинах Дуэро. Простой канат, сплетенный из волокон бамбука, протянут с одной стороны ущелья на другую, с довольно большим уклоном для того, чтобы предмет, скользящий по веревке, при помощи подвижного кольца, тоже бамбукового, увлекался собственной тяжестью до площадки противоположного берега: крепкия ременные привязи принимают путника или животное, которым нужно переправиться через реку, и в одно мгновение ока пространство пройдено. Чтобы вернуться, надо подняться на верхнюю площадку, откуда идет другая веревка, протянутая наклонно в противоположном направлении,—и снова совершен переход через бездну. Впрочем, план этих головокружительных качелей более или менее разнится в разных местностях страны.
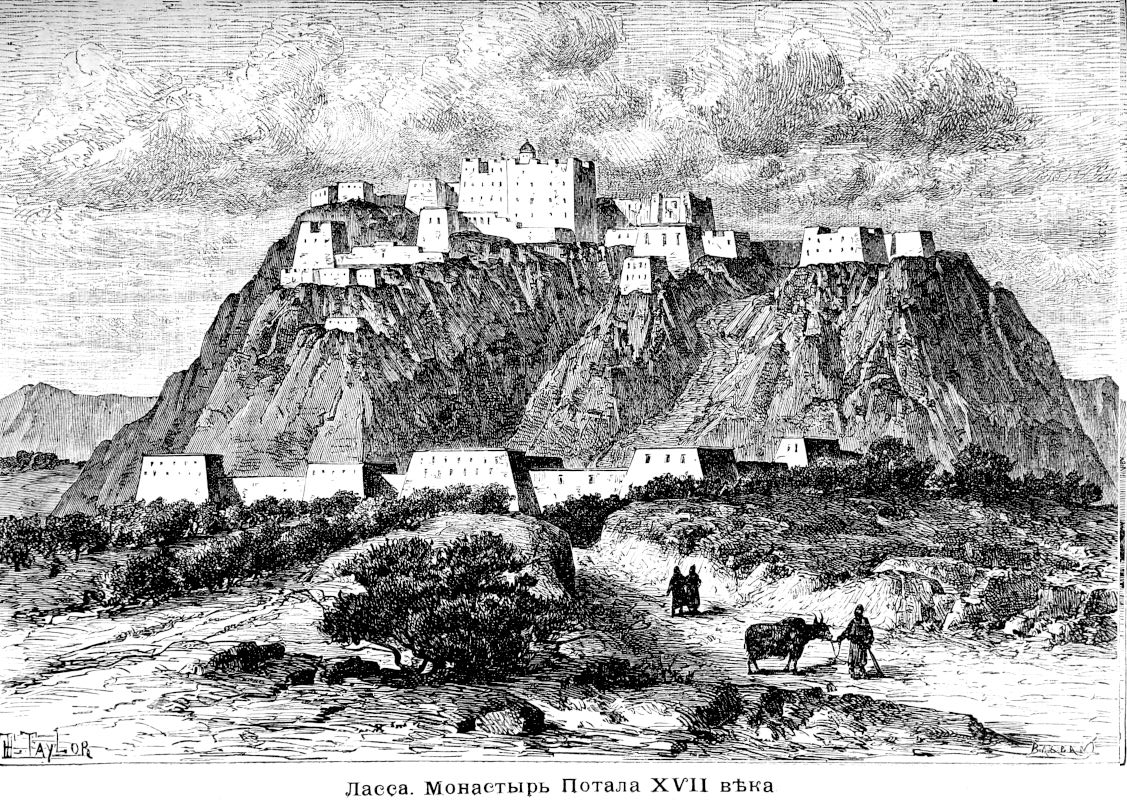
Весьма вероятно, что большое число этих глубоких вырезок рельефа были вырыты водами в грудах обломков горных пород, подобных тем желтым Землям, которые занимают столь значительное пространство в бассейнах центральной Азии и Желтой реки (Хуан-хэ). Рихтгофен полагает даже, что все плоскогорье Хачи некогда продолжалось на восток, и что выступы гор, разделяющие нынешния долины рек Лу-цзяна, Лань-цань-цзяна, Цзинь-ша-цзяна составляют лишь незначительные остатки этой сплошной возвышенности. Но каковы бы ни были явления размыва, мы находим много признаков, которые свидетельствуют о большой перемене, происшедшей в климате страны. Слои красноватой жирной глины, подобные глетчерным глинам Европы, груды больших камней, оставленные в долинах, и особенно параллельные горки, в форме запруд, через которые горные потоки должны были открывать себе выход, заставляют думать, что ледники спускались прежде гораздо ниже в бассейнах рек восточного Тибета.
Хотя ледники удалились из долин и нижних цирков к вершинам гор, нынешний климат Тибета достаточно характеризуется названием «Царства снегов», которое обыкновенно дают этой стране все её соседи; по словам Турнера, жители Бутана называют ее просто Пуэкоашим или «Северным снегом». Обитатели окружающих равнин, видя всегда беловатые гребни гор, когда смотрят в направлении Тибета, не могут представить себе этот край иначе, как постоянно покрытым глубокими снегами. Тем не менее, чрезвычайная сухость воздуха, простирающагося над плоскими возвышенностями, на севере от двойного хребта Гималайских и Загималайских гор, уравновешивает следствия высокого положения над уровнем моря. Случается, что в продолжение целых месяцев не выпадет ни одной снежинки, а когда и осядет немного атмосферной влаги в этой форме, то ветер тотчас же уносит ее в овраги, или, если снег выпадет летом, солнце тотчас же растопит его своими жгучими лучами. На юго-восточном углу Тибета пояс постоянных снегов начинается на высоте от 5.670 до 5.730 метров, то-есть на высоте, лежащей на 900 метров выше вершины Мон-Блана; даже на высоте 5.975 метров на Кайласком перевале, Форсайт нашел голую скалу. На южных склонах Гималая, снега, густо приносимые ветром, спускаются гораздо ниже, нежели на северной или тибетской покатости, и проходы этих гор запираются ранее, чем более высокие перевалы, перерезывающие на севере различные хребты Тибетского плоскогорья: даже в средине зимы можно отправиться из Кашмира в Яркенд, благодаря незначительной глубине снегов. Сухость воздуха так велика в некоторых областях Тибета, что нужна обвертывать парусиной или какой-нибудь материей двери и деревянные колонны в домах, иначе они потрескаются; чтобы предохранить кожу от трещин, многие путешественники имеют привычку натирать себе лицо какой-то черноватой мазью. Животные, погибающие на дороге во время перехода через плоскогорья, высыхают мало-по-малу: некоторые из самых трудных перевалов обставлены по сторонам этими мумиями яков, лошадей, овец. Когда одно из вьючных животных падет в дороге, люди каравана имеют привычку вырезывать из мяса лучшие куски и нацеплять их на шипы колючих кустов для того, чтобы будущие караваны нашли готовую провизию вдоль своего пути.
Но если снега относительно мало обильны на этих горных странах, среднее возвышение которых, однако, значительно превосходит среднюю высоту европейских Альп, климат там, тем не менее, очень суров. Гюк, Пржевальский, Дрю и другие путешественники рассказывают о страшных холодах, которые им приходилось переносить, и к которым присоединяются еще страдания, причиняемые недостатком кислорода для дыхания. При переходе через возвышенные перевалы и высокие гребни гор, разреженность воздуха делает подъем и вообще движение очень трудными, так что всякое усилие становится тяжелым, и не только люди, но даже животные страдают так называемой «горной болезнью»; часто верблюды падают словно пораженные громом, «отравленные, как говорят китайские писатели, смертоносными парами, поднимающимися с земли». В 1870 г. один караван, отправившийся из Лассы в феврале месяце, в числе трех сот человек, потерял тысячу своих верблюдов, погибших во время страшных буранов, и достиг цели своего путешествия, оставив по дороге пятьдесят человек своих товарищей. Зимой все ручьи и реки, все озера замерзают, не только на плоскогорьях, но даже и в долинах, берущих начало на этих возвышенностях: нужно спуститься до высоты 2.400 или даже 2.100 метров над уровнем моря, чтобы попасть на берег рек, свободно катящих свои воды. Даже в июле и августе караваны часто, при переходе через перевалы, находят воды замерзшими, и, чтобы напиться и напоить животных, принуждены растапливать снег. Когда порыв ветра охладит атмосферу, потоки рек, площади озер быстро превращаются в лед. Яки, у которых космы длинной шерсти обвертываются, словно чехлами, белыми сосульками из кристаллизованной воды, идут медленно, широко расставляя ноги, отягченные безобразной массой висящих льдин. Гюк рассказывает, что, переходя по льду через р. Муру-усу, в верхней части её течения, он заметил издали штук пятьдесят каких-то бесформенных, черноватых предметов, выстроенных в шеренгу поперег реки. Подойдя ближе, он узнал в этих предметах диких быков, которые, очевидно, хотели переправиться через поток, но были охвачены внезапно образовавшимся льдом: положение тел в плывущей позе было явственно видно под прозрачной, как хрусталь, ледяной корой; их красивые головы, увенчанные большими рогами, остались над поверхностью замершей воды; но орлы и вороны выклевали им глаза.
Лучеиспускание теплоты в воздушные пространства под ясным, совершенно безоблачным небом, способствует, в сильной степени, охлаждению области плоскогорий, и для путешественников леденящая стужа этих возвышенностей тем более страшна, что топлива там почти совсем не достанешь: с большим трудом и после долгих поисков удается собрать там и сям кое-какого хвороста; за исключением некоторых, занимающих благоприятное местоположение, становищ, везде нужно запасаться в дорогу калом яка, киеуа, как его называют тибетцы. По счастью, ночи почти всегда тихи: это объясняется тем, что температура тогда везде равномерна, и потому нет никаких притягательных фокусов, которые бы вызывали движение атмосферных токов; но в течение дня, когда плоскогорья освещены солнцем, между тем как долины и низменности остаются в тени и в холоде, страшные ветры выметают поверхность почвы, поднимая вихри пыли: все путешественники с ужасом говорят об этих вьюгах. В некоторых низменных местностях земледельцы имеют обыкновение затоплять водой свои поля при наступлении зимы, чтобы предохранить растительную землю от разрушительного действия ветра; кроме того, этот способ увеличивает производительность почвы.
Разсматриваемое в совокупности, плоскогорье Тибета, резко ограниченное высокими горными массами и краевыми цепями, отличается сухостью воздуха, суровостью климата, крайностями тепла и холода; дожди и снега приносятся туда с Индийского океана в незначительном количестве, сила южных муссонов истощается, в виде вихрей и проливных дождей, в долинах Гималая, и только верхний встречный пассат обнаруживается в высотах пространства клубами снега, вылетающими с вершин Кинчинджунги и других исполинов Гималая. Однако область восточного Тибета, к которой подходит в виде полукруга обширный Бенгальский залив, принадлежит уже отчасти к климату Индии: ветры проникают в эти страны через проломы гор, которые с этой стороны гораздо ниже, чем на западной окраине, и приносят обильные дожди, особенно в период «ирр», то-есть дождя, обнимающего три месяца: август, сентябрь и октябрь; все реки, получающие начало в этой части Тибета, в близком расстоянии одна от другой, питаются этими ливнями еще гораздо более, чем от таяния снегов. Особенно обильны и часты дожди в апреле и мае; они начинаются ранее на этих возвышенностях Тибета, нежели в низменных равнинах Индостана, по причине более быстрого охлаждения атмосферных течений в этих высоких областях и происходящего оттого сгущения водяных паров.
Высота тибетских плоскогорий, на запад от провинции Кам, слишком значительна, для того чтобы древесная растительность могла иметь где-либо представителей, кроме как в лощинах, оврагах и ущельях, да и в этих впадинах, хорошо защищенных от холодных ветров, ивы, тополя и кое-какие плодовые деревья суть единственные древесные породы, которые можно встретить; в других местах увидишь только низенькия или даже стелющиеся по земле деревца, едва достигающие в высоту роста человека; впрочем, ламам садовникам удалось выростить прекрасные тополи вокруг монастыря Мангнанг, в провинции Нари, на высоте 4.104 метров. На большей части открытых ветрам плоскогорий, поднимающихся выше 4.000 метр., вся растительность состоит из злаков, тонких и жестких, как шило, которые в конце концов прокалывают роговую оболочку копыта верблюдов и разрезывают им ноги до крови. Однако, одно деревянистое растение, дерево по своим корням и по своему лежащему стеблю, называемое по-тибетски ябагере, стелется еще по земле на высоте 4.500 метров; в некоторых местах его увидишь даже там, где и трава уж даже не может расти, по причине крайней сухости воздуха или солонцоватости почвы; Годвин Аустен нашел это деревцо растущим в изобилии на плоскогорье Чон-чегму на высоте 5.500 метр. над уровнем океана. В северной части Тибета растут по скатам гор ползущие по земле кустарники облепихи, тибетской осоки, курильского чая и др.. Пундит Найн-синг видел засеянные ячменем поля, на высоте более 4.640 метров, то-есть почти на высоте вершины Монт-Роза; весь бассейн Омбо в котором находится озеро Дангра-юм, имеет вид обширной чащи зелени; там и сям другие «санги» одеты сплошным ковром мягкой, нежной муравы, такой же «бархатной, как луга Англии»! В самых холодных областях, где еще живут тибетцы, зерновые хлеба редко вызревают, и туземцы этих местностей не имеют других источников продовольствия, кроме молока и мяса, доставляемых их стадами. Что касается долин юго-восточной покатости Тибета, занимающих уже гораздо менее возвышенное положение, нежели плоскогорья, и получающих в изобилии дождевые воды, то они покрыты огромными лесами: эта часть Тибета одна из самых лесистых стран земного шара. Между большими деревьями этих лесов особенно замечателен падуб иглистый, резко отличающийся от своих европейских родичей удивительным развитием, которое он приобретает: он не достигает такой высоты, как сосна, но не уступает последней в отношении толщины ствола и много превосходит ее богатством и обилием листвы.
Если тибетским возвышенностям не достает лесного убора, каким щеголяет южный склон Гималайского хребта, то они далеко превосходят эти южные скаты богатством и разнообразием своей фауны: лишенные лесов, эти плоскогорья изобилуют животными, дикими и домашними. Тибет, который зоологи считают особенною областию, обладает специальной фауной, одною из самых богатых, к которой, между прочим, принадлежат джигетаи, ослы, яки (монгольский бык), разные породы овец, несколько видов антилоп, газели, косули. Найн-синг насчитывал до двух тысяч антилоп, бродивших стадами и напоминавших издали полки солдат своими остроконечными рогами, блестевшими на солнце, как штыки; эти животные, которых путешественники с удивлением встречают иногда в местностях, совершенно лишенных растительности, очень хорошо знают все пастбища нагорья и посещают их последовательно, одно за другим, проходя каждый год тысячи верст. Братья Шлагентвейты видели яков на высоте 5.940 метров, а тарбаган или сурок-байбак (arctomys bobac) роет свои норы в глинистой земле еще на высоте 5.480 метров. Лисицы, шакалы, дикия собаки, белые волки с пушистой шерстью, какая, впрочем, свойственна всем четвероногим животным Тибета, гоняются за дичиной, а в соседстве озера Тенгри-нор белые медведи, похожие на медведей полярных стран, иногда делают большие опустошена в стадах. В восточном Тибете фауна еще гораздо богаче, чем на плоскогорьях, яки пасутся там стадами и нередко становятся добычей рысей и пантер; мускусные лани живут в лесах верхних склонов выше 2.600 метров; обезьяны, белки, свиньи мелкой породы населяют леса низменных областей, а медведи опустошают плантации маиса. В сравнении с фауной млекопитающих, птицы здесь редки, но зато высота, до которой они поднимаются, по истине изумительна, так как кукушку можно встретить еще на высоте 3.300 метр., жаворонка на высоте 4.500 метр., а другие виды даже до высоты 5.500 метр.. В собственном Тибете, вне мест перелета, путешественник нигде не услышит певчих птиц; он увидит только, парящими высоко над его головой хищников, орлов, ястребов, питающихся падалью, воронов, замечательных, как и полярные вороны, металлическим звуком своего голоса. В лесах восточного Тибета летают фазаны. Немногочисленные ящерицы и змеи показываются еще в некоторых частях Тибета до высоты 4.630 метров, и даже, на высоте еще более значительной, в озерах нагорья водятся рыбы. Тогда как на Альпах крайний предел обитания рыб находится на высоте 2.130 метр., Герман Шлагинтвейт видел в озере Могналари, на высоте 4.240 метров, некоторые породы лососей, которые каждый год, подобно морским лососям, поднимаются в верхнее пресноводное озеро для метания икры. По словам пундита Найн-синга, рыбы массами плещутся в озере Киаринг, в горных потоках, впадающих в этот бассейн, и в водах озера Тенгри-нор, на высоте 4.570 метров; еще выше, на высоте 4.647 метр. над уровнем моря, форели прыгают на поверхности озера Мансаровар, когда ветер приносит туда тучи комаров. В озерах, сделавшихся солеными, пресноводные рыбы приспособились к своей новой среде.
Тибетцы приручили многих из животных свойственных их стране. Между этими прирученными животными одно из главных мест занимает як, от скрещивания которого с индийской коровой зебу получилась особая порода, называемая дзо, разновидности которой все различаются мастью шерсти, тогда как дикий як всегда остается черным; в четвертом поколении эти животные возвращаются к первоначальному виду. Як, хотя всегда немного упрямый, служит тибетцам вьючным животным и сопровождает их в путешествиях по плоскогорью; однако при переходах через самые возвышенные хребты, употребляются для переноски тяжестей, бараны, так как яки менее выносят холод и усталость; каждая овца несет средним числом от 20 до 30 фунтов клади, не получая другой пищи, кроме травы, какая попадется по краям дороги. Во время путешествия пундита Найн-синга вьючные бараны сопровождали его на пространстве более 1.600 километров. Лошади и джигетаи сделались для тибетцев превосходными верховыми животными, замечательными по их необычайной выносливости и неразборчивости относительно корма. Но самое драгоценное из домашних животных Тибета—коза, пашм, короткий пух которой, скрытый под наружной шерстью, имеет столь высокую цену для выделки знаменитых кашмирских шалей. Собаки, большие и страшные, не употребляются для охоты, а только для охраны домов и стад, особенно стад вьючных баранов: в Индии они вырождаются, но несколько собак этой породы, привезенных в Англию, совершенно акклиматизировались.
Главная масса тибетского населения, если оставить в стороне хоров и соков, то-есть тюрков и монголов плоскогорья Хачи, и различные независимые народцы провинции Кам,—принадлежат к одной и той же группе расы, называемой монгольской. Это люди маленького роста, но широкоплечие и широкогрудые, резко отличающиеся от индусов толщиной своих рук и ног, но имеющие, как и они, красивые и тонкия кисти и ступни. У большинства тибетцев скулы выдающиеся, переносье глубоко взрезывается между двумя черными глазами, немного прищуренными, рот большой с тонкими губами, лоб широкий, обрамленный темными волосами. Как и в Европе, в Тибете можно встретить все оттенки кожи, от самой нежной с белизной у богатых до желтого и медно-красного цвета, у пастухов, подвергающихся всем непогодам и переменам температуры; но она очень рано покрывается морщинами: уже у молодых людей лицо изборождено складками. Во многих нагорных долинах кретины многочисленны. Проказа и водобоязнь довольно обыкновенные болезни на плоскогорье.
Тибетцы бесспорно один из наилучше одаренных народов земного шара: почти все путешественники, которым удавалось проникнуть в их страну, в один голос хвалят их кроткий нрав, их гуманность, прямодушие, искренность их слов и поступков, их чувство собственного достоинства без чванства у знатных и богатых, без натяжки у простолюдинов. Сильные физически, мужественные, веселые от природы, страстные охотники до музыки, пляски и пения, тибетцы были бы образцовым народом, если бы ко всему этому обладали еще духом инициативы и независимости. Но они очень легко подчиняются чужой воле и позволяют обращать себя в стадо. Что скажут ламы, то для них закон. Даже воля китайских резидентов, несмотря на то, что они совершенные чужеземцы, свято исполняется, и таким-то образом нация, столь радушная и гостеприимная, дошла до того, что в угоду своим иностранным повелителям должна стеречь собственные границы, чтобы не пропускать европейских путешественников. Населения, более или менее смешанные, восточного Тибета, на границах с Китаем и в местах прохода китайских войск, которые их грабят, и мандаринов, которые их притесняют, как кажется, не отличаются такими же хорошими нравственными качествами, как другие тибетцы: путешественники описывают этих пограничных жителей плутоватыми и трусливыми. Между тибетскими населениями плоскогорья нужно тщательно различать кампов и камбов. Кампы возвышенной долины Инда представляют большое сходство с ладакскими тибетцами: это люди всегда веселые, радостные, переносящие с изумительной безропотностью и покорностью духа то, что другим показалось бы несказанным несчастием; резко отличаясь в этом отношении от других тибетцев, они мало религиозны, и не было примера, чтобы кто-нибудь из этих детей поступал в монастырь. Что касается камбов, то это переселенцы из провинции Кам, лежащей к востоку от Лассы. Они странствуют в качестве нищих монахов, от становища к становищу и доходят до самого Кашмира. Там и сям некоторые группы их оставили бродячую жизнь и принялись за земледелие.
Жители Бод-юла—народ цивилизованный с давнего времени. Правда, каменный век сохранился еще до сих пор для некоторых религиозных церемоний; так, например, высшие жрецы употребляют при пострижении лам, так называемый «громовой камень». Этот период в истории развития человечества еще не исчез также на возвышенных плоскогорьях Тибета, где пастухи многочисленных становищ варят себе пищу в котлах, выдолбленных из камня; но последнее объясняется крайней изолированностью, недостатком сношений с остальным миром; им не безъизвестно о существовании меди и железа, и те из них, которые имеют возможность добыть себе металлические орудия, охотно делают это. По своей промышленности и своим знаниям тибетский народ принадлежит к группе азиатских населений, наиболее подвинувшихся к культуре. В некоторых отношениях масса тибетской нации является даже более цивилизованной, чем жители многих европейских стран, ибо в некоторых частях Бод-юла грамотность распространена между всеми слоями населения, и книги продаются там по такой дешевой цене, что их найдешь в самых бедных лачугах; впрочем, некоторые из этих сочинений приобретаются и хранятся просто ради приписываемых им чудодейственных свойств. По свободному развитию своего языка, который из европейских лингвистов изучали в особенности Чома-де-Кереш, Фуко, Шифнер, Иешке, тибетцы перешли уже тот период, в котором находятся еще китайцы. Моносиллабический характер их идиомов, весьма отличных от всех других азиатских языков, почти утратился: между тем, как оффициальный язык, точно определенный жрецами уже двенадцать столетий тому назад, был удержан для письменности, разговорная речь, увлекаемая течением жизни, мало-по-малу преобразовалась в полисиллабический (многосложный) идиом, и обычай разнообразить интонации для односложных слов, имеющих различное значение, начинает исчезать. Отдельные старинные слова, смысл которых потерялся, были присоединены к корням, чтобы образовать падежи имен существительных, наклонения и времена глаголов, а член употребляется для различения однозвучных слов. Различные письмена бодского или тибетского языка произошли от букв алфавита деванагари, употреблявшихся в санскритских книгах, занесенных в Тибет первыми буддийскими миссионерами. Мало найдется языков, в которых бы нынешнее произношение больше, чем в тибетском, разнились от правописания, установившагося много веков тому назад и доселе строго соблюдаемого: многие буквы пишутся, но не выговариваются, или выговариваются совершенно иначе, нежели как показывают их знаки.
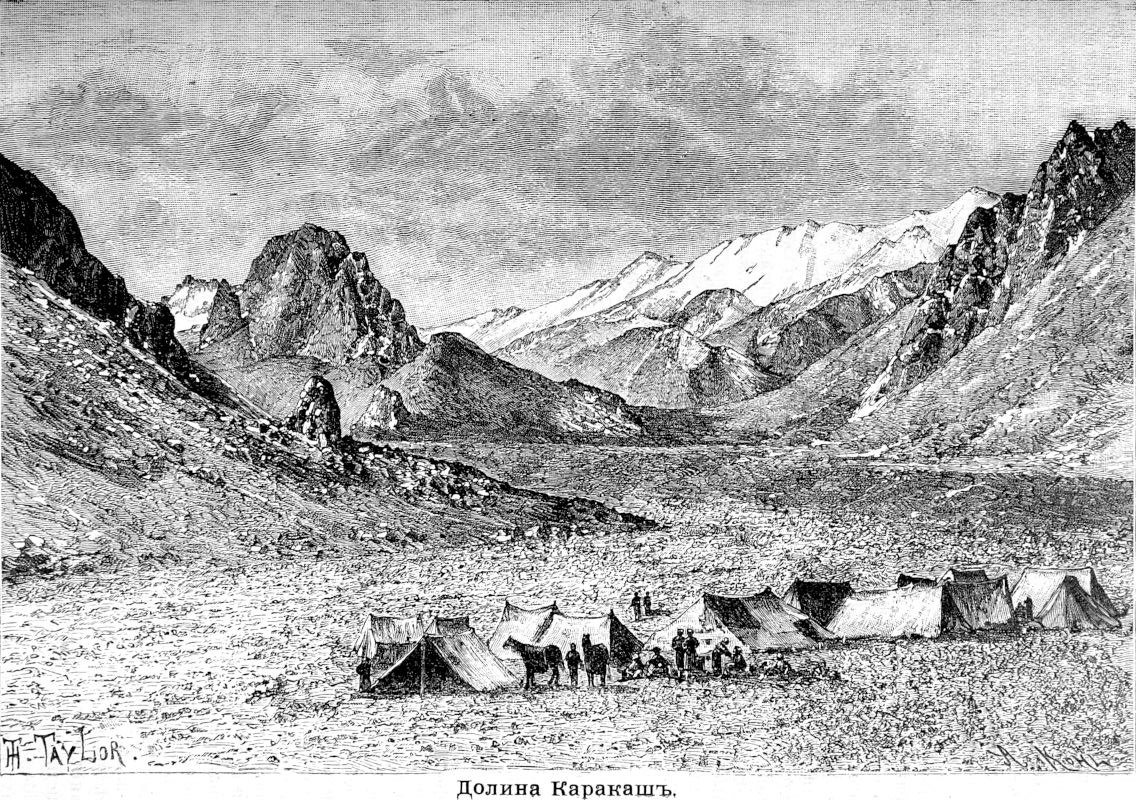
Тибетские наречия многочисленны и сильно разнятся одно от другого. Хотя населения бодского или тибетского корня переходят, далеко за нынешния границы Тибета, распространяясь на запад до Кашмира, на юг до Бутана, на востока до провинции Сы-чуань, однако многие из диких или полуцивилизованных народцев, живущих оседло или кочующих в восточных областях или на северных возвышенностях Тибета, принадлежат к различным расам, более или менее смешанным. На юге мишми, аборы и другие народности связаны по происхождению с обитателями Ассама. Другие племена юго-восточной области Тибета, арруты, ба-и или шионы, телуты, ремепуты говорят наречием мелам, тибетским диалектом с примесью множества иностранных слов. Амдоаны, живущие на северо-востоке в соседстве Гань-су, почти все знают два языка, свой родной и тибетский. Этот народ, у которого сильно развита любовь к странствованиям и переселениям, отличается быстрой понятливостью, сметливостью и способностью ко всяким работам: почти все чтецы и ламы высших школ, все равно как и высшие чиновники Тибета, принадлежат к их племени. На западе провинции Кам, по обе стороны сы-чуанской границы, населения, пребывающие еще в полудиком состоянии и известные по большей части под именами лоло или коло, маньцзы, лиссу, си-фань, названиями, лишенными всякого точного значения, принадлежат к особенным группам, и одни из них говорят диалектом очевидно тибетским, другие же употребляют наречия различного происхождения. Большая часть наименований, которыми китайцы и тибетцы обозначают различные племена этой страны, могут быть принимаемы лишь временно, до тех пор, пока мы не узнаем настоящих имен; в этих китайских и тибетских названиях нужно видеть просто насмешливые прозвища или даже ругательные клички, с негодованием отвергаемые самими населениями, к которым они применяются. Китайское влияние становится все более и более чувствительным в соседстве Сы-чуани и в больших городах Тибета. Так как китайским женщинам совершенно воспрещен въезд в страну, то все пришельцы из Срединного царства, живущие или странствующие на тибетских плоскогорьях, мандарины, солдаты или торговцы, временно берут себе в жены туземок. В силу последнего обстоятельства население пограничных округов состоит в значительной части из метисов, которые, сообразно среде, причисляются постепенно либо к тибетцам, либо к китайцам.
Выходцы из Срединной империи не единственные чужеземцы, живущие в тибетских городах. Непальцы и бутанцы, пришедшие из-за Гималайских гор, очень многочисленны в Лассе, где они занимаются обработкой металлов, тонкой ювелирной работой, литейным и котельным мастерством. Они живут в отдельном квартале и отличаются некоторыми особенностями религиозных обрядов; однако, в больших местных церемониях они присоединяются к другим буддистам. Затем в Лассе живет не мало мусульман, по большей части потомков переселенцев из Кашмира: это—качи, красивые мужчины, благородно носящие высокую чалму и длинную бороду и говорящие всегда с важным видом. Строгие исполнители Магометова закона, никогда не входящие в другие религиозные здания, кроме своей мечети, они живут особняком, как отдельный народ, и не вступают в брачные союзы вне своей колонии. Эти мусульманские жители тибетской столицы занимаются коммерцией; они имеют большие магазины материй и спекулируют драгоценными металлами. Одно время у них в Лассе был свой собственный губернатор, которому они подсудны, и который признавался министрами Далай-ламы.
Известно, что Тибет есть центр той религии, которая с успехом оспаривает у христианства первенство в отношении числа последователей. Тибетцы самые ревностные из буддистов, хотя их культ, изменившийся под влиянием прежних верований и обрядностей, а также под влиянием климата, образа жизни, сношений с окружающими народцами, только по внешним признакам походит на древнюю религию Шакия-Муни, четвертого из воплотившихся Будд. Только в пятом веке нашей эры, после первых попыток, сделанных за три столетия перед тем, индусские миссионеры начали с успехом дело обращения тибетского народа, обрядность которого, подобная обрядам китайскаго даосизма, состояла тогда в поклонении и принесении жертв озерам, горам и деревьям, представляющим силы природы; но прошло целых двести лет прежде, чем новый культ заменил общим образом в стране прежнюю религию Бон или Пен-бо:—первый храм был построен только в 698 году. Сто лет спустя, религиозные здания, монастыри и кумирни существовала уже во всех частях страны, и религия Будды озаряла Тибет, как «свет солнца». Это был золотой век теократического могущества, ибо, по выражению монгольского историка Сананг-Сецена, «безграничное уважение, которое питали к жрецам, давало народу благоденствие подобное состоянию блаженных духов». Однако, культы, предшествовавшие буддизму, как кажется, не были совершенно побеждены, так как по свидетельству того же писателя, «любовь к добрым мыслям и похвальным поступкам была впоследствии забыта, как сновидение». Вероучение было восстановлено во всей своей силе только в конце десятого столетия, но вскоре после того оно распалось на секты. Четыреста лет спустя тибетский буддизм подвергся религиозному обновлению. Монах Цзонхава предпринял пересмотр всего учения, составил новые правила, изменил обряды и церемонии: его последователи известны под именем «желтых шапок», и культ их сделался господствующим в Тибете, тогда как прежняя секта «красных шапок» сохранила свою силу в Непале и Бутане; но для обеих этих сект так же, как и для семи других, которые ныне существуют в Тибете, красный цвет остался одним из священных цветов для храмов и монастырей: по правилам, религиозные здания, кумирни, вообще сооружаемые в форме пирамиды, должны иметь северный фас окрашенный в зеленый цвет, восточный в красный, южный в желтый, а западный остается белым.
Реформатор Цзонхава был почитаем его последователями, как воплощение божества, как живой Будда, принявший вид человеческого естества. Он не умирает, но переходит из тела в тело под чертами хубильгана или «новорожденного Будды», и таким-то образом он вечно продолжается под видом Баньчань-ламы, имеющего резиденцию в святом монастыре Чжасилюмбу, близ Шигатцзэ. Другой воплощенный Будда занял место рядом с ним в почитании тибетцев и превосходит его в политическом могуществе, благодаря своему пребыванию в столице Тибета и своим непосредственным сношениям с китайскими министрами: это Далай-лама или «верховный жрец океана», о возведении которого на престол Будды рассказывают различно; говорят, что будто бы в шестнадцатом или семнадцатом столетии, вследствие нашествия монголов, признания верховной ленной власти со стороны китайского императора или монгольского великого хана, духовный князь города Лассы занял место между бессмертными божествами, возрождающимися сами собой, из поколения в поколение. Третьим воплощенным Буддой, в иерархии ламаистов, считается лама города Урги в Монголии; но кроме того существует еще несколько других, и даже настоятельница одного монастыря, находящагося на южном берегу озера Палти, в Тибете, почитается как божественное воплощение Будды.
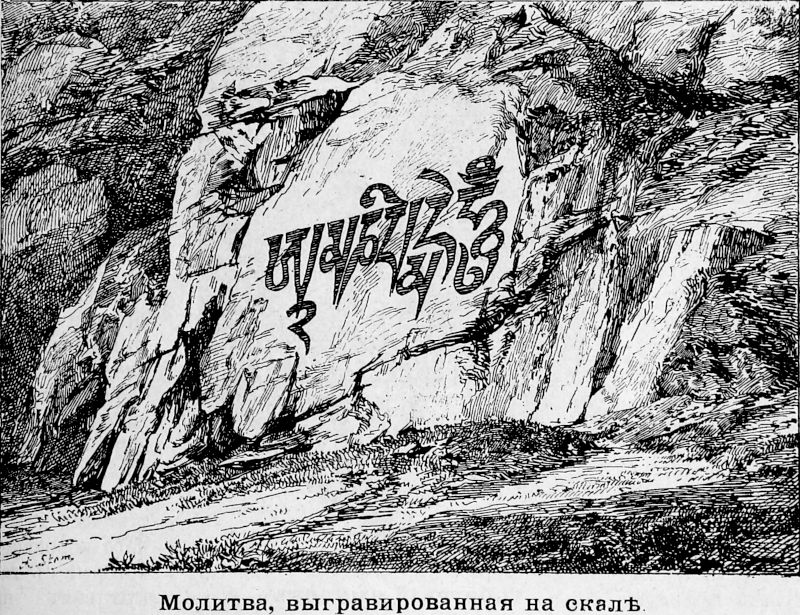
Между тибетскими буддистами некоторые редкие мистики, от природы склонные к самосозерцанию, к возвышенным умозрениям, как индусы, остаются верными учению, проповеданному первыми миссионерами буддизма, и поставляют себе высшей целью жизни и подвижничества либо избавления себя от всякой будущей метемпсихозы [переселения души], либо идеальное усовершенствование посредством уничтожения всего, что в них есть еще материального, и посредством возрождения на лоне вечно неизменного божества. Учители буддизма даже наперед делят совокупность верующих на три группы—на интеллигенцию, людей среднего ума и образования, и чернь, при чем последняя не имеет иной обязанности, кроме как только сообразоваться с точно формулированными заповедями и предписаниями: для массы духовенства и народа религия есть не что иное, как чародейство, и культ приносит пользу только как средство для устранения злых духов.
Жизнь большинства тибетцев проходить в вызываниях и заклинаниях духов в форме молитв. Шесть магических слов, «ом мани падме хум»,—которые большинство комментаторов переводят словами: «о! драгоценность в лотосе, да будет так!», но которые другие объявляют непереводимыми,—составляют, без всякого сомнения, формулу молитвы, всего чаще повторяемую. Эти священные слова, из которых каждое имеет свою особенную силу, представляют первые членораздельные звуки, которым научается монгольский или тибетский ребенок: они составляют единственную молитву, которую он будет произносить, но он будет говорить и повторять ее беспрестанно. Он не знает ни происхождения её, ни точного смысла, но что за беда! в ней, тем не менее, заключается самая суть религии, средство спасения по преимуществу: какую огромную цену придают верующие этой молитве, можно судить по тому факту, что в обмен на 150 миллионов экземпляров драгоценного воззвания, отпечатанных в Петербурге, ученый Шиллинг-фон-Каннштадт получил от бурятских лам в Сибири один экземпляр их неоценной святой книги. Священная надпись встречается повсюду: на стенах домов и храмов, на краю дорог, возле колоссальных идолов, грубо иссеченных в живой скале; мане или валы, воздвигнутые подле тропинок, сложены из камней, из которых каждый украшен таинственной фразой. Составлялись даже товарищества или религиозные братства единственно с целью ходить и вырезывать священную надпись на стенах гор огромными буквами: нужно, чтобы даже путник, быстро проезжающий на коне, и тот мог бы прочесть слово спасения. Каждый носит на одежде, на руках или на шее священные амулеты из золота, серебра или другого металла, содержащие, вместе с словами всемогущей молитвы, маленьких идолов или кусочки мощей, зубы, волосы или ногти святых лам. Корло или хортэн, молельные мельницы, употребляемые, впрочем, и в других странах, где господствует культ Будды, исключая Японии, нигде так не распространены, как в Тибете: применяют даже силы природы, ветер и воду, для приведения в вращательное движение этих цилиндров, каждый оборот которых показывает всевидящему небу мистические слова, управляющие судьбами людей. Подобно киргизам, бурятам, тунгусам и другим туземцам центральной и северной Азии, тибетцы имеют обыкновение водружать на перевалах через горы шесты с развевающимся флагом, и на этом флаге написана все та же молитва из молитв, которую ветер развертывает, и которую повторяет, так сказать, каждое движение, каждая волна воздуха: один из подобных шестов с флагом можно видеть на вершине горы Гуншакар, на высоте более 6.000 метров. Буддистские пилигримы приносят также аммониты на высшую точку горных порогов и рядом с этими ископаемыми раковинами кладут, в видах удаления злых гениев, приношения, состоящие из костяков и черепов аргали, большого дикого барана [ovis ammon].
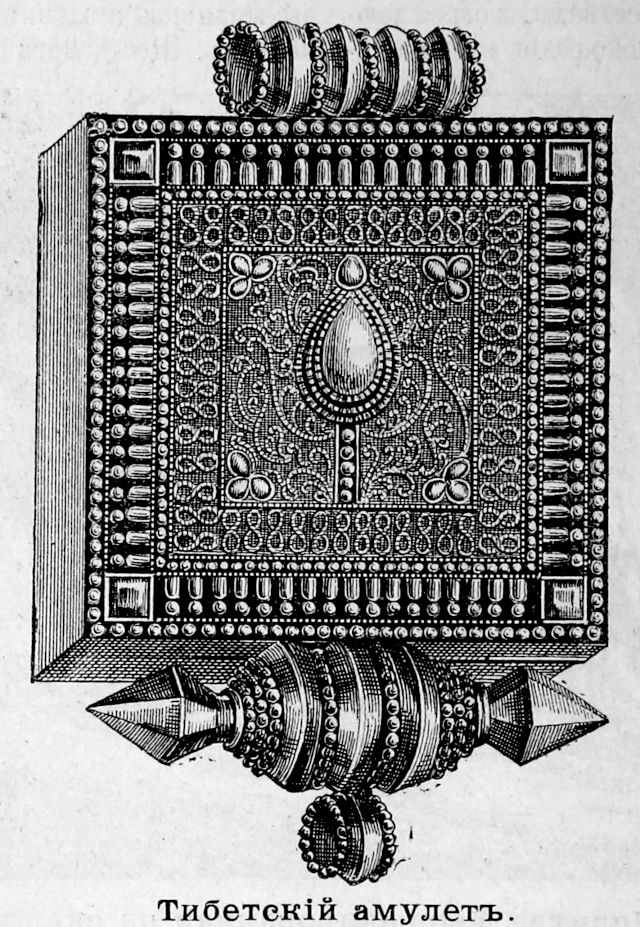
Большая часть позолоченных кумиров, поставленных жрецами в храмах и изображающих Будду (Дух), Дарму (Материя) и Сангу (Соединение двух начал, духовного и вещественного), есть не что иное как простые подражания, копируемые уже в течение 10-ти столетий идолам, которых мы видим в Индостане, и не представляют в своих чертах ни малейшего сходства с тибетским типом: а так как каждая черта, каждая специальная складка одежды, имеет символическое значение, то в них невозможно ничего изменить. Изображения с тибетским типом представляют лишь божества низшего порядка, и встречаются чаще всего в статуэтках из окрашенного коровьего масла, которые с таким искусством выделывают ламы. Но если главные идолы носят на себе явно индусский отпечаток, то можно бы было подумать, что совокупность религиозных обрядов принадлежит римско-католической церкви. Уже давно христианские миссионеры заметили поразительное сходство между обрядами буддизма и церемониями католицизма, и большинство из них усматривали в этом почти тождестве внешнего культа ухищрение демона, старающагося подражать Богу христиан. Другие пыталась доказать, что буддистские жрецы, после того как они оставили свой древний церемониал, просто взяли целиком ритуал христиан, с которыми они находились в соприкосновении в Индостане. Теперь мы знаем, какую большую долю эти две религия, относительно новые, взяли в наследии древних культов Азии, и как, из века в век, одни и те же церемонии продолжались в честь новых божеств. Тем не менее нельзя не удивляться, что вследствие параллельной эволюции в столь разнородных средах, каковы европейский запад и центр Азии, внешния формы буддизма и католицизма сохранили свое сходство, не только в главных чертах, но даже в подробностях и мелочах. Буддийские жрецы постригаются на священнослужение, как и священники католической церкви; они также носят длинные платья, покрытые золотыми вышивками; они соблюдают посты, практикуют духовное уединение, налагают на себя эпитимии и умерщвления плоти, исповедуют верующих, молят о заступничестве святых и совершают дальние паломничества на поклонение мощам и святыням. Как у католических патеров, безбрачие сделалось правилом для лам после того, как в начале оно было только похвальным делом, и рядом с храмами основались общины, мужские и женские, члены которых ставят себе исключительной задачей жизни трудиться над спасением своей души. Даже во внутреннем расположении священных зданий и в отправлении богослужения замечается полное сходство: подобно католическим церквам, тибетские храмы или кумирни имеют алтарь, паникадила, колокола, раки или ковчежцы с мощами, сосуды с очистительной и с святой водой. Ламы совершают богослужение с митрой на голове и с посохом в руке, облаченные в ризы, похожия на епископский стихарь или подризник и мантию; они кланяются алтарю, преклоняют колени перед мощами и святыми, запевают церковные песнопения, читают на языке чуждом предстоящей толпе, совершают службы за упокой души умерших, шествуют во главе религиозных процессий, произносят благословения и заклинания злого духа; вокруг них клирошане махают кадилами, повешенными на пяти цепочках, а верующие перебирают свои четки и молитвенные бусы.
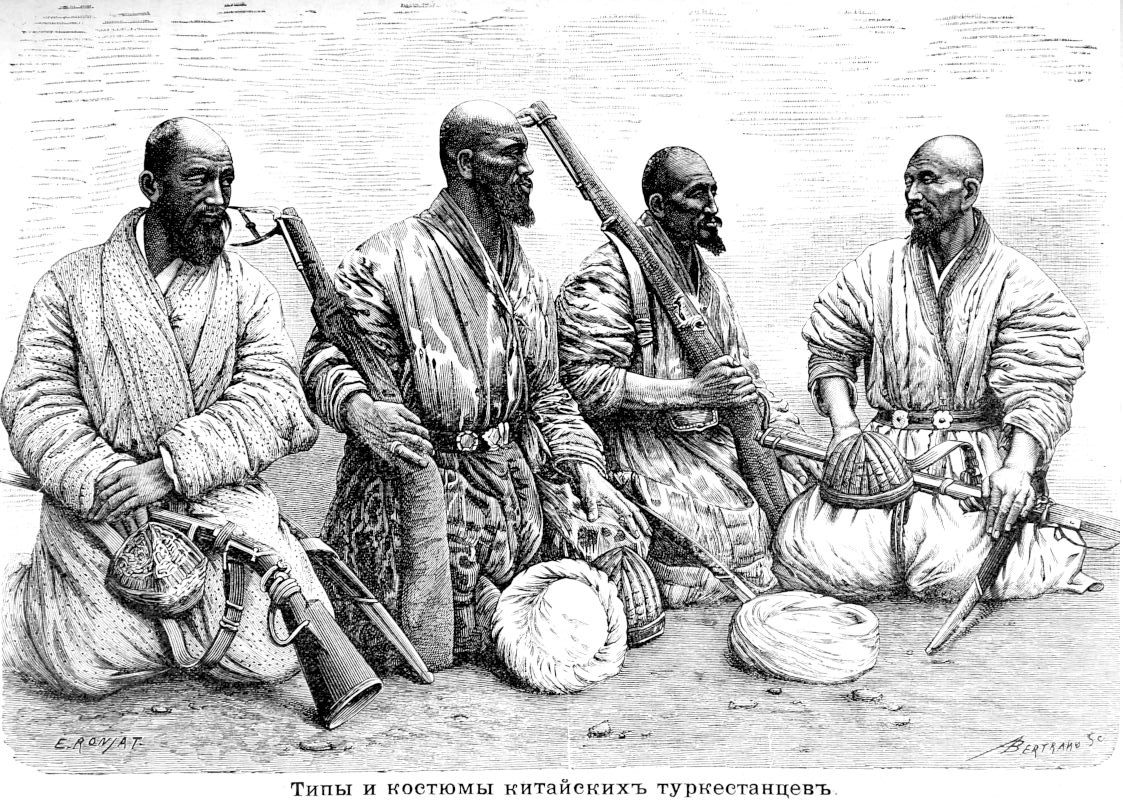
В других отношениях буддийское духовенство Тибета, ряды которого пополняются преимущественно старшими сыновьями каждой семьи, походит если не на нынешнее католическое духовенство, то по крайней мере на средневековый клир. От него одного исходит вся наука, все знание; книгопечатни находятся в его монастырях; кроме священных книг, Канджур и Танджур, отпечатанных в первый раз в половине прошлого столетия, в трех стах тридцати семи томах, оно старается издавать только сочинения согласные с верой, словари, энциклопедии или книги, содержащие сведения из различных наук, а также книги, научающие искусству приобретать силу чародейства. Те же ламы, то-есть «непревосходимые», отправляют правосудие; они же, посредством десятинной подати и торговли, овладели всем богатством страны: хотя буддизм в начале был религией. основанной на равенстве людей, и хотя он привлекал к себе бедный народ упразднением каст, впоследствии он сам восстановил касты путем господства жрецов. Ламы командуют и все им повинуются: единство веры полное вокруг каждого монастыря. Обращение в христианство высшего духовенства Тибета было бы в то же время обращением всей нации и миллионов буддистов за пределами этой страны. Добраться до Лассы, для католических миссионеров, значило бы «атаковать идола на его троне», а «восторжествовать над буддизмом это все равно, что захватить в свои руки скипетр Нагорной Азии». Все было бы заранее приготовлено для того, чтобы заменить религию Востока религией Запада. Чтобы сформировать туземное духовенство, католическая церковь имела бы под рукой легионы лам, издавна приученных к законам безбрачия и иерархии; чтобы поместить свои монашеские ордена, она нашла бы многочисленные монастыри буддизма, уже посвященные воздержанию, молитве и учению; чтобы развернуть пышность своего культа, она получила бы готовые храмы, где уже с давних пор совершают импонирующие религиозные церемонии. Ни в одной стране мира католичество не покорило себе так быстро и прочно туземное население, как в возвышенных областях Южной Америки, занимаемых народом квичуа. Но, как справедливо заметил Маркгам, экуадорские и перуанские Анды можно назвать Тибетом Нового Света, по сходству промышленности, пищи, нравов и обычаев. Квичуасы и боды проходят с одинаковым благоговением через хребты и перевалы гор и перед грудами священных камней, читая про себя молитвы с одинаковою набожность».
В течение настоящего столетия многочисленные попытки, сделанные миссионерами с целью утвердиться в Тибете, все имели неудачный исход. Гюк и Габе могли пробыть в Лассе только два месяца, в 1846 году, а позднее другие миссионеры даже поплатились жизнью за попытку проникнуть в Тибет. На юго-востоке некоторые патеры были счастливее. В 1854 году они успели основать маленькую земледельческую колонию среди лесов Бонга, недалеко от левого берега большой реки, которая ниже принимает название Салуэн. Пользуясь содействием китайских эмигрантов и имея в своем распоряжении многочисленных невольников, которые трудились над расчисткой леса под пашни и над возведением построек, миссионеры основали важное селение; жилище лам было превращено в священнический дом, языческая пагода преобразовалась в христианский храм, и обращенные ламы исполняли обязанности церковнослужителей. Но это благополучие продолжалось не долго. После различных невзгод и притеснений, бонгские миссионеры принуждены были покинуть тибетскую почву, и дома их были преданы пламени. После того миссии опять были учреждены в Сы-чуани подле самого Тибета, но миссионеры уже с большею осторожностью осмеливаются переступать запретную границу.
Почти все жрецы Тибета, по крайней мере в центральной области, принадлежат к секте «желтых шапок»; но остается еще некоторое число «красных шапок», вообще презираемых другими, потому что они не дали обета безбрачия. Древняя религия пен-бо, предшествовавшая буддизму в Тибете, не совсем исчезла; следы её еще встречаются в юго-восточной области страны и к западу от реки Салуэна. Это религия признает существование двух главных богов, одного мужеского и другого женского пола, от которых произошли все другие боги, гении и люди. Горцы области Амдо и окрестностей озера Дангра-юм тоже, может быть, последователи старой веры пен-бо; по крайней мере они не совершают тех же самых церемоний, как другие тибетские буддисты. Формула, которую они повторяют и пишут на своих молитвенных машинках, другая, не «ом мани падме хум»; они вертят свои кружалки, считают зерна четок и ходят во время религиозных процессий в направлении противоположном тому, которое принято ортодоксальной обрядностью. Наконец, некоторые полудикия племена на границах Юн-нани, Ассама и Бирмы в религиозном отношении еще не возвысились над грубым фетишизмом: таков народец лу, который дал свое имя реке Лу-цзян или Салуэн. Они почитают в особенности деревья и скалы, в которых обитают злотворные духи, и обращаются к содействию колдунов (мумо или мурми), которые заклинают и отгоняют злых гениев, ударяя в бубен, окуривая благовонными составами и помахивая саблями.
Молоко и масло составляют, вместе с ячменной мукой, главные питательные вещества тибетцев нагорья; но вопреки первой заповеди Будды, запрещающей убивать животных и религиозной пословице, гласящей, что «есть плоть скотины, все равно, что есть плоть своего брата», большинство тибетцев даже ламы, не боятся прибавлять мясо домашних животных к своей скромной трапезе: для успокоения совести они довольствуются тем, что презирают наследственную касту мясников и заставляют их жить в кварталах, удаленных от центра города. Пастухи и звероловы не стесняются никакими предписаниями религии в выборе своей пищи. Тибетский баран, по отзыву путешественников, «лучший в свете», доставляет одно из самых обыкновенных яств, и в зимнее время делают запасы целых туш этого животного, сохраняемых в замороженном состоянии. Охотники преследуют диких зверей и убивают их ударами стрел, дротиков или при помощи ружей с фителем. Они расставляют также силки, главным образом для ловли мускусных ланей, пупочный мешок которых дает их торговле дорого ценимое пахучее вещество. Единственное животное, щадимое в восточном Тибете,—это красный олень, почитаемый «конем Будды». На возвышенных плоскогорьях, господствующих с северной стороны над долиной реки Цзанбо, жидкая кровь составляет часть питания туземцев. Пундит Найн-синг видел несколько раз, как пастухи бросались на землю лизать кровь, вытекавшую из раны зарезанного животного. Этот вкус к крови прививается к детям с периода отнятия их от груди; не имея возможности приготовлять им кашицу, по причине недостатка зерновых хлебов на высоких плоскогорьях, матери дают им смесь из сыра, масла и крови. Пржевальский рассказывает, что лошадей в тех местностях тоже кормят мясом и кислым молоком.
Жители Тибета, такие же буддисты, как цейлонцы, монголы и китайцы, резко отличаются от всех единоверных народов национальными нравами, которые не изменились под влиянием культа. Так, например, у южных тибетцев, так же, как у их соседей и соплеменников, бутанцев, до сих пор еще существует обычай многомужия, в основе которого лежит желание избавиться от необходимости дележа наследства и оставаться под одним и тем же кровом. Старший сын является от своего имени и от имени всех своих братьев к родным невесты, и когда совершена церемония приложения куска масла ко лбу обоих соединяемых, брак считается действительным для всей семьи; присутствующие берутся в свидетели союза, только что заключенного между молодой девушкой и всеми братьями—её мужьями. Жрецы, которые не могут быть там, где есть женщины, не присутствуют при этом обряде, имеющем чисто гражданский характер. Дети, родившиеся от таких коллективных союзов, называют отцом старшаго из братьев и смотрят на других супругов как на своих дядей, исключая того случая, когда спрошенная мать сама решит, кто настоящий отец того или другого ребенка. Впрочем, как говорят путешественники, не бывало примера супружеских ссор или несогласий между членами полиандрических (многомужних) семейств; мужчины наперерыв друг перед другом стараются угодить своей жене и добыть ей кораллы, амбру и другие ценные вещи, которыми она украшает свою одежду и шевелюру. Тибетская женщина, очень уважаемая всеми,—заботливая хозяйка и держит жилище в чистоте и порядке. Она помогает также мужчинам в работах вне дома, либо по возделыванию земли, либо по уходу за стадами; но труд её, так же, как и труд братьев, принадлежит всей семье в совокупности. Рядом с этими полиандрическими хозяйствами, богатые и знатные, подражая из тщеславия китайским или мусульманским нравам, содержат по нескольку жен, которые живут под одной кровлей или в отдельных домах; но как множество, так и многомужие имеют то следствие, что препятствуют возрастанию числа жителей. Совершение браков не подчинено никаким правилам в этих странах, где безбрачие составляет предмет столь строгих предписаний для такой значительной части народонаселения. Даже женщины, принадлежащие к полиандрической группе, имеют еще право, признаваемое обычаем, выбрать себе другого мужа вне своей семьи.
Подобно тому, как в Китае, вежливость в большом почете у тибетцев. Когда двое знакомых встречаются, они приветствуют друг друга по нескольку раз, показывая язык и почесывая себе правое ухо, или даже обмениваясь шелковыми шарфами, белыми или розовыми, украшенными вышивками, изображающими цветы и таинственную формулу молитвы; письма или другие посылки тоже сопровождаются этими шарфами, в знак пожелания благополучия адресату. В Лассе и в других городах дамы высшего общества украшают себе голову изящной короной из жемчуга, бирюзы, настоящих или поддельных, из раковин или серебра; но по рассказу миссионера Гюка, опровергаемому, впрочем, английскими исследователями Тибета, они безобразят себя, намазывая лицо чем-то в роде черного лака, и сила привычки будто бы так велика, что ни одна женщина, заботящаяся о соблюдении приличий, не позволит себе выйти из дому, не выпачкав таким образом своего лица; вероятно, однако, что в этом случае дело идет просто о гигиенической предосторожности, так как жирная черная мазь имеет свойство предохранять кожу от растрескивания, причиняемого чрезвычайной сухостью холодного воздуха в нагорном Тибете.
В этой стране все церемонии наперед определены и подчинены известным правилам; покрой и цвет одежды предписаны строго соблюдаемым обычаем во всех обстоятельствах жизни. В течение траурного года мужчины воздерживаются от ношения шелковой одежды, а женщины не надевают на себя драгоценных украшений. Когда человек умирает, родные или близкие первым делом обстригают ему волосы на макушке, для того, чтобы облегчить переселение души. Семейство хранит у себя труп по крайней мере в продолжение нескольких дней, даже недель, если оно богато, затем жрецы решают, должен ли покойник быть зарыт в землю, сожжен, пущен по течению вод, или не лучше ли выставить его на скале и отдать на съедение собакам, птицам и хищным зверям. В этом последнем случае имеют обыкновение разбивать кости и разрезывать тело на куски, для того, чтобы ускорить явление возвращения к первоначальным элементам, затем, когда хищные животные сделали свое дело, подбирают остатки трупа и бросают их в какую-нибудь текучую воду. Части также суставы пальцев сохраняются, чтобы быть нанизанными в виде четок, а кости ног и рук служат трубами, употребляемыми для призыва лам на молитву. По свидетельству братьев Шлагинтвейт, обычай выставления мертвых тел на съедение хищным птицам и зверям почти совершенно исчез в западном Тибете, но в других частях страны он еще сохранился в полной силе и применяется ко всем покойникам исключая лам, которые, в Тибете, почти всегда зарываются в землю в сидячем положении. В Цзяньке, в провинции Кам, место похорон получило прозвище «Долины резни». В то время, как ламы читают погребальные молитвы, нарочно приглашенный мясник распластывает труп на куски, чтобы облегчить работу ястребов и коршунов. Привыкшие к похоронным церемониям, крылатые хищники смело спускаются в середину толпы; самый сильный из них пользуется привилегией выклевать глаза у мертвеца, затем другие усердно принимаются открывать внутренности и насыщаться мясом. Когда труп представляет лишь бесформенную массу, лама разламывает скелет на мелкие куски, рубит топором всю массу на плоском камне, где эти остатки быстро пожираются птицами: хлопанье крыльев и щелканье клювов аккомпанируют монотонному голосу жреца. А между тем мало найдется стран, где бы питали более уважения к усопшим, чем в Тибете. В память их устраиваются большие празднества, и на похоронные пиры приглашают всех прохожих. Ночью дома иллюминуются, на горах зажигают огни: снопы пламени пылают на разных высотах, в то время как храмы, блистающие ярким светом, оглашаются звуками цимбал и пением похоронных гимнов.
По словам итальянского миссионера Орацио делла-Пенна, оффициальная перепись тибетского народонаселения, произведенная «королевскими министрами», насчитывала в прошлом столетии около 33 миллионов жителей, из которых было 690.000 носящих оружие. Передавая эти статистические данные, первоначальное происхождение которых неизвестно, Клапрот, с своей стороны, высказывает предположение, что число 5 миллионов, для населения Тибета, будет, вероятно, близко подходящее к истине. Бем и Вагнер, так же, как офицеры русского генерального штаба, останавливаются на цифре 6 миллионов, не будучи, однако, в состоянии дать других доводов в подкрепление этого исчисления, кроме того соображения, что эта цифра составляет почти среднее число между крайними цифрами: 3 с половиной миллиона и 11 миллионов, предложенными в последнее время различными географами. Следовательно, население страны, если основываться на этих данных, простирается средним числом до 4 человека на каждый квадр. километр; но мы знаем, что оно распределено весьма неравномерно. Плоскогорье Хачи представляет почти безлюдную пустыню; точно также юго-западная провинция Нари (Нгари, Гнари Хорсум) заключает лишь небольшие группы жителей. Провинция Кам, занимающая восточную область Тибета, населена очень неравномерно, по причине своих обширных лесов, высоких гор, неприступных ущелий; наиболее плотную населенность находим в двух южных провинциях, Цзан и Уй (У, Ю или или Уэй), на берегах среднего течения реки Цзанбо и в долинах её притоков.
Известно, что Даба и большинство «городов» и селений нагорной долины Сетледжа покидаются жителями в продолжение части года. Пулинг, самое возвышенное населенное место этой части Тибета, обитаемое постоянным образом, находится на высоте 4.750 метров. Тсапран, главный город округа, как и Даба, и лежащий к северо-западу от этого города, очень высоко над водами Сетледжа, на высоте 4.750 метров, тоже покидается жителями на зиму, да и летних домов в нем всего только штук пятнадцать. Крепость Такла-хар, другой главный окружной город, находится уже на южном склоне Гималайского хребта, на правом берегу Мап-чу или «Большой Реки», главной ветви реки, известной у непальцев под именем Карнали. Эта крепостца состоит из пещер и галлерей, вырытых в скале, на высоте 250 метров; она заключает большие запасы провианта, и говорят, что зерновой хлеб, сложенный в её казематах, лет пятьдесят тому назад, до сих пор превосходно сохранился, благодаря сухости воздуха. К западу от крепости Такла-хар находится Ситлинг-гонпа, самый большой монастырь в провинции Гундес или Нари, славящийся во всем Тибете и в Нипале своими огромными богатствами.
Верхний бассейн Инда, за исключением самой низкой части долины, по которой протекает эта река до вступления в пределы Индостана, почти совершенно необитаем, как и бассейн Сетледжа. Между тем в этой стране находится временная столица юго-западной провинции Тибета, город Гардок на берегу реки Гартунга. Это место, название которого означает «Высокий рынок», замечательно своими ярмарками, и ярмарочное поле его едва-ли не самое возвышенное в свете. В августе и в сентябре тут воздвигается, рядом с постоянными домами из глины или из высушенного на солнце кирпича, целый город палаток, из которых каждая своей формой обнаруживает происхождение торговцев, которые их занимают. Жилища тибетцев, обтянутые яковыми шкурами, еще покрытыми черной шерстью, составляют разительный контраст с белыми павильонами индусов, тогда как юрты кашгарцев и других тюрков отличаются яркостью цветов, украшающих войлок шатра. Но зимой город «Нагорного рынка» совершенно пустеет и покидается на жертву ветрам и снежным буранам; купцы разъезжаются по домам; а немногочисленные постоянные жители провинции спускаются в Гаргунцу, деревню более защищенную, лежащую на Гартунге, выше слияния этой реки с Индом. Рудох, близ озера Могналари, представляет кучку невзрачных лачуг, сгруппированных вокруг крепостцы и монастыря.
А между тем «жажда золота» населила некоторые части плоскогорья, господствующего с восточной стороны над долиной верхнего Инда, лежащие гораздо выше тех мест, где приютились домишки Гардока и Гартунга. Эта область, где сгруппировались золотоискатели, носит со времен глубокой древности имя Сартоль или «Страны золота», из чего можно заключить, что там уже в отдаленную эпоху собирали драгоценный металл: ученые видят в этой местности чудную страну, где копались в земле те муравьи-золотоискатели, о которых говорят Геродот и средневековые легенды, и которые охранялись страшными грифонами. Эксплоатация этих золотоносных песков одно время была оставлена по причине суровости климата, но, около половины настоящего столетия, снова принялись за поиски драгоценного металла, для тибетского правительства. Золотые прииски Ток-джалунг,—вероятно, самая высокая колония на земном шаре, обитаемая постоянно, как летом, так и зимой. По словам англо-индийских пундитов, она находится на высоте 4.980 метров, то-есть почти на 200 метров выше, чем высшая верхушка Мон-Блана, в области, где воздух почти в два раза менее плотен, нежели на уровне океана. В зимнюю пору сюда собирается самое большое число рудокопов, и тогда в этой стране непрерывных морозов и снегов насчитывают до шести сот палаток, спрятавшихся на дне больших ям и углублений почвы, чтобы укрыться от ветра, и видимых только по их конусообразным верхушкам, обтянутым черными яковыми шкурами.
В летние месяцы этот муравейник шатров уменьшается на половину, потому что вода в соседних источниках принимает тогда совершенно соленый вкус: ее можно пить только после того, как она очистится, превратившись в лед; в этой области плоскогорья достаточно покопать почву, чтобы найти везде соль и буру. Другие золотые прииски Тибетского нагорья гораздо менее богаты металлом, нежели Ток-джалунгские: по словам пундита Найн-синга, единственный прииск, имеющий ныне некоторую экономическую важность,—это Ток-дауракпа, находящийся гораздо восточнее на плоской возвышенности. Все количество золота, добываемого на приисках западного Тибета, достигает ценности 200.000 франков в год и отправляется в Индостан через Гардокский рынок.
Самые возвышенные обитаемые пункты верхней долины реки Цзанбо состоят только из почтовых станций и монастырей: холод в этих местностях слишком суров, чтобы там можно было основать деревни с постоянным населением. Однако, значительные селения. даже настоящие местечки появляются и следуют одно за другим в этой долине на высоте, слишком в два раза превосходящей высоту Симплона и Сен-Готарда. Тадум, главный город округа Доктол, находится на высоте 4.323 метра над уровнем моря. Джанглачи, торговое селение, где сходятся две дороги, ведущие из Нипала, одна через Киронг, другая через Нилам, лежит на высоте 4.226 метров; Дингри или Тингри, в высокой долине, которая открывается у самого основания горы Гаурисанкар, пограничный город, командующий этими проходами через Гималайскую цепь, и крепость его занята китайским гарнизоном, состоящим из пяти сот человек. Шигатзэ или Дигарчи, главный город провинции Цзан, занимает уже положение относительно низкое для этой горной страны; он расположен на высоте 3.621 метра, в боковой долине, по которой протекает река Пенанг-чу. Выше Шигатзэ, на террасе, окруженной крутизнами, поднимаются в виде амфитеатра, дома и храмы Чжасилюмбу или «Превознесенной Славы». Стены святого города, резиденции воплощеннаго Будды, Баньчань-ламы или Банчань-римдуци, то-есть «Перла разума», имеют около 2 километров в окружности и заключают более трех сот зданий, группирующихся вокруг дворца и религиозных памятников; от трех до четырех тысяч жрецов обитают в монастыре Чжасилюмбу, на позлащенные колокольни и красные стены котораго с благоговением взирает народ, живущий в нижнем городе и толпящийся на его рынках.
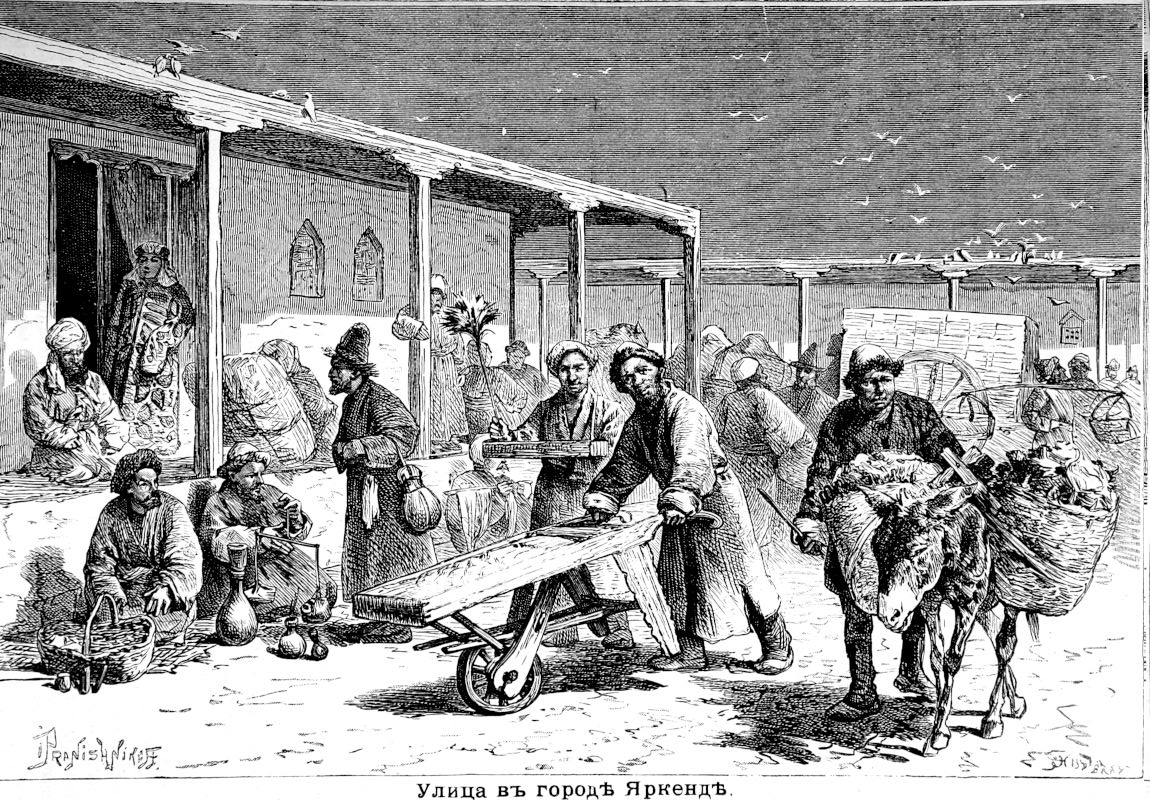
Большая часть других городов этой области тоже состоят из групп скромных низеньких домиков, над которыми возвышаются величественныя здания, представляющие в одно и то же время дворцы, крепости, храмы и монастыри. Таков, на севере, по другую сторону долины реки Цзанбо, город Намлинг или «Небесный Сад»; таков же город Шакр-джонг, на юго-западе от Шигатзэ и Чжасилюмбу, у основания одного из предгорий Гималайского хребта, близ границы Сиккима. Гянцзэ, на юго-востоке, в той же долине, где и Шигатзэ,—важный город, как средоточие торговли с Бутаном и как промышленный пункт: из произведений его промышленности особенно славятся суконные материи, очень теплые, мягкия на ощупь и необыкновенно гибкия; он занят, как и Дингри, сильным китайским гарнизоном. В Шигатзэ оканчивается колесная дорога. построенная ост-индским правительством, и которая выходит из Дарджилинга, в Сиккиме. Население Гянцзэ достигает до 12.000 человек.
Хласса или Ласса (Иешке, миссионер с тибетской границы, автор чрезвычайно ценных мемуаров о наречиях страны Бод-юл, говорит, что употребляемые европейцами формы Hlassa, Hl'assa, L'hassa не передают местного произношения) есть в одно и то же время главный город провинции Уй, столица Тибета и духовная метрополия всех буддистов Китайской империи: название её означает «Божественная земля»; монголы называют ее Моркэ-джот или «Вечное Святилище». Число жрецов, которых насчитывают до двадцати тысяч в Лассе и в окрестностях, может быть, превышает там число гражданского населения: толпы пилигримов, приходящих со всех концов Тибета и даже из-за границы, стекаются каждый год в храмы этого «буддийского Рима». На двух широких, обстановленных деревьями, аллеях, которые ведут из города во дворец далай-ламы, всегда увидишь множество верующих, набожно перебирающих между пальцами свои длинные четки, тогда как высшие духовные сановники двора, облаченные в великолепные одежды и восседающие на конях в богатой сбруе, гордо проезжают среди почтительно расступающейся толпы. Дворец Табран- марбу, в котором имеет пребывание государь, представляет собрание укреплений, храмов и монастырей, над которым высоко поднимается купол, сплошь покрытый пластинками из чистого золота и окруженный перистилем, колонны которого тоже позолочены: нынешнее здание, перестроенное стараниями Кан-си и наполненное сокровищами, которые приносятся сюда верующими из всех частей Тибета, из Монголии, из Китая, заменило дворец, разрушенный чжунгарами в начале восемнадцатого столетия. «Гора Будды» (Буддала) составляет, с седьмого столетия христианской эры, самое священное и наиболее почитаемое место во всей восточной Азии [по Иешке, слово Потала санскритского происхождения, и это наименование, означающее «Пристанище», объясняется мифом, занесенным индусскими пилигримами]. Когда день склоняется к закату, позволяя еще ясно различать на синеве неба профиль священной горы, в нижнем городе прекращается всякая деятельность, всякая работа: жители Лассы собираются кучками на террасах, на улицах и площадях и падают ниц, распевая свои вечерния молитвы. Глухой гул поднимается над всем городом и возносится к дворцу далай-ламы.
Город раскинулся на южной стороне священной горы по правому берегу реки Ки-чу, одного из главных притоков Цзанбо. Хотя он находится на высоте 3.566 метров, то-есть на 150 метров выше, чем самый возвышенный пик Пиренеев, но, благодаря своей более южной широте и своему защищенному положению, он пользуется тем преимуществом, что мог окружить себя зеленью: сады, наполненные большими деревьями, образуют вокруг города пояс листвы и цветов. Улицы в Лассе широкия и прямые, дома из дикого камня, кирпича и глины и по большей части выбелены известкой. В одним из кварталов города все дома выстроены из рогов, коровьих и бараньих, расположенных рядами, различающимися цветом и формой: эти переплетающиеся рога, промежутки которых залеплены известковым цементом, очень удобны для окраски и допускают чрезвычайное разнообразие рисунков, которые придают жилищам самый фантастический вид.
Местечки и деревни в окрестностях Лассы имеют, как и сама столица, более важности по своим монастырям или гонца, чем по своим мастерским и рынкам. Во время праздников нового года, когда со всех концов Тибета монахи стекаются в священный город, пешком, на лошадях, верхом на ослах или на яках, нагруженные молитвенниками и кухонной утварью, улицы, площади, аллеи, дворцы, все покрывается палатками; куда ни посмотришь, везде видишь только монахов; кажется, что светское население совершенно исчезло. Министры и чиновники не имеют тогда никакой власти: жрецы делаются полными хозяевами и господами города. Это заполонение Лассы продолжается шесть дней. После посещения монастыря Табран-марбу, где они запасаются священными книгами, покупаемыми в мастерских казенной типографии, ламы расходятся по своим кумирням и город снова принимает свой обычный вид.
Большинство монастырей или гонпа,—простые скопления домиков, с узкими извилистыми улицами, сходящимися к центральному зданию, заключающему кумирни и книгохранилище. Но между тридцатью монастырями, рассеянными в окрестностях Лассы, есть и такие, которые, благодаря пожертвованиям многих поколений пилигримов, дотого разбогатели, что превратились в настоящие дворцы. В 6 километрах к западу от города монастырь Дебан, как говорят, населен семью или восемью тысячами жрецов. Далее, монастырь Пребун или «Десяти тысяч плодов» служит пристанищем для монгольских жрецов, которые приходят созерцать славу далай-ламы и слушать из его уст, раз в год, толкование священных книг. На севере от Лассы, монастырь Сера, где живет около 5.500 монахов, не менее славится в Тибете. Что касается монастыря Галдан, прославленного пребыванием Цзонхавы, реформатора тибетского буддизма, то он находится в пятидесяти километрах к северо-востоку от Лассы и расположен на холме, господствующем над долиной реки Ки-чу; более трех тысяч лам обитают в этой обители. Все эти здания богаты позолоченными идолами, драгоценными металлами и камнями. Монастырь Самойе, основание которого туземцы приписывают самому Шакиа-Муни,—самый знаменитый из всех обителей Тибета; в то же время это один из самых обширных и самых роскошных. Монастырские здания обнесены высокой каменной стеной, имеющей около 2 с половиной километров в окружности; внутренность храма, стены которого испещрены санскритскими надписями, начертанными огромными вычурными буквами, заключает множество идолов из чистого золота, одетых в дорогия ткани, унизанные драгоценными камнями; здесь же хранится казна тибетского правительства. По народному поверью, настоятель этого монастыря простирает свою власть даже за пределы гроба и может награждать и наказывать души умерших.
Монастырь Самойе находится в 2 километрах к северу от Цзанбо, в километрах сорока к западу от важного города Четан, построенного на южном берегу этой реки: это исходный пункт торговых караванов, направляющихся к Бутану и Ассаму. Складочным местом и пограничным рынком в этом направлении служит город Чона-чжун, куда тибетцы привозят на продажу соль, буру и шерсть, и где они, в обмен на свои продукты, покупают грубые материи, рис, фрукты, пряности и красильные вещества. Англо-индийский исследователь Найн-синг полагает, что Чона-чжун самый важный торговый пункт во всем Тибете: караваны проходят здесь даже в большем числе, чем через Лех, главный рынок индусскаго Тибета; правда, что в этом последнем городе торгуют более ценными товарами.
В восточных областях Тибета, где население очень редкое и разбросано в узких горных долинах и ущельях, города немногочислены. Главный из них, который в то же время есть административная столица провинции Кам,—город Чапмдо, Цяпмдо или Чамдо-ула, имя которого, означающее «Два пути», указывает на положение его в месте соединения двух дорог или двух рек: в самом деле, он находится при слиянии двух потоков, способствующих образованию реки Лань-цянь-цзян, то-есть Меконга. Это довольно обширный город, имеющий также свой большой монастырь, населенный слишком тысячью монахов. Далее на юге, в долине, по которой протекает приток реки Цзинь-ша-цзян, то-есть «Реки с золотым песком», находится другой довольно важный город, Меркам, к югу от которого, на берегах Лань-цянь-цзяна, эксплоатируюгся очень обильные соляные источники.
Важнейшие города Тибета, с приблизительным числом их населения:
Ласса—24.000 жит., Шигатзэ и Чжасилумбу—13.000, Четан—13.000, Гянцзэ—12.000, Чона-чжун—6.000, Киронг—4.000, Шикар-джонг—3.000, Чамдо-ула—2.000, Нилам—1.500, Дингри—1.500.
Не имея земледелия, не обладая другими экономическими рессурсами, кроме своих стад скота и кое-каких не особенно важных промыслов, Тибет не мог бы иметь, если бы даже он не был окружен барьером таможен коммерческих и политических, очень частых и деятельных сношений с другими государствами. Главная промышленность этой страны—прядение шерсти и тканье суконных материй. Большая часть получаемой в крае сырой шерсти, по обилию которой с Тибетом не может сравниться ни одна страна в мире, употребляется самими жителями и идет на выделку сукон всякого рода, от самых грубых до самых тонких и нежных. Красный чру или пулу, предназначенный для высших духовных особ,—тонкая и прочная ткань, которая продается по очень высокой цене на рынках Монголии и Китая. Большинство тибетцев, мужчин и женщин, искусные вязальщики и ткут сами все необходимые им части одежды. После промышленностей, относящихся к домашним нуждам, тибетцы занимаются преимущественно такими ремеслами, которые имеют целью украшение храмов и монастырей. Их лепщики необыкновенно искусны в приготовлении статуэток, искусственных цветов и разных орнаментов из коровьего масла, которые ставятся перед идолами; многочисленные мастера заняты фабрикацией курительных свечек, зажигаемых в честь богов и гениев.
Несмотря на простоту их жилищ и умеренность их образа жизни, тибетцы все-таки вынуждены покупать у иностранцев некоторые мануфактурные товары; но что делает их безусловно зависимыми от стран равнины, с точки зрения торговли, так это чай. Они не могли бы обойтись без этого продукта, и недавно монополия чайной торговли принадлежала Китаю; таким образом, они волей неволей должны обращаться к этому могущественному соседу и заключать с ним трактаты. Чай был для китайцев главным средством завоевания Тибета, более действительным, чем оружие; выражение «пригласить лам на чай» сделалось пословицей, напоминающей подкуп тибетских государей китайскими мандаринами. Оттого пекинское правительство с величайшею заботливостью наблюдает за торговыми трактатами Тибета, чтобы воспрепятствовать доставке ассамского чая, который, впрочем, гораздо менее ценится, чем листья низшего сорта, привозимые из Китая, и продается несравненно дешевле; тем не менее, смелые авантюристы из независимого королевства Поми не отказались от своих прав свободной торговли с Индией, и каждый год привозят контрабандой из Ассама все возрастающие количества запрещенного товара. Годовой привоз китайского чая в Тибет исчисляется в 3 миллиона килограммов,—в 4 миллиона, по оценке англичанина Бибера,—и представляет в самой стране, по ценам розничной торговли, ценность от 7 до 9 миллионов франков.
Торговый обмен Тибета с Индостаном в настоящее время имеет весьма ограниченные размеры. Жители плоскогорья Бод-юл покупают у английской Индии очень небольшое число мануфактурных товаров и продуктов, или по крайней мере то, что они ввозят, переходит к ним через посредство Нипала и Кашмира. Но сами они отправляют непосредственно индийским англичанам товаров на сумму, в десять раз превосходящую ценность ввозимых ими предметов: их драгоценные шерстяные ткани находят дорогу через перевалы Гималайских гор и порты Индостана к Лидсу и другим мануфактурным городам Британских островов. Торговля Тибета с английской Индией в коммерческом 1878—79 году представляла следующие цифры:
Привоз в Тибет—365.000 франков. Вывоз из Тибета—3.750.000 франков. Вместе—4.115.000 франков.
Благодаря этому огромному перевесу отпуска над привозом, блестящие английские рупии постоянно накопляются в казне тибетских монастырей; эти монеты «нищенствующего ламы», как их называют тибетцы, мало-по-малу заменяют в торговле страны плитки кирпичного чая и старинные серебряные монеты с восемью цветочками, нечто в роде fiorini, которые разделяли на отрывки одного или нескольких цветков. Мелкие рассчеты производятся обыкновенно иголками, тогда как для больших операций употребляют, как в Китае, слитки серебра.
Тибетцы, можно сказать, прирожденные коммерсанты: у них все торгуют, часто без всякого разделения труда и всякими товарами, какие попадаются под руку. Каждый дом—лавка, каждая кумирня—складочный магазин. Во всех монастырях существует так называемый гарпен или торговый старшина, имеющий у себя под началом целую иерархию помощников и стада вьючных животных для перевозки товаров. Караваны торговцев странствуют по всем дорогам Тибета, гоня перед собой навьюченных яков и баранов. Из торговых трактов всего более посещается караванами дорога, ведущая из Лассы в Китай через Да-цзяо-лу и через провинцию Сы-чуань. Другой путь из Китая направляется на северо-восток от Лассы через Монголию; кроме того, есть еще дороги, спускающиеся на юг к Ассаму и Бутану; на юго-запад к Нипалу, на восток к городам Гардоку и Леху. Караван, следующий по этой последней дороге, вероятно, самой важной для товаров, отправляемых в Европу, ранее совершал свое хождение только в три года раз, но в настоящее время, по словам Маркгама, путешествие имеет место каждый год. Забрав шелковых тканей, шалей, шафрана и других товаров, партия торговцев выступает из Леха в апреле месяце: в Лассу же она прибывает только в январе следующего года, так как по дороге в главных местах привала в Гардоке, на озере Манасаровар, в Тадуме, в Шигатзэ, пользуется остановкой и открывает ярмарки, продолжающиеся по нескольку недель. Первую половину года караван проводит в Лассе, где он запасается китайским чаем, шерстью, куэнь-луньской бирюзой, и возвращается в Лех только после полуторагодового отсутствия. Округи, через которые он проходит, обязаны поставлять ему безвозмездно по 300 яков для перевозки товаров, а также съестные припасы для путешественников. На всей южной границе проходы Гималайских гор открываются караванам только тогда, когда они объявлены «переходимыми» дзонгпоном или начальником ближайшего тибетского местечка. В исключительных обстоятельствах; когда война или революция вспыхивает в соседстве гор, или когда заразительные болезни господствуют в Индостане, требуется даже разрешение высшего тибетского правительства, которое само указывает негоциантам благоприятный момент для перехода. Почти вся прибыль от заграничной торговли поступает в пользу монастырей; путем ростовщичества народные сбережения поглощаются, словно бездонной пропастью, этими обителями, превращаясь там в роскошные материи, в драгоценные камни, в украшения всякого рода. Тибетский народ очень беден, но он содержит в полном изобилии и богатстве целую армию монахов.
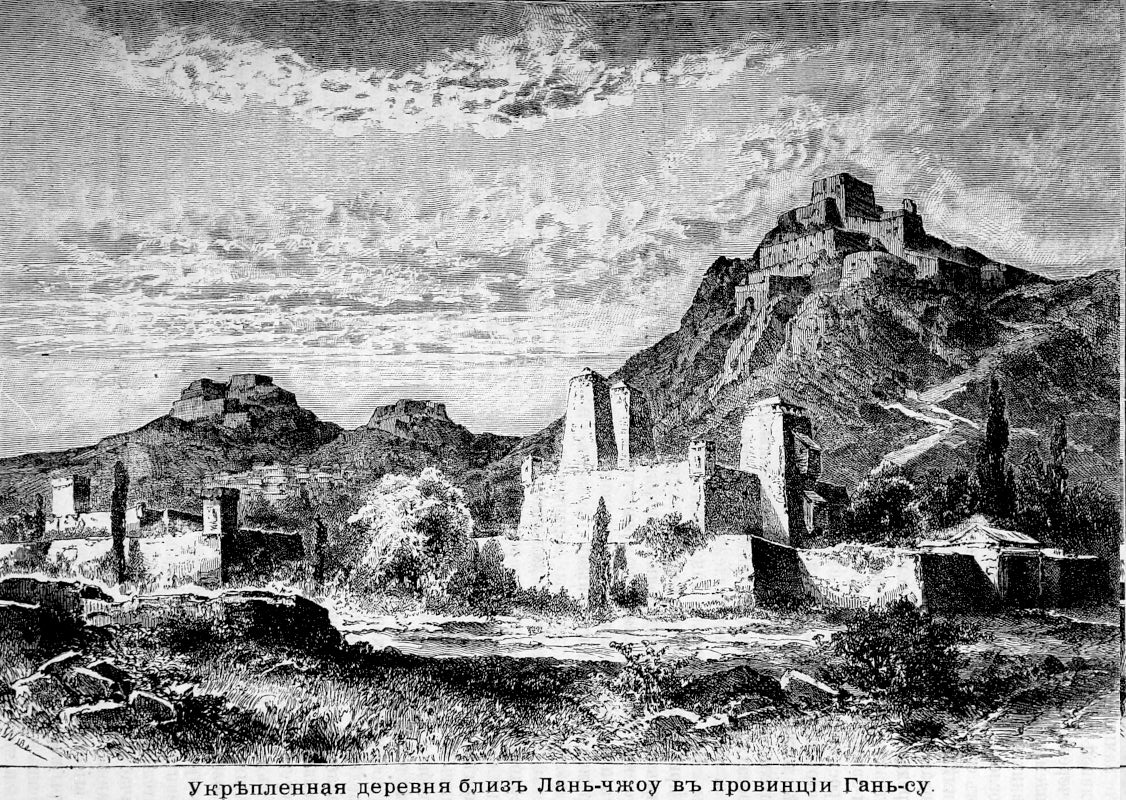
По внешнему виду правительство Тибета имеет чисто теократический характер. Верховный жрец, далай-лама, называемый также гиальба-рембоче, «Перл Величества» или «Государь Сокровище», держит в своих руках все власти: он в одно и то же время царь и бог; властитель жизни и достояния своих подданных, он не знает другой границы своему самодержавию, кроме своего личного благоусмотрения; однако, он соглашается руководствоваться в своих обыкновенных решениях старинными обычаями. Впрочем, самое его величие не позволяет ему непосредственно угнетать свой народ; так как он должен заниматься лишь высшими духовными делами государства, то для управления в собственном смысле слова его заменяет вице-король, утверждаемый китайским императором в верховном совете, состоящем из трех главных жрецов: этот верховный правитель, называемый номахан (нумшен?) или гиальбо (гиальчун?) считается, как и все другие тибетцы. не более, как смиренным слугой великого ламы. Номахан управляет административной частью страны либо сам лично, либо через посредство четырех министров, называемых кастаками или калунями; другие чиновники, выбираемые почти исключительно из сословия лам, назначаются министрами. Но рядом с туземным правительством в Тибете имеют пребывание два китайца, которые наблюдают за высшими должностными лицами и передают им, в особо важных обстоятельствах, желания императора. Принцип далай-ламы Кан-си, которому следовали и его преемники, таков, что в делах Тибета, все, что относится к общей политике и к войне, должно быть обсуждаемо пекинским правительством, но попечение о специальных интересах территории и местном благоустройстве и благочинии принадлежит властям Лассы. Все гражданские чиновники должны быть природные тибетцы. Смотря по превратностям политики, придворным интригам и настроению народа, влияние сюзерена увеличивается или уменьшается; но обыкновенно оно обнаруживается решительным образом, и враждующие партии должны обращаться к представителям китайского императора, как к верховному посреднику и вершителю. Самые важные кризисы в правительстве Тибета наступают в те эпохи, когда далай- лама соизволит изменить свою человеческую оболочку, чтобы облечься в оболочку младенца. Хутухты, то-есть самые высшие духовные сановники, собираются на конклав и проводят целую неделю в посте и молитве; затем жребий назначает будущего папу буддизма; но в действительности эта мнимая случайность всегда согласуется с указаниями китайского посольства; в 1792 году послы богдыхана от имени последнего презентовали конклаву великолепную золотую урну, в которой производится баллотировка нового повелителя Тибета, и со времени присылки этого подарка никогда представитель фамилии враждебной империи не был назначаем избирателями. Впрочем, вновь выбранный далай-лама может облечься в свой высокий сан только по получении инвеституры или формальной грамоты, подписанной китайским императором. Буддийский папа, король и министры все получают из Пекина годовой оклад жалованья; от китайского же правительства они получают печать, которую употребляют в оффициальных актах, и тибетские мандарины носят на шапке шарик, отличительный знак высших чинов, жалуемых империей. Посредством остроумной комбинации все устроено к удовольствию и выгоде далай-ламского двора. Последний обязан, правда, отправлять в Пекин через каждые три года или пять лет торжественные посольства с подарками, составляющими нечто в роде дани, но эти дары доставляются народом; в обмен, он получает от «Сына Неба» великолепные подарки, которые, разумеется, оставляет у себя. Казна великого ламы увеличивается каждый год суммой около 250.000 франков, которой он не в праве трогать иначе, как в случае войны.
Никакой закон не определяет следуемой с каждого доли налогов: этот вопрос решают обычай да благоусмотрение мандаринов. Вся территория принадлежит далай-ламе; жители только временные владельцы, пребывание которых лишь терпимо настоящим собственником. Точно также дома и утварь, словом всякое имущество, движимое и недвижимое, считается собственностью всеобщего хозяина и господина; подданные должны быть признательны ему, если он соизволит брать только часть их достояния для налогов и повинностей; при требовании начальством на какую бы то ни было работу или повинность никто не имеет права уклоняться от исполнения приказа. Одно из самых частых и обыкновенных наказаний, налагаемых мандаринами на обывателей,—это полное лишение имущества: осужденные на экспроприацию должны покинуть свои земли и дома и жить в палатке, ходя побираться, по крайней мере несколько раз в год в местности, которые им наперед указаны. Эти чонглонги, нищие по приговору суда, дотого многочисленны, что они составляют целый класс в государстве. В своей процедуре мелкие мандарины применяют пытку и могут приговаривать подсудимых к штрафу, к тюремному заключению, к наказанию розгами; высшие начальники, смотря по их рангу, получили от обычая или от повелителя право ссылать виновных, отрезывать им руки или ноги, выкалывать глаза, даже предавать их смерти; однако, ламы, строгие блюстители заповедей Будды, никогда не позволят себе приговаривать своих подданных к «убиению»; они ограничиваются тем, что оставляют их умирать с голоду. В Лассе право «чинить суд и расправу» продается с публичного торга в дебангском монастыре, при начале каждого нового года. Тот из лам, который достаточно богат, чтобы купить эту должность, провозглашается судьей, и сам, вооруженный серебряной палкой, идет возвестить о своем новом сане жителям Лассы. Это служит сигналом всем зажиточным ремесленникам к немедленному поголовному бегству, так как в течение двадцати трех дней судья налагает штрафы по своему усмотрению и присвоивает себе вырученные деньги.
С тех пор, как территория Ладак составляет часть Кашмирского королевства и как китайское правительство отделило от Тибета многие округи, чтобы присоединить их к провинциям Сы-чуань и Юнь-нани, Си-цзан или Тибет в собственном смысле слова обнимает только четыре области: Нари, Цзан, Уй и Кам, представляющие в совокупности только половину территории. Некоторые княжества, лежащие среди покоренной страны, совершенно независимы от Лассы и управляются сами собой, или зависят непосредственно от китайского императора: так, например, «королевство» Поми населено народом, который при всей своей преданности далай-ламе, ни за что не поступился бы своей свободой торговли и, в случае надобности, вполне съумел бы защитить ее. Таким образом страна оказывается разделенной на большое число переплетающихся своими границами округов, имеющих различные юрисдикции и администрации и занимаемых враждебными друг другу населениями, между которыми пекинское правительство старательно поддерживает соперничество. Даже в собственно тибетских провинциях китайское правительство вмешивается разными манерами. В особенности оно старалось прочно утвердить свою власть в провинции Нари; в этой области наиболее удаленной от императорской резиденции, особенно важно дать почувствовать силу власти, дабы не пробудился старый дух независимости, или из опасения, чтобы соседнее королевство, Ладак, не вздумало опять забрать этот край, который принадлежал ему в первой половине семнадцатого столетия. Часть поземельного налога принадлежит императору Китая, и кроме того китайские посланники имеют право на барщинные работы для них самих и для всей их свиты в Тибете. Наконец, никакая монета не может быть чеканена в стране без разрешения пекинского двора. Оффициально Тибет составляет для китайского правительства не более, как владение, подведомственное Сы-чуани, и приказы, которые получает Ласса из Пекина, доходят до неё через посредство главного начальства этой провинции.
Все годное к военной службе мужское население Тибета обязано по закону нести воинскую повинность и составляет нечто в роде национальной гвардии или милиции, предназначенной для охраны отечества; но единственное постоянное войско состоит из чужеземцев, маньчжуров, монголов, относительно которых китайское правительство говорит, что оно употребляет их предпочтительно перед туземцами будто бы потому, что их легче прокормить, так как они соглашаются употреблять в пищу конину и мясо джигетая; истинная же причина, само собой разумеется, та, что эти воины, как иностранцы, не задумались бы перебить тибетцев по приказанию своих начальников. Небольшое число этих солдат оказывается достаточным, так как большинство гарнизонов состоит всего только из нескольких десятков человек; по словам Кемпбеля, общая численность постоянного войска не превышает четырех тысяч человек, из которых половина находится в Лассе и четверть в Шигатзэ. Другие солдаты занимают Дингри, Гянцзэ и различные пограничные посты и города, лежащие на больших дорогах, ибо китайское правительство отлично поняло, что для того, чтобы господствовать над страной, ему необходимо прежде всего иметь возможность узнавать новости о всем там происходящем ранее, чем о них узнает масса народа в самом Тибете, и передавать свои распоряжения во-время, чтобы предупредить всякия попытки возмущения. Служба государственной почты исполняется с замечательной регулярностью и быстротой. Курьеры проезжают в тридцать дней, иногда даже в двадцать два дня и еще менее, пространство в тысячу триста километров, отделяющее Лассу от Гардока, тогда как обыкновенный путешественник употребляет два месяца, чтобы проехать то же расстояние. Курьеры скачут день и ночь, останавливаясь только затем, чтобы переменить лошадей да наскоро перекусить чего-нибудь. В видах предупреждения всяких случайностей, два всадника, из которых каждый ведет за узду по два сменных коня, всю дорогу сопровождают курьеров, так что путешествие может совершаться постоянно в галоп, за исключением самых крутых подъемов в горах. При отъезде мандарин опечатывает одежду посланца, с той целью, чтобы ему не пришла фантазия раздеться, чтобы отдохнуть в дороге; получатель депеш один имеет право распечатать гонца. Оттого, когда несчастные курьеры прибывают на место назначения, они похожи скорее на привидения, чем на живых людей. Тарсуны или почтовые палатки, поставленные на известном расстоянии одна от другой, на всех станциях заменяют собою селения в пустынных местностях.