Полуостров Шань-дун
Шань-дун составляет географическую область, совершенно отличную от остального Китая. Эта страна «Восточных гор»,—ибо таков буквальный смысл слов Шань-дун,—состоит из двух островных массивов гор и холмов, из которых один далеко выдвинут в воды, между Чжилийским заливом и собственно так называемым Желтым морем, и которые на западе совершенно ограничены обширными аллювиальными равнинами, отложенными рекой в бывшем море. С этой стороны Хуан-хэ перемещала свое течение в продолжение ряда веков, отлагая приносимые его водами землистые частицы, то на севере, то на юге Шаньдунского полуострова. По своей общей форме этот полуостров походит на полуострове Ляо-дун, который выдвинули перед собой горы Маньчжурии, но он больше размерами. Берега его, обследованные в первый раз европейскими кораблями в 1793 году, во время посольства в Китай англичанина Макартнея, изрезаны бесчисленными бухтами, закругляющими свои правильные кривые от одного до другого выступа твердой земли. Почти все его мысы оканчиваются крутыми, обрывистыми откосами, а между тем воды, омывающие подошвы этих мысов, не имеют значительной глубины; подводные камни, высунувшиеся из воды скалы, островки, продолжают некоторые мысы на большое расстояние в море; существует даже род перешейка, частию выступившего из-под воды, который соединяет северный берег Шань-дуна с оконечным мысом полуострова Маньчжурии посредством островов Мяо-дао и мелей. Наибольшая глубина, в этих водах, образующих вход в Чжилийский залив, достигает 71 метра, средняя же глубина всей впадины не превышает 25 метров; эта малая толщина жидкого слоя, покрывающего дно морское, объясняется постоянным отложением твердых частиц, приносимых Желтой рекой. Тем не менее китайские барки небольшого водоизмещения могут проникать в большую часть бухточек морского прибрежья; еще легче могли недавно мелкие суда огибать полуостров Шань-дун на западе через Юнь-хэ или Большой канал. Таким образом весь этот край был островом с точки зрения судоходства, тогда как для сухопутной торговли он оставался частью материка. Удобство торговых сообщений дополнило выгоды географического положения, которые обеспечивают Шань-дуну его превосходный климат, плодородие его равнин, богатство его рудных месторождений. И населенность достигла там необычайной густоты; вдоль больших дорог и рек, города и деревни следуют одни за другими через короткие промежутки, и с высоты многих холмов все пространство, обнимаемое кругом небосклона, представляется как один громадный город, перерезанный там и сям садами. По оффициальным статистическим данным выходит, что эта область Китая населена, пропорционально пространству, гуще, чем даже Бельгия. Поверхность Шань-дуна, согласно Матусовскому, 2.619,36 квадратных геогр. миль; население в 1887 году: 36.644.255 душ; следовательно, средним числом, на каждую квадратную милю приходится по 13.994 жителя. Во многих отношениях население Шань-дуна разнится от населения низменных равнин Желтой и Голубой рек; люди там отличаются более крепким телосложением и кажутся более энергичными: они вообще имеют более смуглый цвет кожи и более выразительные черты лица. Во многих местах полуострова, и особенно в окрестностях города Чжи-фу (Чифу), туземцы показывают древние могилы, оставленные, по преданию, расой, предшествовавшей прибытию в край китайцев.
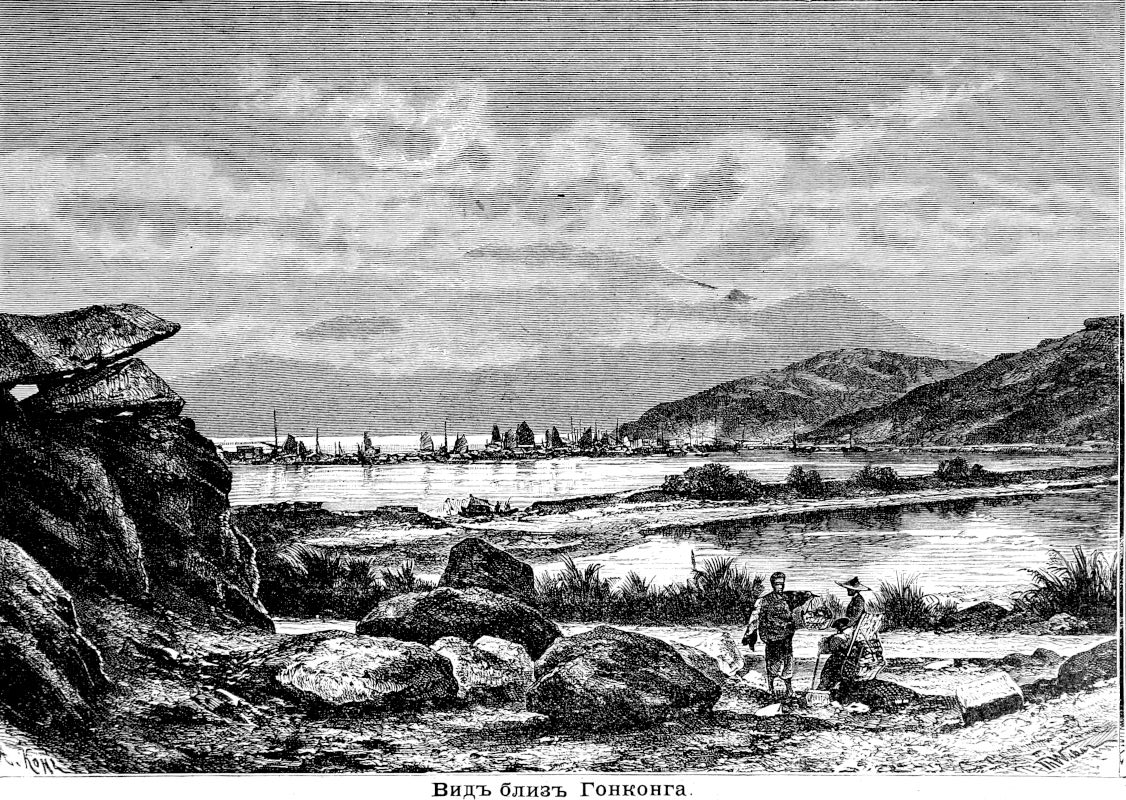
Горы, образующие остов полуострова, могут быть рассматриваемы, в их совокупности, как остатки плоскогорья, разрезанного во всех направлениях маленькими речками. На севере ряд высот тянется в очень близком расстоянии от морского прибрежья, и мореплаватели, огибающие полуостров, видят их следующими одна за другой от востока к западу, почти все одинаковой формы и одинаковой величины; это правильные конусы, с пологими скатами, так что Макартней и его спутники, сравнивая эти горы с остроконечными шляпами, какие носят китайские офицеры, отметили их, в своих корабельных журналах, под названием «мандаринских шапок»: ни одна из них не достигает высоты 1.000 метров. Южная часть полуострова, вообще говоря, ниже северной; но один уединенный пик, Лао-шань, господствующий на западе над живописной бухтой, усеянной островками, подымается на 1.070 метров высоты: это высшая точка полуострова в собственном смысле. По ту сторону другой бухты, называемой Вэй-шань, которая открывается в морском береге как обширный кратер, гора Да-мо-шань (680 метров) составляет конечный предел системы горных цепей, которая тянется на запад и постепенно сливается с поверхностью почвы на берегу Желтой реки, выделив из себя перед тем вправо и влево несколько боковых отраслей. Вот высота этих цепей:
Гуань-ю-шань, на востоке полуострова—880 метров; Лу-шань, на юго-запад от Дэн-чжоу—765 метр. Да-цзы-шань, на юге от Лай-чжоу-фу—740 метр.
Между этими массивами южной и западной части Шань-дуна и горными цепями, идущими вдоль северного берега, открывается глубокая низменность, широкая площадь равнин, соединяющая Чжилийский залив с бухтой Цзяо-чжоу, около основания полуострова; средину этой впадины наполняет озеро Бо-май-ху, то есть «Озеро белой лошади», которое может быть рассматриваемо, как остаток некогда существовавшего пролива: судоходный канал, теперь засоренный и представленный на карте иезуитов в виде реки, соединял два моря.
Самые высокие вершины западных гор подымаются почти непосредственно над равнинами Желтой реки, на юге от Цзи-нань-фу, главного города провинции. Да-шань или Тай-шань, то-есть «Большая гора»,—таково имя, прославленное во всем Китае, главной вершины (1.545 метров или 5.600 ф.). По китайской мифологии, Тай-шань самая святая из пяти священных гор империи. «Она равна небу, благодетельному властителю; от неё зависят рождение и смерть, счастие и несчастие, слава и бесчестие людей». Уже более 41 столетия тому назад, по свидетельству «Книги летописей» (Шу-цзин), император Шунь ходил на вершину этой горы совершать жертвоприношения небу, холмам и рекам. Сам Конфуций, родившийся в соседстве этого священного пика, пытался взойти на него, но не мог достигнуть вершины; древний храм указывает место, где он должен был остановиться. Со времени его восхождения подъем на святую гору был облегчен устройством превосходной мощеной дороги, длиною около 19 километров, и широких лестниц, осененных, до высоты 600 метров, кипарисами, кедрами и тисами, а выше соснами с горизонтальной верхушкой. Носильщики паланкинов ожидают пилигримов на каждой площадке лестницы. Храмы, киоски, жертвенники возвышаются на каждом выступе горы; от вершины до подошвы дорога окаймлена алтарями и скамьями доя отдохновения верующих; расположенный внизу, сплошь наполненный религиозными зданиями, город Тай-ань-фу, считается владением, принадлежащим священной горе. Целые населения калек и нищих живут милостыней, раздаваемой богомольцами; все эти несчастные, одетые в отвратительные рубища, копошатся у входа в гроты, посреди груд камней, и составляют печальный контраст с богатством храмов и красотой окружающей природы.
Почти все горы полуострова Шань-дун совершенно обезлесены; леса должны были уступить место пашням на нижних скатах, да и деревья, покрывавшие высоты, не были пощажены алчным земледельцем. В стране, где жители так тесно скучены, где поселения так близки одно от другого, природа почти совершенно утратила свою самородную флору: теперь растения, введенные человеком, придают местности её особенную физиономию. Дикия животные, беспощадно преследуемые охотниками, почти совсем исчезли, а господствующая в крае система мелкого земледелия не позволяет держать много домашнего скота. Но в этом Срединном царстве, пользующемся столь благоприятными условиями для развития земледельческой производительности, мало найдется провинций, которые равнялись бы Шань-дуну по относительной пропорции хороших земель, пригодных для такого большого разнообразия культур. Что касается минеральных богатств, то Юнь-нань единственная область Китая, которая имеет их более, чем Шань-дун: в этом последнем крае существуют очень обширные пласты каменного угля; кроме того, там находят золото и все благородные металлы, железная руда встречается в изобилии, а горные породы заключают в себе драгоценные камни; там собирают даже мелкие алмазы. Климат на полуострове, как и во всей северной полосе Китая,—климат крайностей, жаркий летом, очень холодный зимой; иногда даже море замерзает вдоль северных берегов, и тогда можно ездить по льду на мулах до островов, рассеянных по окружности Шань-дуна. Но по крайней мере здешний климат представляет ту выгоду, что переходы от тепла к холоду и от холода к теплу совершаются постепенно и правильно, благодаря умеряющему влиянию морских вод, омывающих берега, и препятствию, которое противопоставляют возвышенности Маньчжурии и Кореи—быстрому вторжению полярных ветров. Но тифоны или тайфуны не оканчивают свою кривую в Желтом море; они почти также часто проникают и в Чжилийский залив.
Между сотнями городов, скученных на относительно небольшом пространстве полуострова Шань-дун, самые многолюдные, естественно, те, которые находятся на аллювиальной равнине в западной части провинции, те, которые орошаются Желтой рекой и её притоками, и через которые проходит судоходный путь Большого канала (Юнь-хэ или «перевозочной реки»). Но эти же города наиболее подвержены опасностям как со стороны природы, так и со стороны человека. Многие из них не раз были совершенно разрушены наводнениями, и окружающие их поля превращались временно в болота, другие города были предаваемы разграблению инсургентами тайпингами или разбойниками, и рассеянное население принуждено было искать убежища в защищенных стенами городах или в менее доступных местностях гор. Но после каждой такой катастрофы пострадавшие города быстро оправляются и вновь заселяются; в короткое время разрушенные дома из глины или кирпича опять отстраиваются, бараки устанавливаются на прежних местах, и торговая деятельность снова закипает. Так, Дун-чан-фу, ядро которого составляет маловажный город, обнесенный стенами, получил видное место по своим громадным форштатам, между самыми деятельными городскими поселениями Срединной империи: лабиринт его улиц и каналов напоминает Шанхай или Тянь-цзинь. Этот город Шань-дуна, расположенный при Большом или Императорском канале, есть один из древнейших городов Китая, один из тех, имя которых всего чаще появляется на страницах летописей; отсюда вышла династия Чжоу, основанная баснословным героем Ваном, «с лицом дракона и с плечами тигра». На севере от Дун-чана, города Линь-цин и Чжэн-цзя-коу, которые тоже были опустошены во время последнего восстания, теперь снова поднялись на степень многолюдных и торговых центров. Особенно важен последний из них, Чжэн-цзя-коу, как первоклассный рынок для торгового обмена между провинцией Чжи-ли и центральными областями империи; он ведет торговлю даже с Монголией, как о том свидетельствуют караваны верблюдов, которые встречаешь на его улицах.
Цзи-нань (Шинанли в книге Марко Поло), нынешний главный город провинции, тоже лежит в наносной области, к западу от горных цепей; окружающие его поля, чрезвычайно плодородные и усеянные отдельно стоящими конусообразными горами, бывшими вулканами, полого спускаются к Желтой реке, которая течет в 7 километрах на север от города, в прежнем русле реки Да-цин-хэ. Равный по пространству Парижу, так как ограда его имеет 12 километра в окружности, Цзи-нань есть один из городов Китая, наилучше содержимых и наиболее правильно построенных; в то же время это один из городов, которые заключают в своих стенах наибольшее число жителей, исповедующих иностранные религии: число магометан простирается там до 10.000 по Вильямсону, до 20.000 по Маркгаму; кроме того, в городе и окрестностях насчитывают до 12.000 христиан католиков. Одна из главных промышленностей Цзи-наня фабрикация шелковых тканей, особенно одной материи, для которой употребляют коконы дикого шелковичного червя, питающагося листьями дуба. Поддельные драгоценные камни, приготовляемые в Цзи-нане, также составляют предмет значительной торговли в Китае. В 5 километрах к востоку от главного города Шань-дуна находится холм, состоящий из железной руды, частию из магнитного железняка. Ло-коу служит пристанью Цзи-наню на Желтой реке.
Тай-ань-фу, город храмов, в котором оканчивается исполинская лестница священной горы Тай-шань, тоже лежит в бассейне Желтой реки, на притоке реки Вынь-хэ, протекающей через горнозаводскую область, изобилующую месторождениями железа и каменного угля; он дает приют многочисленным пилигримам, приходящим со всех концов Китая на поклонение святой горе. В 1869 году, во время посещения города Маркгамом, там было до 70.000 иногородных посетителей. Главный храм, посвященный горе, занимает наибольшую часть северной половины города; он стоит среди обширного парка (около 10 гектаров), деревья которого были посажены разными императорами, начиная с десятого столетия. Стены святилища покрыты очень любопытной панорамической живописью, представляющей императорскую процессию древних времен, с белыми слонами и верблюдами. Далее на юге, уже в равнине, недалеко от болотистых пространств, через которые проходит Большой канал, находится главный город всего юго-западного Шань-дуна, Янь-чжоу-фу, некогда столица одной из девяти провинций, на которые император Юй разделил государство, слишком 4.000 лет тому назад: надпись, помещенная на западных воротах города, напоминает его былую славу. Вообще, здесь мы находимся в одной из классических областей Китая, и имена городов, гор, рек этого края встречаются на каждой странице древнейших летописей страны. Так, километрах в двадцати на восток от Янь-чжоу-фу, показывается знаменитый город Цюй-фоу, родина Конфуция, и населенный почти единственно его потомством; четыре пятых общего числа жителей, то-есть, по меньшей мере, 20.000 лиц, носят имя великого китайского моралиста. Это по большей части люди сильные и хорошо сложенные; но, кажется, ни один член этой семьи, столь многочисленной и столь уважаемой, не отличился исключительным образом в течение восьмидесяти поколений, следовавших одно за другим с той эпохи, когда их общий родоначальник дал нравственные законы империи. Главный храм, воздвигнутый в память Конфуция, есть одно из великолепнейших и обширнейших религиозных зданий Китая и заключает длинный ряд надписей, принадлежащих по времени всем династиям, царствовавшим в последние две тысячи лет; вазы, орнаменты из бронзы, изваяния, резьба из дерева украшают галлереи и стены храма и образуют полный музей китайского искусства; в окружающем парке растут очень древние деревья, глубоко чтимые верующими. При входе во дворец показывают старый кипарис с узловатым стволом, посаженный, по преданию, самим Конфуцием, а в частных аппартаментах князя или главы рода можно видеть драгоценные предметы, принадлежавшие великому нравоучителю, урны, треножники, манускрипты; владение этой особы, составляющее непосредственный лен империи, обнимает пространство но менее 66.000 гектаров. Когда инсургенты тайпинги проникли в город Цюй-фоу, они оказали полное уважение храму, дворцу и их сокровищам; узнав, что местный мандарин принадлежит к фамилии философа, они воздержались даже от убийства его, сделав в этом случае отступление от своего постоянного правила. Недалеко от храма возвышается могильная земляная насыпь, от которой, вероятно, город и получил свое название Цюй-фоу или «округленный курган», и под которой покоится прах Конфуция; вокруг этого кургана и на обширном протяжении страны простирается фамильный некрополь. Другие могилы императоров и вельмож, из которых иные жили еще до Конфуция, также видны в окрестностях города. Наконец, на юго-запад оттуда, близ маленького города Цю-сянь, другое кладбище, деревья которого, дубы и кипарисы, образовали священный лес, принимает уже более двадцати двух столетий тела всех потомков Мэн-цзы, самого знаменитого из учеников Конфуция. Таким образом в Китае физиологи могут изучать то, чего они тщетно ищут в Европе, именно семейства непрерывно продолжающиеся уже слишком две тысячи лет, впрочем, нужно заметить, что при каждом браке эти роды смешиваются с чужой кровью, так как брачные союзы между лицами одного и того же фамильного имени безусловно воспрещены в Срединном царстве. В 1865 году, когда Вильямсон посетил город Цю-сянь, глава семейства, потомок Мэн-цзы по мужской линии, принадлежал к семидесятому поколению.
Прежний главный город полуострова Шань-дун, называемый Цин-чжоу-фу, расположен на северной покатости гор, в долине, воды которой бегут прямо в Чжилийский залив, параллельно течению Желтой реки. Это тоже большой город, хотя он кажется пришедшим в упадок и утратившим блеск, которым он славился в древности; татарский город, ныне почти совсем покинутый, напоминает первые времена маньчжурского завоевания. Это один из главных центров ислама в восточном Китае: там насчитывается несколько тысяч магометан, и изучение арабского языка еще не оставлено. Окружающая область очень густо населена, и промышленность там достигла замечательного развития и процветания. В Бо-шане, на юго-западе, холмы изрыты в разных направлениях галлереями для эксплоатации каменного угля, а скалы песчаника размельчены в порошок для фабрикации стекла, которое отправляется с здешних заводов во все части Китая; одно предместье Бо-шаня составляет один большой завод.
Город Шань-дуна, Вэй, не имеет титула главного города провинции: это просто сянь или «третьеклассное место»; но он занимает очень выгодное положение посреди равнины, разделяющей два горные массива провинции, и находится в удобном сообщении с двумя берегами полуострова, северным и южным. Вэй-сянь есть главный складочный пункт для шелковых тканей, табаку, каменного угля, железа, селитры, производимых страною, и отсюда все эти продукты и товары посылаются в плохой порт Цзя-ин или в другие гавани морского прибрежья. Давно уже был составлен план железной дороги, которая поставила бы Вэй-сянь в сообщение с морем, но китайское правительство не преминуло противопоставить свою обычную силу инерции этому проекту европейцев. В настоящее время Вэй-сянь сделался уже центром сети проезжих дорог, которые соединяют его с портами южного берега, с большим рынком Чжоу-цунь, с богатым Пин-ду, окруженным золотыми приисками, и с прибрежными городами Чжилийского залива, из которых назовем Лай-чжоу-фу, славящийся своими ломками стеатита (камень жировик или мыловка), где иссечен в горе целый лабиринт галлерей.
В самой северной части полуострова один город, лежащий во внутренности страны, играет ту же роль, что и Вэй-сянь, как складочное место и рынок для отправки привозимых товаров: это Хуан-сянь. Оттуда одна дорога направляется на запад к порту Лун-коу, который ведет довольно значительную торговлю с Маньчжурией; другая ведет на север к большому городу Дэн-чжоу-фу, открытому, в силу трактатов, европейской торговле. Прежде воды пролива были в этом месте глубоки и джонки могли свободно проникать в самый город для выгрузки своих товаров; теперь же даже простые барки не могут уже входить, а крупные суда должны становиться на якорь в большом расстоянии от берега, в открытом море. В виду этого неудобства, иностранные негоцианты перевели свои конторы в более обширный и более глубокий порт Янь-тай или«Дым», получивший такое название от огня, который в прежние времена служил сигналом жителям прибрежья, предупреждавшим их о приближении японских пиратов. Однако, город более известен под именем Чжи-фу (Чифу), по мысу, который защищает рейд на северо-западе, и над которым господствует конусообразная гора, высотою в 300 метров; при основании этого мыса должны были устроить порт, дабы защищать суда от северных ветров. Чифу, бывший в половине настоящего столетия простой деревней, теперь представляет один из главных городов провинции Шань-дун и один из тех портов Китая, где европейцы водворились наиболее удобным образом. Летом Чифу составляет своего рода Трувиль для иностранных колоний Китайской империи (торговые обороты порта Чифу в 1897 году, по ценности, простирались до 22.051.976 лан; движение судоходства в 1895 году: 1.809 судов, общая вместимость которых равнялась 1.669.845 тон.). Другие приморские города, лежащие на восточной оконечности полуострова: занятый в мае 1898 года англичанами Вэй-хай-вэй, с превосходной гаванью, Юн-чэн, Ши-дао, имеют важность только для местной торговли между Шань-дуном и Кореей.
В сравнении с северной покатостью берегов Шань-дуна, южный скат, обращенный к открытому морю, беден большими городами и оживленными судоходством рейдами. Один из самых многолюдных городов этой области—Лай-ян, обнесенный каменными стенами, которые возвышаются на берегу реки, изливающейся в порт Дин-цзы. Город Цзи-мо, на юго-западе, тоже важен как рынок сельско-хозяйственных продуктов, откуда вывозятся преимущественно свиньи, разного рода хлеб, плоды; километрах в пятидесяти к югу от этого города возвышается холм, усеянный храмами и изрытый во всех направлениях галлереями, где собирают драгоценные камни, которые жрецы продают в свою пользу во время ярмарок, устраиваемых по случаю стечения пилигримов. Цзи-мо, Гао-ми, Цзяо-чжоу и другие города страны отправляют свои произведения через порты большого внутреннего рейда, которому до сих пор еще дают название бухты Цзяо-чжоу, хотя этот город отодвинулся уже далеко от берега внутрь полуострова, вследствие образования наносных земель. *Как известно, Цзяочжоуская бухта в настоящее время составляет арендную собственность Германии, занявшей ее в зиму 1897 года*.
В южной области Шань-дуна, воды которой теряются на юге среди болот, заменивших старое устье Желтой реки, самый многолюдный город—И-чжоу, где существует значительная община магометан. Последние отроги «Восточных гор» (Шань-дун), которые исчезают близ города И-чжоу, и один из которых есть священная гора, почти столь же высоко чтимая, как и Тай-шань. заключают в себе пласты ископаемого угля, правильно разрабатываемые.
Города провинции Шань-дун, население которых указано, приблизительно, новейшими путешественниками или консульскими отчетами, суть:
Вэй-сянь, по Алабастеру—250.000 жителей: Дэн-чжоу-фу (консулы)—230.000 жит.; Цзинань, по Фовелю—200.000 жит.; Чжэн-цзя-коу (Вильямсон)—200.000 жит.; Чжи-фу— 35.000 жит. (в 1896 г.); Цинь-чжоу, по Маркгаму—70.000 жит.; Янь-чжоу-фу, по Маркгаму—60.000 жит.; Цзяо-чжоу, по Маркгаму—60.000 жит.; Лай-ян, по Вильямсону—50.000 жит.; Тай-ань-фу, по Маркгаму—45.000 жит.; Бо-шань, по Маркгаму—35.000 жит.; Цуй-фоу, по Маркгаму—25.000 жит.; Цзи-мо, по Маркгаму—18.000 жит.; Ши-дао, по Вильямсону—10.000 жит.; Гао-ми, по Вильямсону—10.000 жит.; Цю-сянь, по Маркгаму—10.000 жителей.