Глава VI. Корея
Полуостров, который выделяется из материка между двумя морями, Желтым и Японским, как-бы идя на соединение с южными островами архипелага «Восходящего солнца», совершенно ограничен со стороны твердой земли; как Италия, с которою его можно сравнить по протяжению и даже отчасти по географическому очертанию, он отделен от континентальной массы своего рода Альпами, цепью Чан-бо-шань или «Большими белыми горами» Маньчжурии; он имеет также и свои Апеннины, которые продолжаются с севера на юг, образуя, как-бы, остов полуострова. Так же, как и в Италии, западная покатость гор составляет, во всей центральной и южной области полуострова, живую половину страны: здесь развертывается течение корейского Тибра, реки Хань-ган, и здесь же находится Сеул, нынешний главный город азиатского полуострова. В Корее, как и в Италии, морской берег, обращенный к востоку, довольно однообразен и мало изрезан, тогда как западное побережье глубоко испещрено заливами и бухтами, богато островами и маленькими архипелагами; против этого же западного берега, простирается море, наиболее оживленное каботажным судоходством; как Корея соответствует Апеннинскому полуострову, так и Китайское море соответствует морю Тирренскому. Однако, это сходство можно подметить только в общих чертах, но оно не продолжается до деталей: в то время, как на северо-востоке со стороны русской Маньчжурии, пограничная область очень гориста и делает затруднительными сообщения между двумя странами, долины притоков реки Ялу-цзян представляют на северо-востоке весьма удобный естественный проход между Кореею и китайской провинцией. С этой стороны правительство двух сопредельных государств нашло нужным создать между собою «мархию» взаимной обороны, строго воспрещая всякую обработку почвы и поселения на широкой полосе земли, к западу и северо-западу от реки Ялу-цзяна. Смертная казнь угрожала всякому, кто вздумал бы поселиться, в качестве мирного земледельца, на этой запрещенной территории; разбойники устраивали там свои притоны, грабя купеческие караваны, которые не без опасения пускались по дороге, пролегающей через нейтральную полосу и которая ведет к «Корейским воротам», близ города Фын-хуан-чэн. Еще в 1866 году китайские послы, ездившие в Корею, чтобы поздравить молодого короля с его бракосочетанием, не имели другого пристанища во время пути, кроме ям, выкопанных в земле и прикрытых рогожами; чтобы избежать нападения волков и тигров, они должны были окружать свое становище кордоном из горящих костров. По новейшим сведениям оказывается, что запрещенное пространство, площадь которого исчисляется Бемом и Вагнером почти в 14.000 квадр. километров, начинает покрываться пашнями и селениями: мало-по-малу китайские эмигранты, которые уже овладели посредством земледелия почти всей южной Маньчжурией, делают захваты в этой полосе и расчищают там землю под пашни; точно также и корейцы основали несколько селений вне их границы. Согласно недавно изданному труду нашего Министерства Финансов, в нейтральной полосе и на берегах Ялу-цзяна расположено уже много сел и несколько городов.
Корея так же, как большая часть стран крайнего Востока, известна иностранцам под именем, которое обыкновенно не употребляется туземными жителями. Это наименование, принадлежавшее некогда маленькому княжеству Корье, одному из государств, на которые была разделена территория, было применено японцами и китайцами ко всему полуострову, под формами Гаогуйли («Отменная красота»), Корай и Гаоли. В конце четырнадцатого столетия, в эпоху соединения отдельных государств полуострова в одно королевство, страна, находившаяся тогда под верховной властью китайского императора, которого она признавала своим сюзереном, получила оффициальное название Чаосянь или Чаосиан (Циосен), то-есть «Утреннего блеска», по причине ее географического положения на восточной окраине империи; впрочем, это наименование было уже известно ранее, чем установилось территориальное единство Кореи, ибо Матуанлин, писатель тринадцатого века, приводил его, как принадлежащее одному из государств полуострова. Таким образом этот край означается поэтическим выражением, указывающим на его положение между Китаем и Японией. В то время, как эта последняя империя является для жителей континента «Страной восходящего солнца», Корея представляет «блестящую» землю, освещаемую утренними лучами дневного светила.
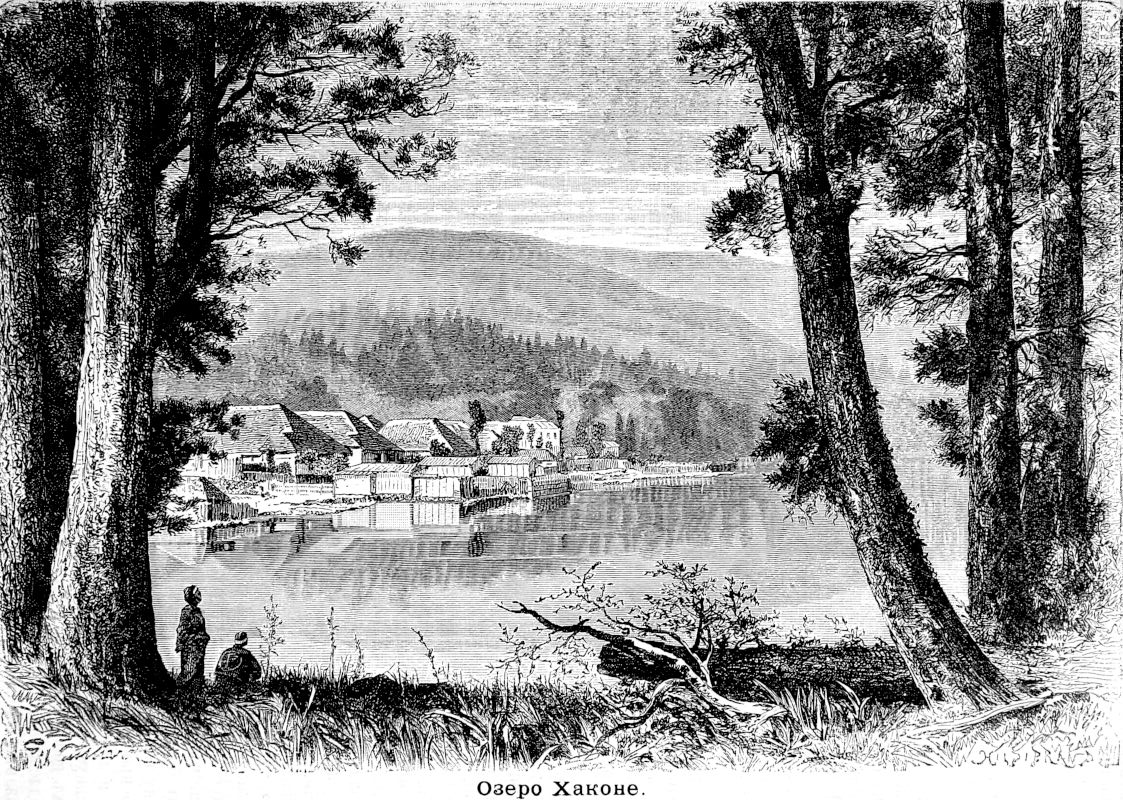
Корея, хотя и расположена между двумя часто посещаемыми морями, есть, однако, еще и до сих пор одна из наименее изследованных стран земного шара. Даже берега её, которые так необходимо было бы изучить самым тщательным образом для безопасности мореплавателей, еще неизвестны с точностью, и морские карты дают им очертания в большой части гипотетические. До семнадцатого столетия европейские географы полагали, что Корея остров, и так именно она представлена на карте Меркатора, Ортелия, Сансона; её полуостровная форма было впервые открыта картой, составленной на основании корейских и китайских источников, которую прислали миссионеры из Пекина, и которая была воспроизведена д’Анвилем. Первые точные наблюдения, сделанные европейскими мореплавателями, относятся к концу восемнадцатого столетия: только в 1787 году Лаперуз мог определить положение большого острова Квельпарта, называемого китайцами Тангло, а японцами Тамуро, и сделать гидрографическое описание Корейского пролива, между двумя морями Китайским и Японским. Десять лет спустя, другой мореплаватель, Броутон, обогнул полуостров на юге через пролив, который носит его имя, между Кореей и двойным островом Цу-сима, и обследовал некоторые пункты восточного берега. Впоследствии Крузенштерн, проходя на севере от острова Киусиу, через пролив, названный его именем, прибавил некоторые подробности к чертежу морских берегов. В начале настоящего столетия Максвель и Василий Галь возобновили дело гидрографического исследования, и с этой эпохи многие военные корабли, английские, французские, американские, русские, произвели детальную съемку различных частей морского прибрежья. В 1869 г. итальянский фрегат «Vitorio Pisani» также обследовал разные пункты корейского берега. Наконец, две военные экспедиции, одна французская, другая американская, имели по крайней мере тот практический результат, что доставили съемку берегов лимана и речного устья, которые ведут к столице королевства. В настоящее время наиболее усердно занимаются изучением берегов Кореи японские моряки. Они уже в большой части измерили и определили глубину тысячи каналов архипелага, островки и опасные подводные скалы которого усеяли море, и который на старинных китайских, японских и европейских картах и в описаниях изображался, да и теперь изображается принадлежащим к твердой земле острова. *Показания, относящиеся к величине поверхности Кореи, весьма разноречивы. По исчислению «Petermans Geogr. Mittheilung», 1883 г., площадь полуострова с островами равна 3.962,6 географических миль или 218.112 квадр. кило метрам. По последнему изданию «Almanach de Gotha», она исчисляется 218.650 кв. километров, тогда как известное справочное издание «Statesman's s уеаг book» 1895 года определяет площадь в 3.765,4 географических квадр. миль. Подобная резкая разница объясняется тем обстоятельством, что в Корее весьма трудно определить правильное положение береговой линии и до сего времени нет ни одной карты, которая бы совершенно точно определяла границу моря и суши. Это особенно относится к югу полуострова, еще более к его западному побережью и многочисленным островам. Громадность приливов и отливов в связи с отлогостью морского дна являются причиной неизследованности берегов*.
Нельзя сказать, что внутренность полуострова совершенно неизвестна, так как уже с морского берега можно разглядеть её горы, различить её долины и равнины, при том же карта Кореи, составленная д'Анвилем и воспроизведенная почти всеми другими географами, основана на довольно точных документах корейского происхождения. Конечно, направление горных цепей, ход течения рек, место городов показаны без строгой точности, но и до настоящей минуты еще ни один исследователь, в строгом смысл этого слова, не проверял и не исправлял предидущих работ по описанию этой страны. В 1653 году голландский писатель Гамель, потерпев крушение у берегов острова Квельпарта, с тридцатью пятью спутниками, был отведен пленным до самой столицы, и в продолжение 13-летнего невольного пребывания в крае мог изучить нравы и обычаи корейцев, но, как простой пленник, он не имел возможности ознакомиться с страной с географической точки зрения, и при том пройденный им путь идет вдоль западного берега, не проникая во внутренность земель. Христианские миссионеры, которые с 1835 года одни за другими посещали Корею для проповедывания её жителям слова Божия, исходили почти всю западную покатость полуострова, пробираясь туда—одни сухим путем с границ Маньчжурии, другие морем с берегов Шань-дуна; но жизнь скрывающихся беглецов, которую они принуждены были вести, не позволяла им делать много точных наблюдений над краем. Большинство их могли путешествовать только в ночное время, или должны были нарочно выбирать самые трудныя, наименее посещаемые дороги, должны были вязнуть в болотах, продираться сквозь лесные чащи, питаясь травами и корнями. Однако именно этим отважным миссионерам, из которых многие поплатились жизнью за свое рвение к распространению Христовой веры, наука обязана наиболее полным собранием сведений по географии страны «Утренней ясности».
*Еще более точные и полные сведения о стране стали проникать в европейскую литературу после того, как страна согласилась открыть для иностранной торговли некоторые из своих портов и заключила договоры с иностранными государствами. Последние обстоятельства доставили доступ в страну многим европейцам, которые уже по своему служебному положению нередко бывали обязаны изучать страну. И действительно, самые ценные сведения о Корее за последнее время принадлежат оффициальным консулам и чиновникам английского правительства, Карлесу, Грифису, Готше, Бишоп и др.*
Простой прибавок или выступ китайской покатости азиатского континента и в то же время земля, близкая к Японии, Корея, естественно, не могла не сделаться предметом спора между двумя державами, к которым она прилегает. Служа постоянно яблоком раздора между этими государствами, она-то и явилась главной причиной Японско-Китайской войны. До соединения корейских княжеств в одно королевство, полуостров заключал несколько отдельных государств, границы которых часто менялись. Это были: на севере, Гаогуйли (Гаоли) или Корея в собственном смысле; в центре Чаосянь и «семьдесят восемь» королевств китайского основания, которым вообще давали китайско-японское название Сан-кан (Сан-хань) или «Три Хань»; на юге, княжество, известное у китайцев под именем Синло, а у японцев под именем Сираги, далее государство Петси или Гиаксай, называемое Кударой восточными островитянами; кроме того, маленькое государство Кара, Зинна или Мимана образовалось на юго-востоке полуострова, вокруг залива Фузан. Северные территории, лежащие в соседстве с Китаем, необходимо должны были тяготеть к Цветущему царству, императоры которого неоднократно вмешивались во внутренния дела полуострова. С своей стороны, южные корейцы, известные в истории под японским прозвищем Кмасо или «Стада медведей», долгое время находились под владычеством Японии; иногда они делали частые набеги на острова Киусиу и Хондо и даже поселялись там на жительство. Первое завоевание Кореи было совершено в третьем столетии армиями правительницы Японии Зингу. Около конца шестого века знаменитый японский диктатор, которого обыкновенно означают прозвищем Тайко-сама, и который, начав свое поприще разбойничаньем на большой дороге, кончил тем, что подчинил своей власти все феодальное дворянство Японии, возъимел смелую мысль завоевать Срединное царство. Будучи почитателем Португальского королевства, которое, несмотря на крохотные размеры своей территории, успело присоединить к своим владениям обширную Индийскую империю, он решился не оставаться позади маленького короля Запада по грандиозности завоевательных предприятий. Так как попытка его вовлечь в свой союз против Китая государя Кореи не увенчалась успехом, то он должен был начать осуществление своего плана завоеванием полуострова, которому он и объявил войну, под предлогом старинных прав Японии на страну «Медведей» (Кмасо); он опустошил провинции этого государства, принудил короля признать себя его данником, и, не смотря на то, что был разбит пришедшими на помощь китайцами; уходя в Японию, оставил постоянный гарнизон в Фузан-по на корейской территории. Следовавшая затем новая экспедиция также была победоносна и хотя она была прервана смертью самого Тайко-самы, но остров Цу-сима остался окончательно в руках японцев, и с этой эпохи до половины настоящего столетия, Корея, как вассалка Ниппона, не переставала посылать регулярно каждый год, через посредство князя Цу-симы, изъявление своего ленного подданства и свои дары. По свидетельству христианских миссионеров, которое, впрочем, может быть есть не более, как воспроизведение какой-нибудь древней легенды, но которое не подтверждается японскими летописями, первоначально часть ежегодной дани, платимой корейцами Японии, составляли тридцать человеческих кож; впоследствии они были заменены посылками серебра, рису, холста и лекарственных растений.
Что касается отношений страны «Утреннего блеска» к Китаю, то они были самые дружественные, благодаря поддержке, которую династия Минов оказывала царствующей династии Кореи в её победоносной борьбе против других государств полуострова и в её сопротивлении против Японии. Поклонники китайской цивилизации, корейские короли считали для себя за честь получать инвеституру от «Сына Неба». Но в эпоху завоевания Срединного царства маньчжурами, Корея осталась верна делу Минов, и новые властители империи должны были предпринять поход, чтобы силой заставить государя полуострова признать их верховную власть. В 1637 году они опустошили северные провинции Кореи и предписали условия мира, которыми побежденное королевство обязывалось платить каждый год пекинскому двору дань, состоящую из 100 унций золота, 1.000 унций серебра, а также из определенного количества произведений естественных, промышленных и художественных, мехов и лекарственных корней, тканей всякого рода, циновок, вышитых и разрисованных; посольство, привозящее эту ежегодную дань, получало в обмен императорский календарь. Корейский король даже прямо называл себя «подданным» богдохана; но, несмотря на это название, китайское правительство далеко не пользовалось реальным правом верховной власти над корейской территорией. По закону, ни один выходец Срединного царства не мог поселиться в пределах Чао-сяна; даже посланники пекинского двора, при въезде в столицу Кореи, должны были оставлять свою свиту за городом, и во время пребывания их в сеульском дворце они походили скорее на почетных пленников, чем на представителей государя, верховного повелителя страны. Таким образом, несмотря на свою двойную вассальную зависимость в продолжение периода, обнимавшего более двух столетий, Корея, так сказать, равно побуждаемая двумя соседними империями, как двумя силами, действующими в противоположном направлении, оставалась совершенно самостоятельной, автономной страной: но стараясь держаться в стороне, так, чтобы другие забыли о её существовании, она не имела до последнего времени никакой политической важности, не играла никакой роли в истории Азии; можно было сказать, что в том месте, где находится этот обширный и богатый полуостров, земля представляет пустое пространство.
Третья империя, сделавшаяся соседкой Кореи, тоже вмешивается, в свою очередь, и дает чувствовать свое могущество. Уже не раз были поводы предполагать, что Петербургское правительство сделает распоряжение о занятии какого-нибудь порта на полуострове «Утреннего блеска». Нет сомнения, что как с торговой, так и с стратегической точки зрения России было бы чрезвычайно выгодно владеть на южном берегу Кореи, этой Италии азиатского Востока, какой-нибудь хорошо защищенной от ветров гаванью, доступной судам в течение всей зимы, в то время, как рейд Владивостока бывает заперт льдами. Обладание таким портом на корейском побережье, который наблюдал бы одновременно за двумя морями, Китайским и Японским, и командовал бы проливами, весьма важно и желательно для России; однако, преследуя цели общего миролюбия, Россия не только не пытается этого достигнуть, но напротив употребляет со своей сторона все усилия, чтобы только сохранить независимость и целость корейского владения. Английские моряки тоже часто предлагали своему правительству овладеть островом Квельпарт, чтобы иметь точку опоры, откуда можно бы было господствовать над проливами морей Желтаго и Японского, и вероятно это было бы исполнено, если бы в водах, окружающих остров, была удобная гавань. В настоящее время из трех окружающих государств почин в приобретении влияния на судьбы корейского народа принадлежит Японии, которая добилась уступки себе торговых пристаней на морском прибережье и служит главным посредником между полуостровитянами и внешним миром.
Китайские и японские книги дают лишь несвязную и смутную картину королевства Чао-сянь, а корейское правительство старается поддерживать мрак неизвестности и совершенное молчание относительно его собственной страны. Существующие краткия изложения отечественной истории суть не что иное, как собрания анекдотов, истинных или вымышленных, которые ученый постыдился бы цитировать. Да и эти анекдотические сочинения касаются лишь древней истории Кореи, ибо строго воспрещено публиковать или хотя бы только составлять какие бы то ни было записки, относящиеся к новейшим событиям и упоминающие имена государей царствующей династии. Тем не менее, у большой части дворянских фамилий существует обычай отмечать важнейшие современные факты в секретных записных книгах, но при этом остерегаются высказывать хотя бы малейшее суждение о действиях министров или даже мелких правительственных агентов, так как всякому хорошо известно, что за одно неосторожное слово можно поплатиться жизнью. Географические документы еще более редки, чем исторические сочинения и материалы, как о том свидетельствует безобразный эскиз, который был доставлен посланникам китайского императора Кан-си, просившего своего вассала прислать ему карту территории: очевидно, у корейцев во все времена было обыкновение держать иностранцев в полном неведении относительно их отечества. А между тем мало найдется стран, знакомство с которыми представляло бы более интереса, горы которых имели бы более величественный вид, долины были бы болею живописны, а произведения более разнообразны.
По описанию Далле, главная горная цепь Кореи отделяется от Чан-бо-шаня в массиве Пай-ку-сань или «Горе с белой главой», и образует раздельную линию между водами, текущими на северо-восток в реку Тумень-ула, и водами, спускающимися на юго-запад к реке Ялу-цзян. Многие вершины, возвышающиеся над хребтом, означаются, с различными вариантами, именем Пай-ку-сань, так что вся цепь, от границ Маньчжурии до Броутонова залива, могла бы носить это наименование, смысл котораго—«Белая гора». Следовательно, в этой области Кореи горы достигают весьма значительной высоты; здесь, вероятно, находятся самые высокие вершины полуострова, но большинство их еще не было посещено путешественниками, и потому измерения высоты имеют некоторую достоверность только для гор морского прибрежья, видимых с открытого моря. Гора Гиен-фун, (Сань-фын) пирамидальная масса которой виднеется в небольшом расстоянии от берега, на севере от Броутонова залива, имеет более 2.470 метров высоты; кроме того, многие другие вершины достигают 2.000 метров.
Единогласное свидетельство первых христианских миссионеров и позднейших путешественников не позволяет сомневаться в гористом характере внутренней части Кореи. Во всех областях полуострова, куда ни посмотришь, везде увидишь только горы, либо голые, лишенные растительности, либо покрытые густыми, непроходимыми лесами, ограничивающие небосклон своими вершинами, обрисовывающимися в форме куполов, башен, конусов или шпицев; везде долины узки и сообщаются посредством диких ущелий, равнины, да и то небольших размеров, встречаются только в соседстве морских берегов и преимущественно на западном побережье полуострова. В целом, рельеф полуострова образует наклонную плоскость, вершина которой находится довольно близко от восточного берега: с этой стороны падение быстрое, поверхность круто понижается к Японскому морю, и воды, омывающие крутизны прибрежья, глубоки; берег, правильный, едва зазубренный, развертывается в виде длинной выпуклой кривой, от Броутонова залива до южной оконечности Кореи. Покатость, обращенная к Желтому морю, имеет гораздо более пологий скат, чем восточная, она постепенно понижается к неглубокому морю, и неопределенная линия морских берегов окаймлена бахрамой из полуостровов и островков, очертания которых изменяются при малейшем колебании уровня вод. Насколько можно судить по имеющимся детальным сведениям, лабиринт корейских гор происходит от пересечения меридиональной цепи, идущей вдоль восточного прибрежья, и поперечных хребтов, принадлежащих к китайской системе возвышенностей; самая форма иссечений западного берега, повидимому, указывает на то, что выступы или возвышения земной поверхности следуют в Корее тому же самому направлению, как и на соседнем континенте. Длинная гористая коса далеко выдается в Желтое море, как-бы для того, чтобы идти на соединение с полуостровом Шань-дун, ограничивая Чжилийский залив; точно также юго-западная оконечность выдвинулась в Желтое море, предшествуемая целым архипелагом островков, и образует выступ, соответствующий полуострову Нин-бо и островам Чжу-сан, на китайском берегу. По крайней мере два из корейских хребтов несомненно имеют то же направление, как горные цепи и террасы соседнего материка, и тянутся с юго-запада на северо-восток, параллельно цепям и террасам Маньчжурии, Монголии, Чжи-ли, Шань-си: один из этих хребтов, составляющий по ту сторону Желтого моря продолжение гор полуострова Шань-дун, тянется вдоль восточного берега до залива Посьета; другой начинается у крайнего мыса южной Кореи и сливается с восточными горами около выпуклости морского прибрежья, над которою господствует вершина Цан-сань, называемая русскими моряками «Горой Попова». Островки, принадлежащие к этому последнему хребту, очень высоки: многие из них—холмы или, вернее, горы с обрывистыми скатами, поднимающиеся на 500, даже на 600 и 640 метров над уровнем моря. Остров Квельпорт, из которого корейское правительство сделало место ссылки, также образует маленькую горную цепь, ориентированную по направлению от юго-запада к северо-востоку, и приметную издалека по белеющим скалам горы Аула или Ханка-сань, называемой английскими моряками горой Аукленд, которая поднимается на 2.029 метров над уровнем моря. Некоторые из островов морского прибрежья, очевидно, вулканического происхождения: так, остров Уллын-бо, который носит также японское имя Мацу-симы и европейское наименование Дажелет, имеет форму конуса, вершина которого поднимается слишком на 1.200 метров над поверхностью воды, тогда как откосы его погружаются в море глубиною более 700 метров. По словам корейской легенды, растения, животные и люди этого затерянного среди моря острова все отличаются исполинскими размерами. В эти-же области моря Матуанлин помещал «Царство женщин» и «Царство двулицых людей». Сеульское правительство не позволяло своим подданным ездить на этот остров; однако, смелые колонисты не убоялись поселиться в запретной земле и приняться за возделывание её долин, рискуя встретить там страшных гигантов. Леса этого острова доставили японцам большую часть дерева, которое послужило им материалом для постройки домов Гензана, на корейском прибрежье.
*В отношении горных богатств Корейского полуострова мнения различных специалистов весьма расходятся, тем не менее большинство мнений сводятся к тому, что в стране находятся довольно большие богатства, которые при правильной эксплоатации их могли бы приносить большие доходы этому обедневшему государству.
Золото в стране встречается весьма часто и преимущественно в северных частях. Один из последних исследователей северной Кореи, Лубенцов, на основании многих приисков, виденных им в департаментах Хам-хын, Пхион-ян и Ы-чжу утверждает, что долины некоторых ручьев и речек представляют настоящее золотое дно. Из своих наблюдений путешественник вывел заключение, что золотоносные пески являются не спорадически, а представляют сплошные отложения. Им встречено в двух северных провинциях страны 35 разработываемых приисков.
Менее богата золотом средняя и южная Корея, но и здесь встречаются уже давно эксплоатированные россыпи, привлекающие внимание японцев, которые, под залог одного из рудников в Ри-циене, даже предложили основать в Чемульпо банк и монетный двор. Богатые золотые россыпи обнаружены, по словам Бишоп, в 50 милях от Фузана. До последнего времени однако Корейское правительство стесняет разработку золота для иностранных компаний.
Единственное исключение было сделано для русского золотопромышленника Нищинского, который получил право добывать золото во всей северной Корее, но условия этой концессии не достаточно выгодны для предпринимателя, почему к разработке еще до сих пор не приступлено. Более выгодные условия успела выхлопотать себе американская компания инженера Морса, которой Корейское правительство отвело площадь в 25 квад. миль к северу от Пхион-яна и разработку которых видела Бишоп. Чтобы иметь хотя приблизительное понятие о запасах золота в стране, достаточно упомянуть, что с 1886 по 1896 год из открытых для иностранцев портов было вывезено металла на 11.815.431 дол., т.е. в среднем около 1.074.110 дол. в год. Принимая во внимание, что здесь показан лишь прошедший через таможню металл, а большинство вывозится контрабандой, приходится придти к заключению, что вывозка его достигает до 4.000.000 долларов. Лубенцов полагает, что количество добываемого золота для одного только Гензана должно быть не менее 51/2 миллион. дол.
Серебром богаты горы в окрестностях Сеула и северная часть страны, где оно добывается около Ан-чжю, Кай-чхэн, Чжан-чжин и в других местностях. В виду малой ценности и сравнительной трудности разработки, серебро не так привлекает промышленников. Оно употребляется лишь внутри страны на поделки, если же и вывозится, то только на северной границе для Китая.
Железные руды встречаются во многих местах страны, и в некоторых местах залежи их расположены вблизи самого моря, так это встречается в провинции Кион-гы-до или около Киль-чжу. Корейцы довольно искусны в обработке чугуна, и все железные вещи для домашнего обихода приготовляются в стране кустарным способом в небольших печах с поддувалами.
Медь добывается во многих местностях северной Кореи около Киль-чжу, где даже был устроен особый монетный двор для отливки медных кэшей, служивших до последнего времени единственной корейской монетой.
Обращаясь к такому роду минеральных богатства, как каменный уголь, следует оговориться, что присутствие каменного угля обнаружено в Корее во многих местах, но в большинстве случаев это мелкий спекающийся и бурый уголь, который разработывается самими корейцами везде, где он появляется на поверхности земли. Более хороший уголь в настоящее время известен в окрестностях Фузана и главным образом около Пхион-яна, где он разрабатывался в 1885 году для правительства.
Кроме вышеперечисленных главнейших минеральных пород страны в ней встречаются: каменная соль, ртуть, олово, свинец и сера. Есть указания и на то, что на полуострове была находима нефть.
Большинство этих богатств если и эксплоатируется, то самым первобытным способом, и задачею японцев в период временного правления их страною являлось желание оживить этого рода промышленность. Вместе с тем они старались забрать в свои руки все лучшие рудники и месторождения горных богатств страны. Вместе с японцами в страну явились авантюристы других национальностей и под защитой своих консульских флагов назойливо требовали концессий, отказать в которых король не имел ни сил, ни мужества. Только в начале 1898 года он вновь заявил, что впредь в Корее не будет выдаваемо никаких концессий иностранцам.
Флора Корейского полуострова по своему составу имеет большое сходство на севере с флорой Маньчжурии, на юге отчасти приближается к флоре Японских островов, а отчасти, особенно на островах у юго-западного прибрежья, имеет много общего и с растительностью северо-восточного Шань-дуна. «Лежа как раз против Японии», пишет известный ботаник академик Максимович, «пользуясь благорастворенным климатом последней, Корея должна иметь много общего и в флоре». Те немногие данные, которые известны, подтверждают слова этого знатока восточно-азиатских растений и в особенности по отношению к южной части страны.
Кратковременность вегетационного периода конечно является главною причиною существующего различия флор японской и корейской. Так, в Корее уже не встречаются японские низкорослые пальмы и многочисленные в Японии породы вечнозеленых деревьев, а бамбук, редкий на полуострове, не заходит севернее 35°45' с.ш. Северные породы деревьев из Маньчжурии проникают на юг значительно более и особенно далеко заходят вдоль восточного прибрежья.
В настоящее время леса близ больших населенных пунктов почти истреблены и в средней и южной части полуострова сохранились лишь как украшения храмов и гробниц или же благодаря своей недоступности. В северной Корее леса также довольно редки на побережье, внутри же все горные хребты и их отроги густо заросли лесом, который в некоторых местах представляет как по виду, так и по составу настоящую маньчжурскую тайгу. Этот характер Маньчжурской флоры сохраняется вполне даже около Гензана, но уже около Сеула в состав лесов входят растения, свойственные более теплому поясу. Здесь уже произрастает каштан, хлопчатник, бумажное дерево, Rhus vernicefera и Rhus succeneana. Попадаются китайские дубы, а еще южнее около Фузана ростут на открытом воздухе гранаты, камелии, каки и даже померанцы.
Один из последних путешественников по Корее, г-жа Bichop такими словами рисует картину растительности в средней части течения реки Хань. «В противоположность оголенным скатам холмов между Чемульпо и Сеулом, недоступные склоны высот, расположенных вдоль дороги, покрыты отдельными деревьями и во многих местах даже целыми лесами хвойных и лиственных пород, среди которых чаще всего попадаются живописные группы зонтикообразных сосен (Pinus sinensis и Abies microsperma). Несколько пород кленов и дубов, можжевельник, орешник, ясень, даурская береза и рябина перемешиваются с более южными породами, представителями которых здесь являются Sophora japonica, Platanus, Evonymus alatus, Thuja orientalis и многие другие. Красивые развесистые кусты разрезнолиственных Aconthopanax recinifolia, тутовая шелковица, грецкий орех и довольно редкая Zelkowia указывают на близкое родство корейской и японской флор. Гелиотроп, гвоздика и алые азалии были в полном цвету и украшали склоны холмов; белые и серно-желтые цветы ломоносов, вьющаяся зелень Actinidia сменяются прелестным Ampelopsis Weitchiu, который покрывает утесы своею изящною свежею зеленью; вьющиеся красные и белые розы охватывают стволы даже высоких деревьев, взбираются на вершины их и спускаются над тропинкой красивыми фестонами душистых цветов».
Полезных растений в корейской флоре Готьше насчитывает более 60 видов. Из злаков рис, много видов проса, ячмень, пшеница, гречиха. Особенно важны рис и просо, составляющие главную пищу населения. Следует упомянуть также и о бобах, кукурузе, а на севере и о картофеле. Арбузы, тыквы, огурцы, редька и редиска служат пищею простолюдина.
Ткани выделываются из хлопчатника и крапивы и окрашиваются в краски, добываемые также из местных растений. Красная добывается из Conthamus tinctonus, синяя из Polygonum tiociorium и фиолетовая из Lithospermum erythrorhizun. Из семян клещевицы, крапивы, сесама и горчицы выделываются масла, а из дерева Broussonetia papyrifera—прекрасная бумага.
Почти весь строевой лес, употребляемый в Чжи-ли и Шань-дуне, вывозится из северной Кореи. Лесные богатства страны обратили внимание некоторых коммерсантов, и последние неоднократно обращались к корейскому правительству с просьбой разрешить разработку и вывозку леса. В конце 1896 г. одну такую концессию получил владивостокский купец Бринер, которому разрешена разработка лесов по долинам р.р. Ялу-цзян и Тумень-улы и на острове Дажелете*.
Дикая фауна полуострова заключает, между прочим, медведей, лисиц, кабанов, тигров и барсов: звериные шкуры принадлежат к числу важнейших предметов корейской торговли. В некоторых округах тигры нападают на туземцев даже в их селениях; они бродят вокруг домов и иногда вскакивают на соломенные крыши, разносят их и таким образом пробираются к добыче. Сезон охоты на этого хищника начинается зимой; когда снег на половину подмерзнет, он достаточно крепок, чтобы сдерживать человека, но проваливается под тяжелыми лапами тигра; в то время, когда зверь тщетно старается высвободиться из вязкого снега, охотник быстро бросается на него, чтобы пронзить его копьем или кинжалом. Корейские лошади, привозимые преимущественно с острова Квельпарт, очень малорослы, как шотландские пони, но быки, которых здесь употребляют для езды, сильные животные. Свиньи и собаки очень многочисленны, но последних не утилизируют ни для охоты, ни для оберегания домов или стад: до крайности боязливые, корейские собаки служат только к тому, чтобы снабжать рынки бойным мясом. Тогда как в Китае собачье мясо только в исключительных случаях входит в число предметов общественного питания, в Корее оно дли всех жителей составляет одно из самых лакомых блюд. Моря, омывающие берега полуострова, чрезвычайно богаты животной жизнью, и в этих водах ловят, между прочим, одну породу ската, кожа которого, под именем galuchat (шагрен из рыбьей кожи), употребляется на выделку ножен. *Кроме всевозможной мелкой рыбы, которою так богаты воды восточно-азиатского побережья, около Кореи ловится масса лососей, трески, селедки и камбалы, не менее богаты воды, обмывающие Корею, и китами, дельфинами и ракообразными. Из последних крабы особенно изобильны и в сушоном виде являются даже предметом вывоза. Занятие рыболовством весьма доходно и очень распространено не только у местных жителей, но и у японцев, которые арендуют места около Квельпарта и Фузана. В 1896 г. в корейских водах ловило рыбу 859 японцев судохозяев.*
Хотя и омываемая водами моря, Корея, однако, имеет такой же континентальный климат, как Китай и Маньчжурия, причину чего следует искать в незначительной глубине Желтого моря и Чжилийского залива: так как эти внутренния воды быстро нагреваются или охлаждаются, смотря по времени года, то они, понятно, могут оказывать лишь весьма слабое влияние в смысле регулирования годового климата. Как и в континентальной Азии, кривая изотерм, соответствующих изотермам Европы, проходит в Корее несколькими градусами южнее тех широт, которые она пересекает на берегах Атлантического океана: чтобы отыскать среднюю годовую температуру Франции, нужно спуститься на южную оконечность полуострова, на такое же расстояние от экватора, в каком находятся Гибралтар и Мавритания. Не только климат Кореи, в среднем выводе, холоднее климата Европы, но, главное, он гораздо более неравномерен, отличаясь крайностями тепла и холода, потому что холодные северо- западные ветры господствуют здесь зимой, тогда как юго-восточные муссоны дуют летом. Даже в южных провинциях термометр опускается зимой на много градусов ниже точки замерзания, а в центральной Корее бывают двадцати-пяти градусные морозы.
*Юго-восточный муссон, поступая в область Корейского полуострова, приносит с собою много влаги, и влияние его сказывается в том, что облачность и количество осадков в Корее за период лета несравненно более, чем в другие времена года. Вообще же в Корее количество осадков велико непомерно, сравнительно с другими странами на такой же широте. Чем южнее место на полуострове, тем ранее начинается в нем сезон дождей или туманов. Так в Фу зане дожди начинаются много ранее севера Кореи и южной Маньчжурии. По сведениям 1887-1889 годов, среднее количество осадков для Гензана, Фузана и Чемульпо определялось в таком числе часов:
Гензан—туман 186, снег 302, дождь 814, в том числе на июнь и июль 330; Фузан—туман 216, снег 107, дождь 1.552, в том числе на июль 156; Чемульпо—туман 585, снег 0, дождь 422, в том числе на август 115*.
Такое огромное количество атмосферных осадков делает, что каждая долина гор имеет свою речку, каждая равнина морского прибережья орошается большой рекой: но полуостров, разделенный на две покатости незначительной ширины, недостаточно велик, чтобы эти потоки могли сделаться судоходными: узкие, быстрые, загроможденные во многих местах камнями, они доступны судам только в лиманах при их устьях. Значительнейшие реки текут в самой широкой части территории, то-есть при основании полуострова; это Ялу-цзян (Амнок-кан, по-корейски) и Тюмень-ула (Туман-ган), которые служат границами Кореи; морские барки поднимаются по Ялу-цзяну на 50 километров от устья; выше эта река еще судоходна для мелких речных судов на пространстве около 200 верст до Мао-эр-шаня. Морской пролив поднимается с большой силой в потоки западного берега, к Хань или «Сеульской реке» он, говорят, повышает речной уровень более чем на 10 метров, и течение почти моментально меняет направление в противоположное при переходе от прилива к отливу. Точно также в Фузане, на юго-востоке полуострова, разность уровней, производимая приливом и отливом, достигает десятка метров.