Народная перепись 1794 года, результаты которой были сообщены миссионером Давелюи, насчитывала в Корейском королевстве 1.837.325 домов и 7.342.361 жит.,—3.396.880 мужчин и 2.743.481 женщин. Более близкия к нашему времени оффициальные статистики народонаселения дают несколько меньшую цифру жителей; так по переписи 1897 года в Корее оказалось 5.198.028 душ при 133.230 доме; но, по единогласному свидетельству корейцев, это исчисление далеко ниже действительности, так как подданные корейского короля имеют выгоду скрываться от переписи, чтобы избегнуть податей и барщинных повинностей. Далле полагал, что в его время число жителей полуострова превышало десять миллионов, а Опперт определял его в пятнадцать или шестнадцать миллионов душ, распределенных, впрочем, весьма неравномерно, ибо гористые области севера Кореи почти пустынны и безлюдны, тогда как население живет скученно в плодородных областях юга; повсюду, где почва, хорошо обработанная, производит рис в изобилии. Мало провинций, где бы не встречались новые, недавно основанные селения, мало местечек, где бы новые дома не прибавлялись к старым постройкам, земледелие постоянно распространяется все далее, захватывая пустующие земли и леса, и дикие звери отступают перед надвигающимися хлебопашцами. Даже на северном участке восточного берега, холодном, каменистом и бесплодном, население очень густое; в некоторых местах, деревни соприкасаются одна с другой, так, что образуют один сплошной город; повсюду, в соседстве морского берега, видно большое движение судов рыболовных и перевозочных. Но если рождаемость в Корее весьма значительна, то и смертность тоже очень сильна, и в земледельческих округах, где питание недостаточно, господствуют различные болезни, между прочим, суито,—то-есть «вода и почва»,—симптомы которой, как их описывают миссионеры, походят на симптомы миланской проказы. Оспа производит в Корее еще более страшные опустошения, чем в Китайской империи: говорят, что более половины детей делаются жертвой этого бича; наконец, обычай произведения искусственных выкидышей, почти общераспространенный в стране, еще более уменьшает естественный прирост народонаселения. В целом, климат Кореи считается здоровым: число достигающих столетнего возраста довольно значительно, как это явствует из оффициальных ведомостей о пенсиях, выдаваемых престарелым людям из фондов государства.
Корейцы ростом вообще немного повыше китайцев и японцев. Сильные, способные к продолжительному труду, они могли бы считаться превосходными работниками в портах, открытых японской торговле, и в земледельческих колониях русской Маньчжурии, если бы не их все уничтожающая лень. Что касается господствующего типа, в отношении формы черепа и лица, то невозможно составить о нем точное понятие, читая противоречащие одно другому описания, которые нам дают путешественники и миссионеры. Не подлежит сомнению, что корейцы представляют большое разнообразие типов от типа, который обыкновенно означают под именем монгольского, до типов европейцев и малайцев. Одна из крайних форм, тип континентально-азиатский, характеризуется широкой головой, выдающимися скулами, косолежащими глазами, маленьким носом, как бы теряющимся в двойной округлости щек, толстыми губами, редкой бородой, медным цветом кожи. Другая крайность, тип «островной», самыми чистыми представителями которого можно признать туземцев некоторых островов Лю-цю, отличается удлиненным овалом лица, выпуклым носом, выступающими вперед рядами зубов, которые всегда видны сквозь полуоткрытые уста, довольно густой бородой, тонкой кожей, матовый цвет которой приближается к почти зеленоватому оттенку малайцев. У большего числа корейцев замечаешь светлорусые волосы и голубые глаза; ни в какой другой стране Крайнего востока, исключая разве первобытных племен Нань-шаня, в южном Китае, не встретишь туземных семейств, которые представляли бы те же характеристические черты. Во многих округах Кореи можно бы было вообразить себя окруженным европейцами, если бы костюмы и язык не напоминали, что находишься на берегах Тихого океана. Ни в одной части полуострова женщины не уродуют себе ног на китайский манер. Во времена Матуанлина одно из племен народа Хань имело привычку сдавливать голову детям с помощью камня, тогда как прибрежные населения, находящиеся в сношениях с японцами, заимствовали у последних моду татуированья.
Каково происхождение этих различных рас, которые более или менее слились одна с другой, чтобы образовать нынешний корейский народ? Клапрот считает их родственными тунгузским племенам восточной Сибири: но известно, что китайский элемент также очень сильно представлен в стране, так как «Три Ханя» (Сан-хань), которые дали свое имя большой части полуострова, происходили от китайцев, переселившихся из провинций Чжи-ли и Шань-дун, в четвертом и пятом столетиях христианской эры, к концу царствования династии Цинь. Сами туземцы не имеют никаких преданий на этот счет; одни говорят, что их предки произошли от черной коровы, которая паслась на берегах Японского моря; но аристократические роды претендуют на более благородное происхождение: гаогуйли, имя которых, видоизмененное китайцами и японцами, сделалось теперь названием всего полуострова, утверждают, что прародителем их было солнце. Различные корейские наречия мало разнятся между собой, из чего можно заключить, что этнические элементы корейской нации давно уже слились в одну расу.
Идиом страны Чяосянь существенно разнится от китайского, так же, как и от японского: это язык полисиллабический и аглютинативный; звука л в нем нет, как и в японском; но тогда как этот последний отличается простой и ясной артикуляцией своих шести гласных, корейский язык имеет их не менее четырнадцати, которые почти все двугласные. Шипящие звуки и придыхания, которых не существует в японском языке, встречаются в большой части корейских слов; Пуцилло, в своем словаре, принужден был прибегать к неупотребляемым сочетаниям русских букв, чтобы передать приблизительно произношение корейских согласных, которое при том же всегда глухое и протяжное; кроме того, каждая фраза оканчивается гортанным звуком, который никто не может воспроизвести, не упражняясь долгое время в выговоре этого языка. Грамматическое строение корейского языка приближает его к идиомам уральским и тунгузским; он представляет также одну черту сходства с басским наречием, именно ту, что в нем меняются глагольные окончания, сообразно полу и состояниям собеседников. Корейская письменность, которая имеет за собой, как говорят, более двадцати столетий существования, заключает в одно и то же время особые изображения для каждой буквы и для каждого слога, всего немного более 200 знаков, более простых, но зато и гораздо менее красивых, чем китайские литеры: образованные люди гнушаются употреблять эти вульгарные письмена. До недавнего времени это было почти все, что европейцы знали о корейском языке; существовали лишь маленькие словари, очень неполные, так как грамматики и лексиконы, составленные миссионерами, были сожжены во время преследований, которым подверглись проповедники Христовой веры. Однако, один из священников, избегнувших избиения, успел собрать материалы, необходимые для составления окончательного труда по этому предмету, труда, который позволил дать корейскому языку специальное место, которое ему принадлежит между языками восточной Азии. Грамматика языка, составленная по-французски, издана в Иокогаме.
Введение множества иностранных слов, китайских в северное корейское наречие, японских в южное наречие, породило особые жаргоны, употребляемые в торговых городах. Арго, представляющий смесь корейского с японским и которым говорят в южных портах страны, довольно распространен повсюду кроме севера. Что касается китайской письменности, то это язык цивилизации, язык, который обязательно знать всякому образованному человеку; подобно тому, как в средневековой Европе латынь, язык ученых, упорно держался рядом с местным идиомом, так и в Корее китайская письменность сохраняется рядом с собственной речью и письменностью страны: но корейцы выговаривают китайские слова таким образом, что «сын Ханя» не может понимать их без переводчика. Все места, все лица, все вещи имеют два различные названия: одно китайское, более или менее измененное туземным произношением, другое чисто корейское. Эти два элемента разнообразно перемешиваются в живой речи различных классов общества и в то время как китайский язык господствует в оффициальном говоре, национальный сохранялся преимущественно в практике древних суеверий; большинство народа употребляет ту или другую устную речь, смотря по степени своих знаний и рангу своих собеседников. По словам миссионера Давелюи, во многих местах разговорный язык состоит всецело из китайских слов, имеющих лишь корейские окончания.
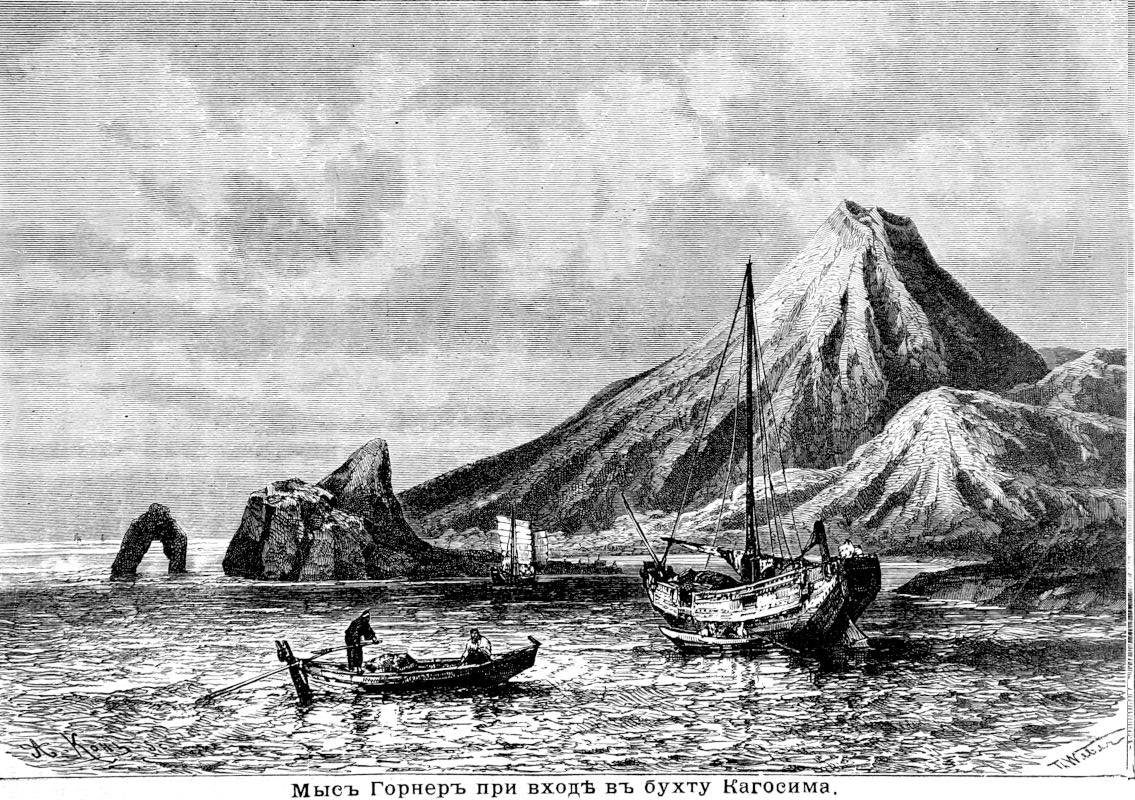
Вообще китайское влияние играло преобладающую роль в корейской цивилизации. В эпоху, когда полуостров был посредником Китая и Японии, корейцы взяли себе за образец нравы и учреждения Срединного царства. Государственное управление, обычаи и приемы оффициального мира были рабски скопированы с порядков Срединной империи, в отношении которой, Корея еще и до настоящего времени является в гораздо большей степени вассалкой и данницей с интеллектуальной, чем была с политической точки зрения, но народ сохранил свои старинные обычаи и в некоторых отношениях представляет поразительные контрасты с «детьми Ханя». Тогда как в «Великой и чистой империи» вся нация, за исключением нескольких бессословных людей, рассматривается как образующая одну большую семью, каждый член которой может подняться до самых высоких должностей в государстве, различные общественные классы корейской нации составляют настоящие касты. Кроме короля и его родственников, благородные, ведущие свой род от древних начальников племен, пользуются привилегиями богатства и власти, но не в равных степенях, смотря по группе, к которой они принадлежат: гражданское дворянство наиболее образованное, то-есть вполне сведущее в секретах китайских наук и словесности, имеет монополию высших должностей государственной службы; военное дворянство занимает лишь вторую степень, но и оно по достоинству стоит выше всех новопожалованных дворян, принадлежащих к фамилиям «без корней». Дворяне пользуются значительными привилегиями, и простолюдины-всадники, при встрече с ними на улице, должны останавливаться и сходить с коней; простой смертный едва осмеливается взглянуть на благородного, а тем более не дерзнет обратиться к нему с каким-нибудь вопросом; дворяне освобождены от всяких податей и налогов, как равно и от исполнения воинской повинности, и жилище их, считающееся неприкосновенным, может служить безопасным убежищем для всякого, кому они оказывают покровительство.
*Нужно сказать, что вообще корейское дворянство, весьма влиятельное и чрезвычайно гордое, крайне ревниво охраняет свои привилегии, так что всякое поползновение не уважать его права преследуется дворянами с неимоверной жестокостью.
В настоящее время число дворян достигло в Корее громадного числа. Это обстоятельство составляет главное зло для края; отсюда происходят все злоупотребления, на которые издавна жалуется народ, но, конечно, безуспешно, ибо аристократия так сильна и так твердо охраняет свои кастовые привилегии, что не только народ, но даже сам король не в силах бороться с её могуществом. Аристократия в Корее бесспорно всесильна; свое политическое влияние она приобрела постепенно, весьма ловко пользуясь для своих целей частыми и продолжительными регентствами, равно как ничтожеством целого ряда государей. Из-за приобретения этого влияния на государственные дела, между некоторыми аристократическими семействами часто возникала ожесточенная борьба. Однако, следует сказать, что как велика ни бывает ненависть между дворянскими партиями, они, в случае угрожающей им общей опасности, на время забывают все свои внутренние раздоры, чтобы общими силами защитить свои дворянские права. Эта солидарность дворянства и составляет его главную силу.
В Корее дворянин распоряжается хозяином и является повелителем. Для него закон не писан. Дворянин, который занимает высокую должность и кроме того имеет за себя несколько влиятельных ему сановников, даже смело противоречит самому королю. Власти, которые осмелились бы наказать дворянина, имеющего протекцию, неминуемо лишаются своих должностей. Поэтому в Корее царствует полный произвол. Бывает, например, что если знатному дворянину необходимы деньги, слуги его отправляются за поисками таковых у кого-либо из купцов или поселян, и горе тому, кто откажет в требуемой сумме: слуги сейчас хватают несчастного и тащат его в дом своего барина, где его истязают до тех пор, пока вся сумма не будет выплачена сполна. Другие же дворяне, не прибегая к столь суровым мерам, не лучше, однако, поступают: они обыкновенно берут деньги в займы, или покупают землю или дом у крестьянина, но затем ни денег, ни купленного недвижимого имущества не возвращают. Искать же против этих хищников в суде никто не отваживается, зная наперед, что спор непременно решится в пользу дворянина. Неудивительно поэтому, что дворяне пользуются общей ненавистью; это пугало, которым матери стращают своих детей. Народ конечно терпеливо переносит все эти несправедливости, тщательно скрывая до поры до времени свою злобу, которая при первом удобном случае может разразиться со страшной силой на голову вековых притеснителей Кореи.*
К дворянству весьма близок класс людей, образовавшихся в течение более столетия, благодаря безнравственности корейской аристократии, из незаконных детей дворян. Класс этот в последнее время поразительно увеличился и стал приобретать большое влияние на внутренния дела страны. Среди него встречаются секретари, переводчики, толмачи и другие второстепенные чиновники, которые составляют переход между вельможами и классом мещан, который заключает в себе торговцев, промышленников и большую часть ремесленников. Другое сословие, совершенно обособленное,—это земледельцев, пастухов, звероловов и рыболовов, которые составляют массу народа. Затем следуют «презираемыя» сословия, подразделяющиеся, в свою очередь, на несколько групп, которые держатся особняком одна от другой. Мясники, кожевники, кузнецы, бонзы тоже принадлежат к числу этих парий; но между ними же всего чаще встречаются те искусные и ловкие люди, готовые на всякое дело, услуга которых становятся необходимыми людям привилегированных каст. Наконец, низший слой общества составляют крепостные, из которых одни принадлежат короне, другие частным лицам, дворянам или мещанам. Они имеют право выкупаться на волю и могут жениться на свободных женщинах, чтобы дать возможность своим детям вступить в класс вольноотпущенников. Впрочем, с ними, вообще говоря, обращаются кротко, доброжелательно, и они смешиваются с землепашцами. Все касты, все корпорации отличаются в своей среде сильно развитым духом солидарности, и, благодаря этому, всегда умеют завоевать себе уважение других общественных групп. Особенно носильщики своей разумной внутренней организацией достигли того, что составляют как бы государство в государстве: они имеют свои уставы, собственные кодексы, и никогда не бывало примера, чтобы кто-нибудь из их среды просил правосудия у мандаринов; они сами восстановляют свои нарушенные права; когда они имеют повод жаловаться на какую-нибудь несправедливость или обиду, они покидают край, вследствие чего вся торговля приостанавливается, и чтобы побудить их вернуться, принуждены бывают подчиниться их требованиям.
Оффициальная религия—конфуционизм, который был введен в стране около конца 14-го столетия христианской эры: кроме того, исповедуется буддизм—древняя оффициальная религия страны; а равно не исчез еще древний анимистический культ. В Корее встречаются также кое-какие следы культа огня, который указывает на связь жителей полуострова с различными дикими народцами северо-востока Сибири: во всех домах сохраняют горячие уголья под пеплом; если бы жар потух, то это считалось бы приметой, что вместе с ним должно угаснуть и счастье дома. При переменах времен года и в другие важные периоды года нужно возобновлять огонь священной жаровни, зажигая девственное пламя, получаемое посредством трения двух кусков дерева один о другой. Что касается оффициальных церемоний буддизма, то они почти в совершенном пренебрежении, и презрение, выказываемое к бонзам, распространяется также на религию, представителями которой они служат: к ним обращаются только затем, чтобы заставить их поворожить. Во многих городах и деревнях храмов совсем не существует, да и в жилищах нет домашних жертвенников; даже в некоторых многолюдных городах все святилища имеют вид жалких мазанок.
*Храмы в честь Конфуция воздвигнуты повсеместно, в столице и во всех главных и уездных городах. Это небольшие здания весьма незатейливой архитектуры; все они обнесены стенами. Всякий, проезжающий верхом мимо храма, обязан сойти с лошади и пройтись пешком, о чем его всегда предупреждает выставленная у храма досчечка с надписью «слезай» (с коня). Этим кумирням иногда принадлежат весьма значительные угодья, но даже, если доходы оказались бы недостаточными для покрытия всех издержек по кумирне, то местные власти обязаны доставить необходимые для сего средства, и горе тому начальнику, который откажется исполнить подобное требование последователей учения Конфуция. В честь Конфуция жертвоприношения совершаются весною и осенью, а также в каждое новолуние и полнолуние. В столице король лично совершает жертвоприношения, которые состоят в заклании исключительно овец. Овцы эти покупаются в Китае; а разводить их в стране строго воспрещается. Обязанность совершать жертвоприношения в областных городах возлагается на представителей местной власти или на ученых, выбирающих из своей среды тех лиц, которые должны в продолжение определенного времени исполнить обязанность жреца. В этих кумирнях, как и в буддийских, книжники часто собираются для занятий и ученых диспутов.* Статуи богов и святых суть не что иное, как безобразные куски дерева, поставленные по краям дорог: сначала можно подумать, что это просто межевые знаки, и, только подойдя ближе, замечаешь грубые вырезки, придающие чурбану некоторое подобие человеческой фигуры. Как произведения искусства, идолы полинезийских дикарей стоят гораздо выше этих корейских изображений, которым, впрочем, прохожие оказывают так мало уважения, что недоумеваешь, зачем это поселяне давали себе труд воздвигать их; когда какой-нибудь из этих божков сгниет или повалится от ветра, дети катают его по земле, поощряемые смехом присутствующей взрослой публики.
Христианство тоже имеет последователей в Корее. Во время завоевания полуострова японским диктатором Тайкосамой первый корпус его армии был под командой католического князя, прибавившего к своему национальному прозвищу Коноси Юкинага португальское имя дон Аустин. С этой эпохи довольно большое число туземцев приняли чужеземную религию и стали исполнять её обрядности; китайские миссионеры поддерживали веру новообращенных, затем, в течение настоящего столетия, французские священники, приехавшие тайно, основали новые христианские общины; во время наибольшего процветания их церквей они исчисляли общую цифру христиан без малого в сто тысяч человек, и некоторые из их духовных чад, принадлежащие к королевской фамилии, были довольно могущественны, чтобы защищать их от преследования. Однако, миссионеры с опасностью жизни проповедывали учение Христа; в 1839 году трое из них были преданы смерти; в 1866 году правительство велело умертвить девятерых миссионеров, и только с большим трудом верующие успели дать возможность скрыться другим их пастырям. Христиане, несогласившиеся отречься от принятой ими веры, были осуждены на смертную казнь, и целые деревни потеряли почти все свое способное к труду население: более десяти тысяч человек были истреблены во время этого гонения. Тщетно французская экспедиция ходила требовать удовлетворения за убийство миссионеров: проникнув в реку столицы и разрушив город Кан-хуа, она вернулась в Чжифусский рейд, не получив ничего от корейского короля. Исповедание иностранной религии всегда уподоблялось, на полуострове, преступлению государственной измены, и потому в следующем же 1868 году погибло до 2.000 христиан, а в 1870 году около 8.000 человек. До 1882 года в стране функционировали только католики, но с этого года на Корею обратили внимание и протестанты, миссии которых ныне весьма многочисленны.
В Корее так же, как и в Китае, дозволено многоженство, и богатые пользуются этим правом, оставляя всегда заведование домашним хозяйством в руках первой супруги; но редко случается, чтобы простолюдин имел больше одной жены. Свадьба не сопровождается длинными символическими церемониями, как у китайцев: как только покупная цена или калым уплачен женихом, последний уводил к себе свою собственность, с которой он с этого момента может делать все, что угодно. Корейская женщина не имеет имени, ни даже легального существования: как существо безответное, она не может быть ни судима, ни наказываема законом, разве только во время возмущения. Впрочем, редко бывает, чтобы мужья худо обращались со своими женами, но корейские женщины пользуются меньшей свободой нежели китаянки: за исключением крестьянок, которые работают на пашнях, и торговок, которые ходят от дверей к дверям, предлагая свои товары, кореянки ведут затворническую жизнь в отдельной части дома, неприкосновенной даже для полиции; они никогда не выходят из дому во время дня: для них было бы позором показываться на улицах города до заката солнца. Однако, дабы их здоровье не страдало от затворничества, они могут прогуливаться вечером, после того, как окончание дневных работ позволило мужчинам вернуться в свои жилища. В девять часов пополудни летом, и в более раннюю пору зимой, особый сигнал возвещает о наступлении момента, когда улицы предоставляются в распоряжение прекрасного пола: мужчины спешат добраться до своих домов, те из них, которым случится замешкаться, обязаны, когда встретят дам, переходить на другую сторону улицы, закрывая себе лицо опахалом: поступить иначе значило бы обнаружить совершенное незнание правил приличия. Оттого большая часть путешественников, которые приставили к берегам Кореи, не имели случая видеть тамошних женщин с открытым лицом; говорят, что они вообще отличаются красивыми чертами и миловидной физиономией. Далле приводит в своей книге примеры кореянок, лишивших себя жизни самоубийством из-за того только, что чужеземцы дотронулись до их пальца.
Церемонии похорон обыкновенно бывают не более торжественны, чем свадебные обряды; у простонародья все ограничивается тем, что тело покойника кладут в гроб или даже просто завертывают в саван, и зарывают в землю без всякой торжественности, но люди богатые и знатные, которые хотят сообразоваться с китайским церемониалом, придерживаются еще, при погребении умерших, древнего ритуала, которому уже перестали следовать в самом Китае, по причине его крайней строгости. Траур по родителям продолжается целых три года, и во все время сын должен считать себя умершим для внешнего мира, должен отказаться от своих должностей и вообще от своих обыкновенных занятий; этикет не позволяет ему даже отвечать на слова, с которыми к нему обратится кто-нибудь; одетый весь в белом, он прячет лицо под большой шляпой и носит веер или длинный вуаль: католики-миссионеры часто пользовались этим таинственным траурным костюмом, чтобы путешествовать под защитой от нескромных вопросов чиновников и заниматься без опаски запретным «уловлением душ». Три раза в день в определенные часы, сыновья, носящие траур, должны предаваться плачу и оглашать воздух рыданиями. Редко случается, чтобы вдовы благородного звания вступали во вторичный брак; вдова, которая опять вышла бы замуж до истечения трехлетнего срока, подвергалась бы таким же наказаниям, как чиновники, изобличенные в лихоимстве, и ее дети, признаваемые незаконнорожденными, были бы навсегда исключены от конкурсных экзаменов, дающих право на административные и гражданские должности.
Таким образом китайские обряды и церемонии, так сказать, привиты на основе национальных нравов, но характер народа от этого не изменился. Корейцы не имеют хитрости китайцев и превосходят их в храбрости; гостеприимство их не знает границ; честные, простодушные, доброжелательные, они скоры на дружбу и доверие, но очень живо чувствуют всякую обиду. Серьезные и сдержанные в присутствии чужих, они охотно сбрасывают с себя обычный важный вид в обществе друзей; они не боятся даже плясать и предаваться забавам, которые китаец считает делом позволительным только дикарям. Корейские чиновники, правда, стараются подражать мандаринам Срединного царства, в отношении благородства и изящества манер, но не всегда успевают в этом, и дикарь невежественный в правилах и тонкостях обхождения, часто весьма скоро выступает наружу, как только кончатся оффициальные церемонии. Сценические представления, столь ценимые в Китае и Японии, известны корейцам мало, вероятно, по причине относительной бедности их литературы; но они большие ценители хореографии; музыка играет в жизни народа важную роль, и корейцы с восхищением слушают аккорды скрипки. Они находят удовольствие слушать европейские арии, которые китайцы, непонимащие гармонии, так медленно научаются оценивать, и даже при своих военных отрядах содержат примитивный оркестр.
Почти запертая до последнего времени для иностранной торговли страна производит только те продукты, которые необходимы для её собственного потребления. Корейцы, питающиеся, как и китайцы, рисом, возделывают преимущественно это растение, и большое количество воды, которое катят многочисленные ручьи и реки, дает им все удобства для образования искусственных наводнений, необходимых для этого рода культуры. Разводят также особую породу суходольного риса, легко растущего даже по горам. Они сеют также другие хлеба: пшеницу, просо, кукурузу, равно как овощи всякого рода, а в садах, окружающих селения, встретишь большую часть фруктовых деревьев умеренных климатов Европы и Азии; самый распространенный фрукт,—это плод курмы (diospyros)—«кам» по-корейски, «каки» по-японски;—но слишком дождливый климат страны отнимает почти весь вкус у этих плодов и весь аромат у цветов. Между промышленными растениями хлопчатник одно из наиболее распространенных: лет пятьсот тому назад этот драгоценный куст еще не был известен в Корее, и пекинское правительство, желая сохранить за Китаем монополию хлопчатобумажной культуры и промышленности, запрещало вывоз за границу семян хлопчатника, под угрозой самых тяжких наказаний; но один член посольства, отправляемого с поручением засвидетельствовать, от имени государя, почтение «Сыну Неба», успел похитить три зерна и спрятать их в бамбуковую трубку своей рисовальной кисти. С своей стороны, корейские короли строго воспретили вывоз жэнь-шэня; но хотя корейский корень, получаемый посредством культуры, гораздо менее ценится, нежели растение лесов Маньчжурии, тем не менее он сделался предметом важной контрабандной торговли. Чайное дерево растет в диком состоянии в южных частях полуострова, но оно почти не возделывается, так как употребление чая, этого китайского напитка по преимуществу, распространено в Корее только в высших классах. Виноградный куст, которого много разновидностей, дает превосходные плоды, но корейцы не умеют приготовлять из них вина. Картофель в Корее садят одни только христиане, и то тайком, чтобы приносить его в дар своим пастырям. Прежде запашки делались только в равнинах: гонимые за веру христиане первые принуждены были приняться за расчистку земли под пашни на верхних склонах гор, куда они скрывались от преследования; они открыли таким образом новые способы культуры и стали утилизировать растения, пренебрегаемые в других местах. В настоящее время главную отрасль земледелия на возвышенных местах составляет табак; кроме того, там сеют просо и коноплю.
*Земледельческая обработка земли не знает каких-либо машин и производится первобытным способом, посредством деревянных сох, мотыг, бамбуковых грабель. Водяных или ветряных мельниц не знают совершенно, заменяя силу воды и воздуха силою мулов или рук, толча зерна в ступах или растирая на жерновах, которые вращаются мулом, лошадьми или людьми. Корейцы в южной части страны снимают по две жатвы в год*.
В первые века христианского летосчисления корейцы были учителями японцев в большей части промышленностей, но в наши дни они стоят в этом отношении гораздо ниже своих бывших учеников. Они сохранили за собой превосходство только по фабрикации некоторых родов оружия да по выделке писчей бумаги из мякоти бруссонеции (braussonetia papyrifera). Туземцы умеют ткать и красить холсты и бумажные материи, но не выделывают шерстяных произведений и должны обходиться без этих тканей, которые были бы им очень полезны во время холодов: они довольствуются тем, что удвоивают или утраивают число своих одежд. Шелковые материи, в которые наряжаются чиновники и благородные, привозятся из Китая, но величественные шляпы с конической тульей и приподнятыми полями, почти в метр шириной, которые офицеры носят с такой гордостью, все местной фабрикации. Главное средоточие этой промышленности находится на острове Квельпарте; островитяне употребляют для этой работы или конский волос или чаще бамбуковые волокна, окрашенные в желтый цвет, или еще чаще, покрытые черным лаком, и украшают верхушку некоторых наиболее изящных шляп прелестными серебряными фигурами, изображающих журавлей или других птиц. Дома корейцев, даже те, которые носят громкое название дворцов, представляют вообще простые мазанки из глины, поднятые на столбах и крытые рисовой соломой. В городах самые красивые здания походят на китайские постройки по характеру архитектуры и внутреннему убранству; окна везде без стекол, составляющих предмет роскоши, который еще не проник в Корею; пол устлан циновками, и так же, как в Японии, посетители, входящие в горницы, снимают обувь у дверей. Нищета всеобщая, благодаря тому, что труд считается позорным делом; для людей высших классов, ростовщичество, казнокрадство и хищения всякого рода составляют единственные средства существования.
Начиная с половины текущего столетия и до 1884 года непосредственная торговля Кореи с её соседями, китайцами, японцами, русскими, была крайне затруднительна, и почти весь торговый обмен с иностранцами производится путем контрабанды. Морские экспедиции, сделанные без всякого серьезного результата в реку Хань-ян французами в 1866 г. и американцами в 1871 г., поселили в сеульском дворе убеждение, что, отныне непобедимый, он может вызвать на бой хоть весь свет и порвать всякия сношения с чужеземцами. В 1867 году ярмарки, происходившие ежегодно в Пи-ён-мынь, то-есть у «Ворот Кореи» близ Фын-хуан-чэна, были запрещены: точно также продолжавшиеся по несколько дней рынки, которые собирались в городе Кяньгуан, на корейской реке Тюмень-ула, недалеко от Хунь-чуна, в русской Маньчжурии, были упразднены, и правительство упорно отказывалось дозволить точное определение границ с Российской империей, не желая признавать существование этого стеснительного соседа. Корейский король, боясь даже поссориться со своим сюзереном «Сыном Неба», велел схватить китайские джонки, которые пришли, по издавна заведенному обычаю, ловить рыбу в водах королевства; многие из этих судов были сожжены, а экипажи их преданы смерти. В 1875 году японский посланник не был допущен к государю из-за того, что он нарушил традиционный этикет, осмелившись явиться в европейском костюме, и сеульское правительств дошло до того, что погрозило императору Японии наложить на него наказание, подобное тому, которому оно подвергло французов и американцев. Война уже готова была вспыхнуть между двумя соседними государствами, но на этот раз удалось путем переговоров предотвратить грозящую беду, и японцы, сильные примером, который им подали европейцы, форсируя вход в порты, необходимые для их торговли, успели, в 1876 году, заставить признать за ними право пребывания в их старинной фактории Фузан, на юге полуострова. Деревушка, находившаяся в этом месте, на берегу бухты, постепенно превратилась в маленький городок, имевший уже в 1878 г. около 3.000 жителей, перерезанный правильными улицами, украшенный общественными зданиями, между прочим храмом, воздвигнутым в честь древних японских завоевателей.
Корейцы, живущие в Фузане и на соседнем берегу, научились употреблять суда менее опасные для плавания, нежели шаланды, на которых еще и доныне пускаются в море другие мореходы корейских берегов. Большинство этих допотопных барок представляют просто большие ящики, кое-как сколоченные из досок и даже не законопаченные, с парусами и снастями из плетеной соломы; вода входит в таком обильном количестве через щели между досками, что несколько человек, вооруженных пустыми тыквами, беспрестанно заняты отливкой из трюма. На восточном берегу барки делаются даже просто из выдолбленных стволов деревьев; они походят более на корыта или колоды, из которых поят скот, чем на лодки. Понятно, что при таких условиях судоходство может производиться только от порта к порту, вдоль берегов; при малейшем признаке опасности эти утлые ладьи поспешно удаляются в ближайшую гавань.
Трактат 1876 года, открывший японской торговле территорию полуострова, составляет важное событие в истории Кореи, ибо с момента заключения этой конвенции прекратилась политическая и торговая отчужденность страны. Подобно тому, как Япония перед тем должна была, волей или неволей, войти в «концерт государств», так и Корея принуждена была, в свою очередь, вступить в сношения с Япониею, а через Японию и с остальным миром. Едва прошло четыре года со времени открытия Фузанского порта, как японская дипломатия добилась уже открытия другого пункта, города Гензана, лежащего верстах в десяти к югу от порта Лазарева, который часто посещали русские корабли, и на который нередко указывали, как на пункт, долженствующий быть присоединенным к Российской империи. Гензанский рынок составляет весьма важный пункт, так как он находится на северо-восточном берегу и потому доставляет внешней торговле несколько иные произведения края, а не те, что вывозятся из Фузана, а именно шкуры тучных зверей, табак, золотой песок и морскую капусту. Одна торговая компания тотчас же выстроила там дома и пристань, а вскоре было учреждено и пароходное сообщение между Нагасаки и Владивостоком. С точки зрения морского удобства этот порт более глубок и лучше защищен от ветров, чем Фузан. *Ободренная своими успехами, Япония съумела вытребовать, чтобы для её торговли был еще открыт один пункт на западном побережье страны. Таким портом явилось местечко Чемульпо, лежащее на северо-западном берегу полуострова, при устье Хань-яна, в близком соседстве со столицею. Порт этот, фактически открытый с 1-го января 1883 года, благодаря выгодному положению начал быстро развиваться и в настоящее время является первым по количеству торгового оборота страны.
Все попытки иностранных держав выхлопотать для своих подданных доступ в страну разбивались об упорство корейского правительства, и потому волею или неволею все сношения иностранцев с полуостровом происходили через посредничество японцев, но с начала 80 годов Корея по совету Китая вступает в сношение и начинает заключать договоры. Так в 1883 году был заключен договор с Соединенными Штатами, Англией и Германией, в 1885 году с Россией. Последний договор в 1886 году был дополнен объявлением правил для сухопутной торговли*.
Чаосянь переживает теперь критический период своей истории, и все указывает на то, что исконная изолированность этой земли Крайнего востока должна прекратиться в близком будущем. В предвидении этой неизбежной перемены, были отправлены из Сеула специальные посланники с поручением объехать Японию и изучить её учреждения и роды промышленности.
Король Чаосяня есть самодержавный и неограниченный повелитель своих подданных, и последние обязаны ему оказывать почти божеское почитание: произнести имя, которое государь получил от своего предшественника, значило бы совершить преступление оскорбления величества; преступлением же было бы дотронуться до его священной особы, и даже после его смерти, придворные должны принять всевозможные предосторожности, чтобы при погребении не было непосредственного прикосновения между их руками и телом почившего короля. Честь удостоиться прикосновения царской руки неоцененна; счастливцы, которые были пожалованы этой великой монаршей милостью, украшают шелковой лентой часть своей одежды, освященную перстом повелителя. Одного знака королевской руки довольно, чтобы впавший в немилость министр лишил себя жизни отравой. Хотя, в подражание китайскому императору, король имеет, при себе оффициального цензора, но этот сановник не только никогда не дерзает высказать какие-либо порицания против особы государя, но, напротив, вся его обязанность состоит лишь в том, чтобы сочинять похвалы; в столице содержится целая школа рисования для приготовления живописцев, которые должны воспроизводить черты священного лица. Тем не менее, эта самодержавная власть, без границ, поставленных законами, есть не более как простая фикция для дворянства: как некогда японские даймиосы, корейские дворяне командуют в действительности, и из опасения увидеть их всех соединившимися против королевской власти, государь не осмеливается трогать привилегий ни одного из них.
Оффициально, организация государственного управления представляет верную копию с правительственного механизма Срединного царства, и Сеул всегда и во всем подражал Пекину. Ранее каждый год в день рождения китайского богдохана, а также в день нового года и в дни солнцестояний, властитель Кореи, окруженный своими детьми и высшими сановниками государства, публично повергался ниц, имея лицо, обращенное по направлению к резиденции «Сына Неба». Когда он отправлял посла ко двору Небесной империи, он делал четыре коленопреклонения и воскуривал благовония; его грамота с изъявлениями вассальной преданности неслась в почетном паланкине, драпированном желтыми занавесками, и он самолично сопровождал ее за ворота столицы. При возвращении посольства, он исполнял подобные же церемонии, и когда к его двору являлся посланник из Пекина, он принимался в положении равного по сану. Все эти церемонии, совершавшиеся прежде весьма точно и строго, хотя с объявлением независимости Кореи и уничтожились сами собою, но тем не менее еще и теперь, по примеру «Сына Неба», корейский король каждый год проводит плугом борозды по заповедному полю, урожай с которого предназначается для установленных жертвоприношений; точно также королева, которая в былое время принимала этот титул только по получении оффициального разрешения из Пекина, священнодействует, в качестве верховной жрицы, при жертвоприношениях, предлагаемых гению шелководства; и хотя шелковая промышленность занимает очень низкую степень между промыслами её королевства, государыня разводит шелковичных червей у себя во дворце, чтобы привлечь милости неба на её подражательниц. При корейском дворе, как и при пекинском, совершаются публичные жертвоприношения в честь предков и Конфуция, и для этих великих церемоний в Сеуле содержат стада баранов и коз,—животных, почитаемых священными, разведение которых запрещено частным лицам. Когда король умирает, общественная жизнь должна быть прервана на двадцать семь месяцев; в продолжение этого времени, жертвоприношения, свадьбы, похороны воспрещены, и течение правосудия приостанавливается, всякая жизнь человека или животного должна быть уважаема. Потомки корейского короля, как и потомки «Сына Неба», с каждым поколением спускаются все ниже по степени дворянства; между ними есть даже такие, которые принадлежат к касте рабов.
*После государя, главную роль в королевстве играет председатель верховного совета, состоящего из трех членов. Председатель является первым сановником королевства и принимает на себя управление делами, в случае болезни и неспособности короля. По регламентам, все чиновники должны бы были принадлежать к классу «ученых» и, как в соседней империи, могли бы быть повышаемы из степени в степень не иначе, как пройдя через ряд трех последовательных экзаменов; но на практике предписания закона, относящиеся к конкурсным испытаниям, давно уже сделались мертвой буквой, и даже внешния формы более не соблюдаются. Должности, чины и почести продаются тому, кто больше даст, и цензоры, обязанные доносить о замеченных ими злоупотреблениях и преступлениях по должности, обыкновенно продают свое молчание.
*Китайские законы времен династии Мин имели весьма значительное влияние на развитие корейского законодательства. Действующий ныне в Корее кодекс был пересмотрен и опубликован в 1785 г. Кодекс этот отменил многие варварские наказания, но тем не менее отличительную черту корейских законов, даже в наше время, составляет неимоверная их суровость. В древнее время корейские законы были весьма жестоки; так, чиновника в наказание за недобросовестное управление, вызывающее открытое неудовольствие в народе, бросали в котел с кипяченым маслом; жену, убившую своего мужа, закапывали в землю до плеч у большой дороги, и каждому прохожему предоставлялось право нанести ей какую угодно рану мечем, или другим острым орудием; вору насильно наливали в горло уксус и затем палками били до тех пор, пока он не лопнет; раба, убившаго своего господина, пытали до смерти и т.д. Все эти и многие другие варварские наказания современен постепенно отменялись. Так, король Ши-цзун (1419—1450) запретил бить по спине палками, отрезать нос и ноги, а король Сяо-цзун (1650—1659) отменил смертную казнь посредством ударов по голове молотком. Наконец, король Ин-цзун (1725—1776) отменил клеймение воров и т.д. Во времена, не столь отдаленные, смертная казнь вообще применялась только в исключительных случаях. Политических и уголовных преступников вообще ссылали на остров Квельпарт и на другие отдаленные острова. Но с 1794 по 1868 г.г. ссылка постепенно заменялась смертною казнию, которая особенно широко применялась к последователям христианской религии.*
Как в Китае, почести, оказываемые старости, составляют общественное учреждение: в известное время достигшие семидесятилетнего возраста приглашаются на банкет, устраиваемый для них королем, между тем как королева принимает в своих частных аппартаментах делегацию верных вдов и добродетельных девиц. Запасные хлебные магазины должны быть заводимы во всех селениях для того, чтобы можно было удовлетворять нужды бедных в неурожайные годы. По обрядам религии, чиновники обязаны также заботиться о содержащихся в тюрьмах, пещись об их благосостоянии и даже приносить им кушанья, взятые с королевского стола; но на деле эти прекрасные предписания так же мало исполняются, как и принципы классических сочинений, и от них нисколько не легче народу, который не менее угнетен, подавлен налогами, предоставлен в жертву нищеты и голода. Говорят, что голодовка 1877—78 годов стоила жизни миллиону корейцев, что составляет почти восьмую долю населения страны; даже часть дворцовой гвардии будто-бы погибла от истощения сил вследствие недостаточного питания.
Армия, состоящая в принципе из всех здоровых и способных к труду мужчин, то-есть более, чем из миллиона солдат, заключает в действительности лишь малочисленные группы ратников. До открытия Фузанского порта японской торговле, корейская армия не имела другого вооружения, кроме копий, сабель и ружей с фитилем, смастеренных по образцу старинного японского оружия, которое само было скопировано с оружия португальцев шестнадцатого столетия; теперь корейское правительство выписывает ружья из Японии и фабрикует их само по этим образцам. *Японские и европейские инструктора неоднократно приглашались корейским правительством для обучения своих войск, но особенной пользы от этого для страны не замечалось за исключением того случая, когда корейцы пригласили русских инструкторов, которые умело повели это дело. Предполагая завести свой военный флот, корейцы приобрели у японцев один маленький довольно плохой пароход, ныне вместо своего первоначального военного назначения совершающий почтовые рейсы вдоль берегов*. В важных обстоятельствах правительство призывает на службу из горных местностей охотников на тигров и организует из них ополчение: эти-то войска и сражались с французским дессантным отрядом в 1866 году. *Еще недавно обмундирование солдат состояло из темно-синего холста, поверх которого надевалась туника такого же цвета, или красная, обшитая широкой черной бумажной тесьмой. На груди и спине куртки вышиты круги из белого холста, в котором вырезан знак, показывающий ту часть войска, к которому принадлежит солдат. Вместо обыкновенной корейской шляпы солдаты носят большие войлочные шляпы с широкими полями и острой тульей, напоминающие мексиканские самбреро. Шляпы эти с боку украшаются лисьим хвостом, павлиньим пером, или же пучком конского волоса, выкрашенного в красный цвет. Платье военных начальников первых трех степеней бывает синее с красным поясом, а прочих офицеров темно-синее с синим же поясом. Свои шляпы офицеры украшают тигровыми усами или перьями разных птиц. Вооружение солдат самое первобытное. Кавалерия вооружена длинными копьями, насаженными на бамбуковое дерево, саблями и луками, а пехота обоюдо-острыми мечами, простыми мечами, копьями, кистенями и луками. Каждый солдат носит при себе колчан, содержащий обыкновенно до 15 стрел. Фитильными и кремневыми ружьями снабжена лишь незначительная часть отборного войска. Для боя солдаты надевают латы и головные уборы, сделанные из плотно стеганной и в 10 раз сложенной бумажной материи. Когда американцы во время экспедиции в Корею в 1871 г. взяли один из фортов у входа в реку Хань, то между прочими вещами ими найдены были своеобразные каски и кирасы. Прочность их оказалась удивительной, ибо они не поддавались ни сабельным, ни штыковым ударам; только коническая пуля пробила их насквозь. В настоящее время часть Сеульской гвардии имеет форму, близко подходящую к японской, вооружение же её состоит из европейских ружей различных систем. Войска, в которых состояли в течение 1896—97 г.г. русские инструкторы, вооружены ружьями Бердана № 2*.
*В 1882 году старинная партия в Корее, руководимая популярным в стране отцом короля, регентом Тай-вэн-Гуном, недовольная усилением иностранного влияния в Корее, упразднением или вернее нарушением некоторых обычаев в стране, успела взбунтовать сеульскую чернь, которая напала на японское посольство, убила и ранила некоторых из членов японской дипломатической миссии и вынудила оставшихся бежать в Чемульпо, под защиту английского военного судна.
Не удовольствовавшись этим, бунтовщики проникли во дворец короля, свергли последнего с престола и, посадив на его место Тай-вэн-гуна, начали преследовать сторонников иностранных порядков. Событие это не могло остаться бесследным в Японии и вызвало со стороны последней требования об удовлетворении. Корейцы вынуждены были обратиться к помощи Китая, который нашел необходимым опротестовать японские требования и даже угрожал Японии, выслав к Корейским берегам свое войско и флот. Не считая себя достаточно сильным в то время для борьбы, японцы вынуждены были согласиться и решили уладить дело путем дипломатических переговоров, которые привели к уплате Кореей в пользу Японии денежного вознаграждения, открытии еще одного пункта для японской торговли, посылки в Японию посольства, а Китай с своей стороны обязался по мере сил поддерживать прерогативы и власть короля и содействовать спокойствию в стране.
В промежуток следующих двух лет Корея под влиянием Ли-хун-чжана, а отчасти чтобы показать Японии свою мнимую самостоятельность, ввела у себя некоторые реформы, заключила торговые договоры с Англией, Францией, Германией, Соединенными Штатами и Россией, для упорядочения внешней привозной торговли, реорганизовала управление своими таможнями, пригласив для этой цели в советники фон-Меллендорфа, который, по справедливости пользуясь репутацией знатока Востока и в то же время будучи знаком с корейским языком, легко освоился со своим назначением и съумел сделаться необходимым советником короля.
Все эти события совершились в то время, когда между Россией и Китаем происходили оживленные переговоры, вызванные отказом Китая ратификовать Ливадийский договор и во время наших недоразумений с Англией по поводу Кушкинскаго вопроса. Пользуясь уже существующим между нами и Китаем осложнением, английская политика, верная своему вековому принципу подъуськивания, начала действовать, по заранее испытанному плану, направить на Россию свою многочисленную газетную прессу, которая старалась обвинять русских в намерении захвата Китайских и Корейских владений. Не надеясь на прочность своих среднеазиатских границ, Великобритания, подстрекая против русских Срединную империю, и, сама того не предвидя, вооружила против себя Пекинское правительство, как только попыталось получить преобладание на Востоке, для чего заняло и укрепило в апреле 1885 года группу корейских островов, Комунь-до или Гамильтон. Это занятие, вызвавшее протест Китая и России, было весьма непродолжительно и уже в 1887 году английские силы были выведены из Гамильтона, а возведенные постройки на нем разрушены, и соединяющий его с Шанхаем кабель снят. Корейское правительство, между тем, вводя некоторые реформы в стране, не могло в то же время похвалиться особенным спокойствием в народе. Уже в 1885 году в самом Сеуле вспыхнуло возстание, поднятое слишком горячими сторонниками японского прогресса, корейцами, побывавшими в Японии. Эти горячие головы, подкупленные японским золотом, воспитанные японскими идеями, никак не могли примириться с направлениями Меллендорфа, который явно тяготел к России и настаивал на необходимости возможно тесного сближения Кореи с Россией. Во время этого восстания были убиты многие сторонники анти-японской партии, и мятежники угрожали королю, который, опасаясь за свою безопасность, вынужден был просить помощи у японского посланника. Последний прибыл во дворец с отрядом японских солдат и расположился в нем для охраны личности короля, в то же время ничего не предпринимая для подавления народного восстания в самом городе. В этом последнем мятежники, не встречая активного сопротивления, предали казни многих членов королевской фамилии и главным образом родственников королевы. Безпорядки в Сеуле и прежде всего вмешательство в корейские дела японцев не могло быть безразличным для китайского правительства и вызвало активное участие в деле содержимых в корейской столице китайских войск. Безхарактерный корейский король, боясь неудовольствия Ли-хун-чжана, перешел на сторону китайцев, к которым пристала также сеульская чернь, и японцы были вытеснены из дворца. Отбиваясь от вдесятеро сильнейшего неприятеля, они бежали в Чемульпо и укрылись на английском судне. После всего этого опять правительство Микадо потребовало удовлетворения, но на сей раз уже прямо у китайцев, выказавших явную к ним враждебность. Японский уполномоченный граф Ито дал понять, что, в случае отказа в удовлетворении, Япония вынуждена будет отстаивать свои права с оружием в руках. В то же время японцы начали предъявлять к Сеульскому правительству разного рода требования, и корейский король, окруженный борьбою противных партий, не встречая практической помощи со стороны Китая, по совету Меллендорфа, обратился к России, прося принять несчастную страну под свое покровительство. Нет надобности объяснять причин, в силу которых это ходатайство было отклонено, они понятны сами собою.
Результатом этих безпорядков было заключение новой китайско-японской конвенции, по которой Китай обязался убрать свои войска из столицы, наказать виновных в нападении на японцев, принудить Корею внести в пользу Японии значительное денежное вознаграждение, корейский же король обязался уволить Меллендорфа и ввести реформы в гражданское и военное управление страны. Вместе с этим оба договаривающиеся государства, выговорили себе право отправить в Корею, в случае безпорядков в ней, свои войска. Хотя этим соглашением и определялись права обоих государств к Корее, но тем не менее быть прочным оно не могло. Недостаточность вознаграждения, которое получили японцы, постоянные вмешательства Китая в жизнь страны, видимое безсилие японцев перед своим западным соседом пошатнули совершенно японский престиж на Корейском полуострове, и японские государственные деятели хорошо видели, что недалеко то время, когда Корея явится опять яблоком раздора между их страной и Китаем. Столкновение двух держав явилось неизбежным, особенно после того, как Корея под влиянием Китая не исполнила требований Японии, на открытие монетного двора в Чемульпо, на что сама ранее дала свое согласие, и отказалась удовлетворить японцев по нескольким другим вопросам, вызванных нарушением уже ранее заключенных трактатов.
Все эти неудачи японцев на полуострове не могли не возбудить негодования в среде до мелочности самолюбивой нации, и негодование это, особенно резко выразившееся в газетной прессе, рядом нападок на бездействие и вялость своего правительства, не могло не отразиться на взглядах и действиях последнего. В самих японских правительственных сферах начали наконец раздаваться голоса, требовавшие, чтобы Япония заставила уважать Китай и японские права в Корее, а в то же время японцы настаивали на полной независимости Кореи, отлично понимая, что им тогда легче будет совершенно забрать весь полуостров в свои руки. Китайско-японские отношения особенно обострились после того, как китайское правительство косвенным образом содействовало корейским властям в захвате и убийстве одного из главных зачинщиков восстания 1885 года, корейца Ким-ок-цзюна, живущего в Японии на японские деньги и ярого японофила.
Между тем несмотря на данное после восстания 1885 года обещание, корейское правительство не приняло никаких мер, чтобы установить более прочный порядок. Простой народ по-прежнему продолжал терпеть от взяточничества и произвола чиновного дворянства и по временам выражал свое негодование и ропот явными возмущениями и бунтами. Начавшееся в 1893 году в одной из южных провинций Кореи восстание политико-религиозной секты или общества Тонгаков охватило весь юг страны и хотя было легко подавлено, но на следующий же год повторилось с большею силою, начав при том распространяться и в северной провинции полуострова, угрожая и самой столице государства. Не имея силы подавить вспыхнувший мятеж своими средствами, корейский король в конце апреля того же 1894 года обратился опять за помощью в Китай, на что последний, по совету Ли-хун-чжана, выслал в Корею двух-тысячный отряд войск. Но не успел еще отряд прибыть к месту назначения, как возстание в стране прекратилось. Казалось бы, что китайским войскам нечего делать в Корее, а тем не менее они остались и не выказывали намерения уйти из страны, почему Япония также не замедлила послать в Корею четырех-тысячный отряд под начальством генерала Ошима, который, прибыв в Чемульпо, отправил часть отряда для охраны своей миссии в столице, а с остальными войсками расположился лагерем в самом Чемульпо и по дороге в Сеул. Одновременно с этим были посланы японские войска и в Фузан, и в Гензан, и вместе с посылкой их Япония начала энергично готовиться к войне. Китайское правительство, озабоченное чрезмерным количеством японских войск в стране и тревожными слухами с островов, протестовало против японцев, которые заявили, что они согласны выполнить требования китайцев при условиях: отозвание из страны китайских войск, уплаты затраченной на оккупацию суммы, и самое главное—на признание независимости Кореи. Условия эти были отвергнуты Китаем, который начал приготовляться к войне и в то же время обратился к России с просьбой о посредничестве. Пока происходили дипломатические переговоры заинтересованных держав, в Сеуле начались новые безпорядки, заставившие японцев занять корейский дворец, арестовать короля и прервать телеграфное сообщение страны с Китаем. После такого образа действия, война Японии с Китаем сделалась неизбежной, и последний начал стягивать в Корею сухопутные войска. Здесь не место упоминать о ходе японско-китайской борьбы, начатой на корейской территории и перенесенной на берега Ляо-дуна и Шань-дуна, она слишком свежа у всех. Окончившись полным поражением Срединного царства и вмешательством Европейских держав, она привела к объявлению независимости Корейского государства. Но эта оффициальная независимость, объявленная в начале 1895 года (в январе), была de facto призрачной, и скорее полуостров сделался японской провинцией, чем самостоятельным государством. Японцы, не довольствуясь освобождением полуострова из-под сюзеренства Китая, решили ввести в нем различные реформы или вернее японизировать Корею и уничтожить в ней малейшие признаки китайского влияния. Введение реформ поручено было знакомому со страною японцу графу Инуэ, который, несмотря на то, что знаком был с корейцами, прослужив в этой стране еще ранее довольно долгое время, проводил в жизнь народа мероприятия совершенно бесцельные, вовсе не соответствующие ни состоянию культуры, ни традициям народа, ни духу его. Не взирая на отсутствие в корейском народе признаков малейшей симпатии к японцам и их государственным порядкам, он старался на-ряду с полезными реформами осуществить такия, которые становились не только бесцельными, но при том и противными для населения, возбуждая ропот последнего. Нет надобности говорить, что, проводя в жизнь страны нововведения, он, как истинный патриот своего отечества, старался прежде всего в пользу охранения интересов многочисленных своих соотечественников, понаехавших с островов для эксплоатации естественных богатств страны и её обитателей. Если уже либеральные оффициальные представители японского правительства действовали в таком духе, то легко себе представить, что выделывала их меньшая братия, купцы, ремесленники, рабочие и различные авантюристы. Последние своим заносчивым и презрительным отношением к простому народу, а нередко и резкостью и грубостью обращения с ними способствовали ухудшению отношений и распространению неприязни не только к самым японцам, но и их нововведениям без различия, полезны ли они или нет. Особенное негодование и раздражение народа возбудило запрещение носить национальный костюм и обязательное остригание волос. На почве таких недовольств начали обнаруживаться многочисленные интриги, вооруженные столкновения, дворцовые заговоры, и в конце концов все это перешло в нескрываемую, дружную по сложности и духу, антияпонскую агитацию. Во главе этой агитации стояла королева, которая приобрела сильное влияние на своего мужа и заставила его отменить многие реформы, насильно введенные японцами. Борьба Японии и национальной партии окончилась весьма трагически для самой королевы и многих из её родственников по фамилии Мин. Так, в октябре 1895 года японские соши совместно с приверженцами бывшего регента Тай-вэн-гуна напали на королевский дворец и умертвили королеву вместе с некоторыми из её сторонников. Желая скрыть убийство, японцы подожгли дворец, но им не удалось скрыть следов преступления и своего участия в нем. Вероломное убийство корейской королевы возбудило общее негодование и заставило японское правительство назначить оффициальное расследование. Хотя японское правительство, при производстве того следствия, старалось всеми мерами устранить свое участие в этом деле, в результате же обвинило во всем бывшего регента Тай-вэн-гуна; тем не менее, оно не было в состоянии убедить в своей непричастности народ и представителей иностранных держав в Сеуле. Последние, собравшись на особом для этой цели митинге, рассмотрев все детали дела, вынесли заключение, что не только заговор против фамилии Мин и королевы, но и самое злодеяние были совершены японцами, при том с ведома японского представителя, виконта Миура, только-что перед тем отозванного из Кореи. Эта резолюция иностранных дипломатов, переданная в их кабинеты, восстановила против образа действий японцев чуть не все нации европейского материка и заставила их обратить на образ действия передовой нации азиатского востока должное внимание. Будучи дискредитированы в глазах Европы, которой они так упорно старались подражать, японцы вынуждены были на время прекратить видимое активное вмешательство в жизнь страны и начали действовать более скрытно. Правда, возможность дальнейших беспорядков была предотвращена нотою России, давшей понять, что она не допустит нарушения независимости против короля и нарушения законного порядка, но тем не менее, уже в начале февраля 1896 года, королю сделалось известно, что против него, его же собственные министры, правда, японизированные, составили заговор. Результатом этого открытия было бегство короля в помещение русской дипломатической миссии под охрану русского флага, для поддержания достоинства которого прибыли в Чемульпо десанты с русских военных судов. Тогда же король заявил собравшимся представителям иностранных держав причину его бегства в русскую миссию и издал указ об аресте всех членов своего кабинета, действовавших по японским указаниям. Этот указ возбудил в Сеуле волнение черни, которое выразилось в убийстве некоторых корейцев, японских партизанов, и только заявление короля, что он находится в безопасности, остановило дальнейшие волнения. Проживая в русской миссии в полнейшей безопасности, охраняемый нашими матросами, король убедился, что только надежные, хорошо организованные и преданные войска могут гарантировать его относительную безопасность и просил бывших при десанте офицеров обучить нескольких корейцев, а впоследствии обратился к Русскому правительству с просьбою прислать в Корею военных инструкторов и советника по финансовым вопросам. Результаты этой просьбы и обратное отозвание русских инструкторов и финансового советника еще так свежи в памяти у всех, что и повторять их здесь едва-ли не излишне, тем более, что инструкторский вопрос в Корее еще далеко не исчерпан, и последствия этого отозвания уже дали себя знать, почти тотчас же как были удалены русские советники и король остался одиноким со своими министрами. Не успели еще русские выехать из страны, как в северной части её уже началось восстание, охватившее вскоре и всю страну. Поводы к этому восстанию, а равно и подпольные пружины возбуждения его еще не выяснены с достаточной точностью и еще ждут своего описателя, но ни для кого не составляет секрета, что при настоящих условиях существование независимой Корейской империи едва-ли возможно без вмешательства других держав. Не мешает упомянуть, что в конце прошлого (1897) года корейский правитель уведомил иностранных представителей, что он изменил свой корейский титул на императорский, и таким образом из королевства полуостров сделался империей. Признание Россиею этого титула является лучшим доказательством стремления её, чтобы несчастная страна была независимой и имела собственное управление.*
Местопребывание центральной администрации, которое есть в то же время и королевская резиденция, Хань-ян, более известно под именем Сеула, которое по-корейски значит просто «Столица». Это большой город, постройки которого, разбросанные в беспорядке, окружены стеной, имеющей около 15 верст в окружности; народная перепись 1793 года, результаты которой приведены в книге Давелюи, насчитывала в нем 190.000 жителей, новейшие сведения определяют цифру его населения в 219.815 душ. Сеул занимает очень красивое местоположение у южной подошвы хребта Гоа-шань и на западе от горной цепи Гуан-лин, защищающей его от холодных северо-восточных ветров; с южной стороны город огибает излучина реки Хань-ян, через которую построен каменный мост; к северо-западу река мало-по-малу расширяется и, сделав несколько крутых поворотов, образует лиман, называемый Погай, посредством которого и сливается с водами Чжилийского залива. Сеульская река сообщается с открытым морем двумя проходами, из которых один находится на юге, а другой на севере от большого острова Кан-хоа; но эти каналы мелководны и дают доступ в реку только в час прилива, и все суда должны останавливаться в 5 верстах ниже Сеула. Столица Кореи не имеет сколько-нибудь замечательных зданий, кроме обширного королевского дворца и высшего училища, где получают образование около 500 студентов.
Несколько укрепленных городов, из которых один, Кан-хоа, имеет по Опперту, от пятнадцати до двадцати тысяч жителей, защищают подходы к Сеулу. В соседстве столицы находится королевский пригород Соу, который можно назвать корейским Версалем и Сен-Дени: здесь погребены государи Кореи, в «золотых гробах», как гласит народная молва. В 1868 году некоторые американские и немецкие искатели приключений, приехавшие секретно в страну, покушались было сделать нечаянное нападение на этот некрополь; но, открытые во-время, они были отражены поселянами; это дерзкое предприятие и вызванная им схватка имели то следствие, что правительство Соединенных Штатов сочло долгом показать свой флаг в Сеульской реке и разрушить кое-где стены пушечными выстрелами.
Прежняя столица, Сондо (Касион), которая была разрушена японцами в конце шестнадцатого столетия, ныне опять приобрела очень важное значение, как торговый центр: она находится в более близком расстоянии от моря, чем Сеул, и потому легче доступна приезжим купцам. Пхион-ян—один из главных городов северо-западной провинции. Этот город до сих пор еще ведет довольно большую торговлю так же, как Ы-чжу, построенный близ устья реки Ялу-цзяна. В южной части страны замечателен, как главный рынок края, город Тай-гу (Дайкио), в котором каждый год бывают две большие ярмарки, где обмениваются продукты и товары, привозимые японцами из Фузана.
*Гораздо большее значение для жизни страны имеют открытые порты Кореи. Порт Чемульпо расположен при устье одного из многочисленных рукавов Сеульской реки и открыт для иностранной торговли в 1882 году. Представляя до того времени жалкое корейское селение, жители которого занимались рыболовством, Чемульпо в настоящее время разросся в порядочный город с иностранным населением в 4.675 человек. В нем имеют пребывание агенты Великобритании, Японии, Китая, а в последнее время и России (вице-консул).
Хозяйственное управление иностранного квартала находится в руках муниципального совета смешанного состава (корейский чиновник и 3 европейца из числа домовладельцев). Торговые обороты Чемульпо по Покотилову за последние годы достигли 4 миллионов рублей, при чем ввоз по ценности более вывоза в три раза. Предметами вывоза являются сельские продукты: бобы, жмыхи, рис и кожи, ввозятся же главным образом мануфактурные изделия и при том почти все японского приготовления. В настоящее время Чемульпо соединяется железной дорогой с Сеулом, которая строится американской компанией Морса.
Следующий по значению порт Кореи, Фузан, лежащий на юго-востоке полуострова к востоку от устья р. Нак-тон-ган, был японским поселением еще с начала XVII века и с того времени является главным складочным местом японско-корейской торговли. Японцы имеют здесь как бы свой родной город, который по благоустройству резко разнится от такового же корейского, расположенного не вдалеке от берега. К 1895 году иностранное население Фузана было в 4.985 человек, из которых 4.953 было японцев, семь китайцев, и 25 европейцев и американцев. При таком перевесе японского элемента понятно, что вся торговля порта находится в японских руках. Торговый оборот достигает до 3 миллионов рублей в год, а предметы ввоза и вывоза те же, что и в Чемульпо. Занимая выгодное положение вблизи острова Цу-симы, порт Фузан является для соседней Японии весьма важным стратегическим пунктом. В настоящее время в нем, если верить газетам, проживает постоянный японский гарнизон, и японцы хлопочут о проведении через полуостров от Фузана к Сеулу железнодорожной линии, разрешение на каковую они получили еще в 1894 году. Порт соединен подводным телеграфом с Цу-симой и Японией и пароходным сообщением с Владивостоком, Нагасаки и Чжи-фу.
Третий из открытых в стране для иностранной торговли портов, самый северный из всех, это Гензан, лежащий в южной части бухты Лазарева. Бухта эта, занимающая пространство в 80 кв. верст, хорошо защищена от ветров и представляет прекрасную стоянку для морских судов. Есть убеждение (хотя оно требует тщательной поверки), что порт Лазарев остается открытым круглый год, и потому на него неоднократно указывали как на удобный выход Сибирской железной дороги. Самый город Гензан вытянулся вдоль бухты и состоит из 2 тысяч домов, в которых проживает до 10 тысяч корейцев.
Иностранцы редко селятся в этом пункте, и вся торговля порта сосредоточена в руках предприимчивых японцев, которые, начав торговлю в нем с 80 года, образовали особый город, имеют своего консула, содержат гарнизон и вообще стараются из этого места сделать такую же японскую колонию, как и в Фузане. Торговые обороты порта в последнее время начинают увеличиваться и в 1895 году достигли 2,816.306 рублей; главные предметы вывоза: золотой песок, бобы, сушеная рыба и звериные шкуры.
В октябре 1897 года Корейское правительство, уступая усиленным стараниям иностранцев, а главным образом японцам, объявило открытыми для иностранной торговли еще два порта Мокпо и Цзин-нам-по.
Первый из названных портов, лежащий на юго-западной оконечности полуострова у устья реки Ионь-сань-ган, уже давно указывался как пункт, желательный для японской торговли, второй же, расположенный на правом берегу устья Та-дон-гана, является портом всей северо-западной части страны и портом такого важного города северной части страны, как Пхион-ян. Значение этих портов еще не успело выясниться, как корейцы уже намерены открыть еще три порта: Кильчжу на восточном побережье, севернее Гензана, Масаньпо на юге полуострова, близ Фузана, и Кумьсань на западном берегу между Чемульпо и Мокпо. В настоящее время все открытые порты соединены пароходным сообщением японской линии компании Нипон-Юзен-Кайша и русской линии пароходства Шевелева.
Торговля Кореи как внутренняя, так и внешняя оставляет желать весьма многого. Обороты внешней торговли за 1893 год исчислялись приблизительно: ввоз в 3.143 тыс. руб.; вывоз 2.118 т. руб., и таким образом весь оборот достигал ценности 5.261 т. руб.
Большая часть этой суммы приходится на Японию, а именно 3.174 т. руб., при чем ценность ввоза и вывоза почти одинаковы. Обороты торговли с Китаем в том же году исчислялись в 2.051 т., при чем ценность ввезенных из Китая товаров превысила вывоз в него из Кореи в три раза (1.544 т. руб.). Морская торговля с Южно-уссурийским краем совсем незначительна: она едва достигает 40 тысяч, а в 1893 году равнялась только 36 т., из которых на долю русских товаров пришлось 20 тысяч.
Главными предметами внешней морской торговли Кореи являются ввозимые хлопчатобумажные ткани, шерстяные и механические изделия и керосин. Среди предметов вывоза обращают внимание: золото, бобы, рис, кожи и рыба.
Общее число судов как парусных, так и паровых, в 1893 году посетивших корейские порта достигло 1.322 с водоизмещением в 388 т. тонн. Из них первое место занимают суда японские, среди которых насчитывают 383 парохода и 573 парусника с общим водоизмещением в 301 т. тонн.
Сухопутная внешняя торговля Кореи с Россией еще незначительна, хотя все-таки обороты её превышают обороты морской торговли с нами. Торг происходить главным образом через пограничную Красносельскую заставу, на берегу р. Тумень-ула, при чем главным предметом торговли со стороны Кореи является рогатый скот, а от нас идут мануфактурные и металлические товары*.
По оффициальной географии Чаосяня, частию переведенной Шарлем Далле, в королевстве насчитывают 106 настоящих, то-есть обнесенных стенами, городов.
*Когда японцы явились полными хозяевами несчастного королевства, то они для удобства управления, а отчасти и для того, чтобы получить возможность иметь большее число своих сторонников во всех частях страны, разделили Корею на 23 провинции, взамен существовавшего до того времени деления на 8 провинций. Губернаторами новых провинций были посажены японские приверженцы. Когда затем японское влияние в стране упало и престиж их исчез, корейское правительство решило ввести древнее разделение страны на 8 провинций, но, в виду обширности некоторых из них, разделить последние каждую пополам. Таким образом в настоящее время страна делится на 13 провинций, каждая провинция делится на округи, а последние на уезды.
Следующая таблица даст список всех провинций или дорог Кореи с их главными городами и количеством населения по сведениям 1897 г..*
Население Кореи и её административные пункты
| Название провинции | Число уезд. | Мужчин | Женщин | Всего | Домов | Главные города | |
| Хань-ян (Сеул) | - | 115.447 | 104.768 | 219.815 | 45.350 | Столица государства | |
| Кион-гый-до (столичная) | 28 | 352.863 | 291.367 | 644.230 | 167.230 | Су-уонь | |
| Чюн-чион-до | северная | 17 | 147.330 | 132.373 | 279.702 | 72.313 | Чюн-чжю |
| южная | 37 | 215.058 | 171.869 | 386.927 | 114.793 | Кон-чжю | |
| Чжиолла-до | северная | 36 | 189.780 | 150.342 | 340.122 | 97.815 | Чжионь-чжю |
| южная | 33 | 199.791 | 166.249 | 366.090 | 104.918 | Коан-чжю | |
| Кион-сан-до | северная | 41 | 306.854 | 242.959 | 549.813 | 149.952 | Та-гу |
| южная | 30 | 261.499 | 199.533 | 461.032 | 126.972 | Чжинь-чжю | |
| Ха-ан-ха-до | 24 | 184.456 | 151.059 | 335.515 | 93.550 | Ха-чжю | |
| Пхион-ян-до | северная | 23 | 198.331 | 168.918 | 367.241 | 96.406 | Ион-бионь |
| южная | 21 | 198.487 | 158.205 | 357.192 | 86.888 | Пхион-ян | |
| Кан-уонь-до | 26 | 142.205 | 111.897 | 254.100 | 75.853 | Чунь-чионь | |
| Хам-гион-до | северная | 14 | 208.068 | 177.384 | 385.452 | 59.674 | Кион-сион |
| южная | 20 | 148.900 | 101.897 | 250.797 | 41.187 | Хам-хын | |
| Итого | 340 | 2.869.767 | 2.328.481 | 5.198.028 | 1.332.501 | ||