IX.
Горы Ассама и бассейн Брахмапутры.
Эта северо-восточная часть Индии представляет переходную страну: занимая положение на границе нескольких географических областей, она принадлежит также и по составу своего народонаселения к различным историческим эпохам. В то время, как равнины, заключающиеся в Бенгальской провинции, составляют уже многие века часть индусского мира, горные цепи, образующие раздельный массив между бассейном Брахмапутры и бассейном Иравадди, между Индией и Индо-Китаем, населены племенами, стоящими на различных ступенях цивилизации; на полуденной покатости Гималайских гор и возвышенностей, которыми они продолжаются на восток, в пределы Китайской империи, простираются даже еще неизследованные пространства, которых первобытные племена или аборигены примыкают одни к тибетскому корню, другие к индо-китайским расам. В сравнении с большинством других провинций Индии, Ассам слабо населен, не только в высоких, нагорных долинах, но даже и в низменной области. Кажется, что в предшествующую эпоху, прежде чем дикари и бирманские войска опустошили этот край, население было гораздо многочисленнее на берегах Брахмапутры; повсюду встречаются в джунгле остатки строений, горки, бывшие, повидимому, могильными курганами, бамбуковые рощицы, сады из фруктовых деревьев, снова одичавших. В наши дни страна опять заселяется путем колонизации; бенгальцы, ораонцы, санталы, призываемые на чайные плантации, селятся в плодоносной равнине и в возвышенных долинах окрестных гор; но бенгальские округи Дакка, Типперах, Ноахали, лежащие на восточном берегу Брахмапутры, заключают в шесть и семь раз больше жителей, пропорционально пространству.
Бассейн Брахмапутры до границ Ассама:
| Пространство | Народонаселение | |
| Ассам | 126 915 кв. кил. | 5.476.813 жит. |
| Дакка в Бенгалии | 38.848 „ | 9.844.127 „ |
| Типпера и Поахали | 10.908 „ | 2.257.865 „ |
| Типперахские холмы | 10.582 „ | 137.442 „ |
Горы Гарро, или «Холмы» (Hills), как их называют калькуттские англичане, возвышаются непосредственно на востоке от большого изгиба, который образует Брахмапутра при своем вступлении в Бенгальскую равнину, подобно тому, как по другую сторону аллювиального пространства, образующего Междуречье, Ганг огибает Раджмагальские холмы; пробивая цепь высот, которая некогда простиралась от Гатских гор Западного Декана до гор Индо-Китая, воды, спускающиеся с Гималая, расположили свои течения с замечательной симметрией. Горы Гарро, поднимающиеся постепенно по направлению с запада на восток, состоят из параллельных хребтов, отделенных один от другого глубокими долинами, покрытыми лесами или джунглями. На юге, первый из этих хребтов увенчан горой Тура, с вершины которой, возвышающейся на 1.370 метров, открывается одна из обширнейших панорам, какие можно видеть в Индии: необозримое пространство равнин сливается в бесконечной дали с кривизной земного горизонта, тогда как за Дарджилингом показываются, в ясную погоду, неопределенные очертания горных масс Сиккима; блистая там и сям серебристыми полосами между зеленью лесов, появляются воды реки Амавари, как называют туземные жители гор Гарро Брахмапутру; на пространстве более 160 километров можно различить излучины реки. Около центра массива, но ближе к полуденному скату, поднимается высокая вершина, которой индусы дали имя Кайлас, то же самое, какое носит одна из священных гор Гималая. Горы Гарро, орошаемые необычайно обильными дождями, принадлежат к числу возвышенностей, покрытых очень густою растительностью, перепутанною с бесчисленными лианами и чужеядными растениями; драгоценный сал и другие строевые деревья составляют обыкновенные породы в этих лесах, которыми завладело правительство и которые, без сомнения, сделаются современем одним из самых производительных и доходных государственных имуществ, когда в них введется правильное лесное хозяйство и когда через них будут проведены во всех направлениях дороги, необходимые для эксплоатации. Государство присвоило себе также монополию охоты на слонов в горах Гарро; правильно производимые облавы могли бы давать ему каждый год около двухсот голов этих животных. К числу больших четвероногих, которые бродят в лесах этой части Ассама, принадлежит также носорог, это вообще очень смирное животное, и в некоторых округах его приручают и держат стадами, как мелкий домашний скот.
Горы Гарро, составляющие простой выступ или мыс на западной оконечности обширной горной системы, которая продолжается слишком на 1.000 километров, до высот Юннана, примыкают своими хребтами к более возвышенным землям, известным последовательно, в направлении от запада к востоку, под названием гор Хасиа (Хаси) и гор Джайнтиа. Геологическое строение как гор Гарро, так и цепей Хасиа и Джайнтиа, совершенно одинаково, но наружный вид двух склонов во многом разнится. С той и другой стороны северная часть гор состоит из кристаллических и метаморфических каменных пород, наклоненных довольно пологим скатом к равнине Брахмапутры, тогда как южный край образован из пластов третичного происхождения, преимущественно из меловых и песчаниковых формаций, круто обрывающихся над долиной, бывшим морским заливом, в котором теперь извиваются притоки Мегны. Тогда как горы Гарро разрезаны водами на множество параллельных долин, горы Хасиа имеют в целом форму плоскогорий, поднимающихся, средним числом, от 1.200 до 1.500 метров над уровнем моря, и на этих нагорных равнинах находятся горбы, из которых иные достигают почти 2.000 метров высоты; по словам братьев Шлагинтвейт, самая возвышенная вершина—гора Мопат, поднимающаяся на 2.840 метров, но карта, составленная, под руководством Тюилье, опытными офицерами-геодезистами, указывает на вершину Шиллонга, как на высший купол гор Хасиа, и приписывает ему только 1.962 метра высоты. Некоторые из южных отлогостей, ограничивающих плоскогорья области Хаси, обрезаны до такой степени круто, что для того, чтобы подняться до уровня верхней площадки, нужно влезать на почти отвесные стены или при помощи лестниц, приставленных к скале, или по деревянным ступенькам, вбитым горизонтально в камень; привычные местные жители, нагруженные тяжелой ношей, а иной раз даже и в пьяном состоянии, всходят и сходят без малейшего головокружения по этим опасным лестницам. В том месте, где известняки гор Хасиа залегают на песчаниках, они изрыты подземными гротами и галлереями, которых промежуточные столбы и своды обрушились там и сям под давлением налегающих масс, вследствие чего образовались груды развалин, имеющие вид громадных укрепленых замков. Откосы из обвалившихся обломков представляют неисчерпаемые каменоломни обжигальщикам извести, живущим в равнине.
Изсечения и промоины, сделанные проливными, падающими в виде настоящих потоков, дождями на южном склоне плоскогорий, принадлежат к самым причудливым образованиям этого рода, какие только случалось наблюдать; в некоторых частях остались только простые стены из скал между плато и почти уединенными отрывками его окружности. В других местах работа размывания и, так сказать, изваяния горной массы продолжается из года в год; после каждого дождливого времени года образуются новые овраги и рытвины. Известно, что ни в одной стране земного шара не бывает ливней, которые превосходили бы обилием дожди, падающие в Чера-Понджи, или «Деревне Ручьев», в горах Хасиа. И не только количество изливающейся из атмосферы дождевой воды беспримерно велико в этой части Ассама, но и самая продолжительность дождливого сезона здесь гораздо больше, нежели в других областях Индии; этот период начинается в марте и оканчивается только около половины ноября, так что в соседстве рек равнины впродолжении целых восьми месяцев остаются под водой. В этих затопленных прибрежных местностях атмосфера почти всегда тяжелая, сырая, насыщенная вредными болотными испарениями или миазмами. Даже в сухое и холодное время года, с ноября по февраль, густой туман поднимается около полуночи с низменных пространств, и впродолжении всего утра его нездоровая масса тяготеет над равнинами. Всякое сообщение прерывается между соседними деревнями во время периода проливных дождей; такова главная причина крайней раздробленности и разъединенности многих групп между населениями, родственными по языку и племенному происхождению; непроходимые топи и болота, образующиеся вследствие выступления из берегов речек и ручьев, разделяют этих жителей более, чем это делали бы морские проливы и заливы. Кроме естественных путей, представляемых текучими водами, существуют там и сям несколько высоких шоссейных дорог, построенных в предшествовавшую эпоху цивилизации и заботливо поддерживаемых англичанами. Вне этих путей сообщения было бы безусловно невозможно ни проехать, ни пройти, если бы человек не располагал услугами слона. Леса низменных равнин и долин в этом крае еще гуще, чем леса в земле Гарро, но плоскогорья почти все обезлесены, так как на них поселились племена Хасиа и Джайнтиа, которые срубают деревья во время короткого периода засухи и предают их пламени, чтобы освободить от них почву. Флора гор Хасиа—самая богатая в Индии и даже, вероятно, во всей Азии: одних орхидей там насчитывают до 250 различных видов. Это изумительное богатство растительного царства происходит от чрезвычайного разнообразия почв на тесном пространстве: болота и торфяники, обвалы и осыпи, скалы, голые и лесистые горные скаты, плоскогорья,—все эти различные роды местности имеют каждый свою особенную растительность, которые, взаимно смешиваясь и переплетаясь, производят необычайное богатство и разнообразие флоры; в равнине одно дерево бангиани или индийской смоковницы, размножаясь выделением воздушных корней, образующих новые стволы с новыми воздушными корнями, постепенно разростается в целый лес; по склонам гор растет гигантский гарджан, прямое и твердое дерево, распростирающее свои ветви на высоте 60 метров (28 сажен) над поверхностью почвы; туземцы вырубают дыру в стволе этого колосса и разводят в ней огонь, от действия которого из дерева сочится душистое масло.
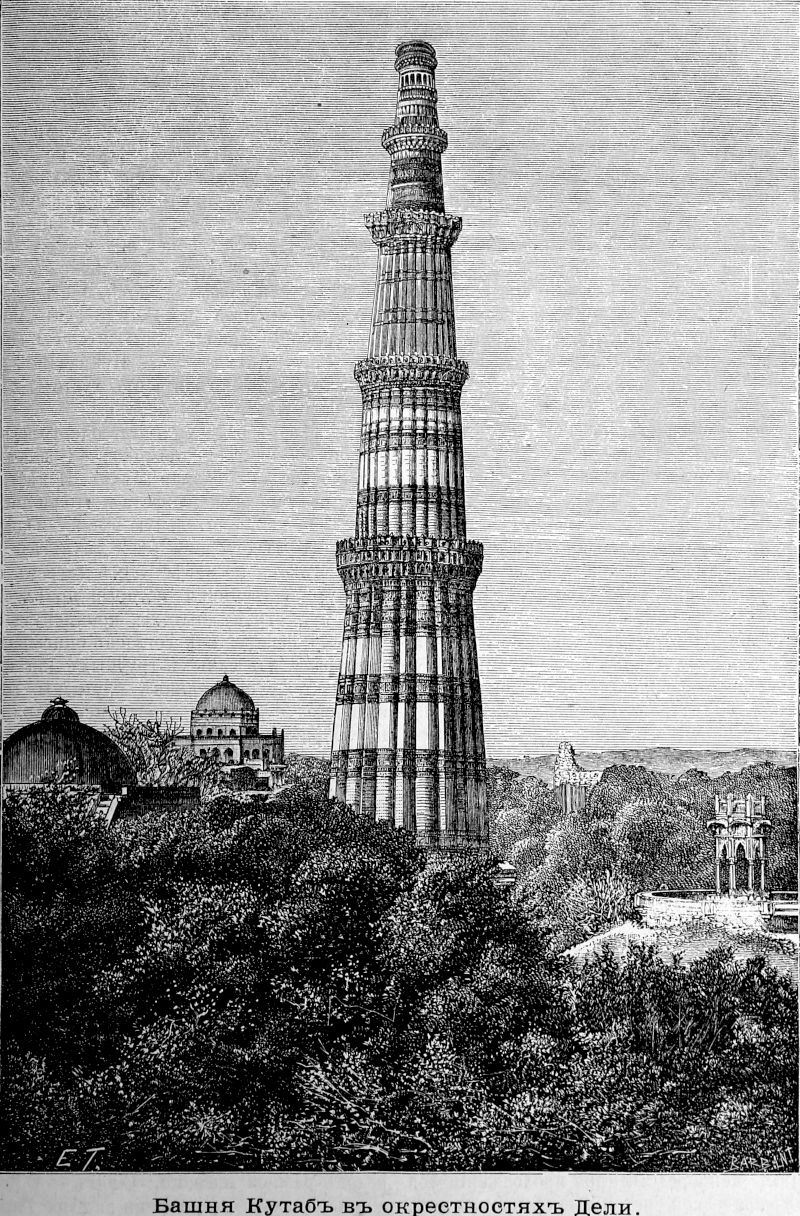
Большие военные дороги, которые инженерам удалось проложить только после вооруженной борьбы с туземцами, соединяют, через горы Хасиа, верхнюю долину Брахмапутры с долинами рек Сурмах и Барак, и эти искусственные пути, лучше, чем естественные бреши плоскогорья, образуют раздельные линии между различными группами высот. Но на востоке от гор Джайнтиа глубокое понижение рельефа почвы прерывает почти совершенно эту горную систему. Далее она снова появляется в виде гор Нага, научное исследование которых началось только в 1872 году, под руководством геолога Годуин-Остена. Область этих гор, составляющих непосредственное продолжение той же орографической системы на северо-востоке, постепенно понижается, и через известные промежутки реки, спускающиеся к Брахмапутре, прорезывают ее своими широкими и глубокими долинами, где Годуин-Остен открыл следы древних ледников. Самые высокие вершины этих хребтов не достигают и 1.000 метров; но на юге они примыкают к другим горным цепям, гораздо более высоким, которые образуют водораздельную возвышенность между бассейном Мегны и бассейном Иравадди. Одна из этих цепей, Барель, имеет 2.000 метров средней высоты, и даже один из её куполов, часто покрытый снегом, поднимается на 3.700 метров над уровнем моря: Годуин-Остен обозначил пока просто одной буквой эту высочайшую точку границы между Индией и Индо-Китаем. Пучек гребней понижается мало-помалу по направлению к северо-востоку, и горы Паткой представляют многочисленные проломы, высотой от 600 до 1.000 метров, позволяющие удобно проходить с верховья Брахмапутры на верховье Иравадди; главные препятствия происходят от густоты лесов и большого протяжения болот.
На север от Дихинга, одного из больших восточных притоков Брахмапутры, начинается «неведомая земля». Известно, однако, что она очень гориста и что её пики поднимаются на значительную высоту. Одна вершина (к северу от реки Дихинга), Дупа-Бум, имеет не менее 4.175 метров, и редкие путешественники, которые проезжали через эту страну, пытаясь проникнут в Восточный Тибет, все согласно описывают ее как одну из самых трудных для прохода местностей, по причине крутизны горных склонов, отсутствия дорог и сплетения вьющихся растений, которые везде опутывают непроницаемою сетью и связывают одно с другим деревья лесов. Селение Симе, крайний пункт, до которого доходили путешественники в этом направлении, находится уже в сердце горных цепей, принадлежащих к орографической системе Восточного Тибета; только узкия долины, где проходят верхние притоки Брахмапутры, разделяют в этой области различные массивы, продолжающие на востоке систему Гималайских гор. В этом селении Симе были умерщвлены, в 1854 году, два миссионера, Крик и Боури, отважившиеся проникнуть в этот дикий край.
В глазах индусов, главная ветвь верхней Брахмапутры не самая обильная река из всех верхних притоков. По их мнению, «Сын Брамы» (буквальное значение слова Брахмапутра), имеющий у различных туземных народов разные названия: Сианг—у племени абор, Талу-ка—у племени сингпо, Гарания—у ассамцев, жителей равнины, Амавари—у племени гарро, Бурхам-путер—у бенгальцев, берет свое начало из Брамакунда, или «озера Брамы», которое образует река Лохит, кружась у подножия каменного утеса, откуда льется водопад; некоторые индусские пилигримы приходят туда совершать свои религиозные церемонии и охранять «священный исток», населенный большими рыбами, которых туземцы почитают как святых факиров, переменивших земное жилище своих душ. Туземцы племени мишми все в один голос утверждают, что река Лохит, или «Красная», вытекает из одной снеговой горы Тибета, в нескольких днях пути на север от их земли, и что эту реку можно переходить в брод в небольшом расстоянии вверх от китайского местечка Румах; она очень маловодна в сравнении с реками, которые соединяются с нею в равнине Садия, и от слияния которых и образуется истинная Брахмапутра. Дихонг, наиболее обильная из этих рек, приходит с северо-запада; в период мелководья она несет не менее 1.550 кубич. метров воды в секунду, а во время одного большого наводнения количество протекающей жидкой массы составляло, по высчислению Вудторпа, от 10.000 до 12.000 кубич. метров. Известно, что Дихонг есть та река, в которой, со времен Реннеля, большинство английских географов признает тибетскую реку Цангбо, обследованную до расстояния около 155 километров к северу от самого верхнего пункта, какой до сих пор был посещен на Дихонге. Другая река, Дибонг, которая соединяется с предъидущею в нескольких километрах выше слияния Лохита, тоже была указываема некоторыми географами как вероятное продолжение Цангбо; равным образом и Субансири, соединяющийся с Брахмапутрой гораздо ниже равнины Садия, где сходятся названные реки, был упоминаем некоторыми исследователями как поток, продолжающий главную тибетскую реку. Однако, теперь уже не подлежит сомнению, что ни Дибонг, ни Субансири не могут быть признаны священною рекой, получающей начало на северной покатости Загималайских гор: ни тот, ни другой не катят в своих руслах массы воды, равной массе, которую несет Цангбо, как показало измерение его стока, произведенное близ города Четанга, на юго-востоке от Лассы. Очевидно, что в климате, где дожди выпадают в таком большом изобилии, реки могут только увеличиваться в объеме от верховья к низовью. Одни только Дихонг и Иравадди, между большими реками полуденного ската гор, имеют дебит, превосходящий массу воды, катимую тибетским Цангбо; следовательно, отныне спорный вопрос должен быть ограничен только между этими двумя потоками. Занумерованные чурбаны и бревна, которые индусские исследователи Цангбо пускали вниз по течению этой реки, тщетно ожидаются уже многие годы прибрежными жителями низовья.
В месте слияния на равнине Садия, Брахмапутра является уже, даже в сухое время года, более значительною рекой, чем Рона или Рейн. Там, где её воды соединяются в одном русле, она имеет обыкновенно больше километра в ширину, но местами течение её разветвляется на множество рукавов, представляющих от берега до берега общую ширину около 40 километров. В некоторых местах равнины, пространство, заключающееся между ложными притоками или рукавами, оставляемыми блуждающею рекой с той и другой стороны, имеет не менее сотни километров в ширину. Могучесть Брахмапутры, повидимому, служит доказательством впадения тибетского Цангбо в великую индусскую реку, но при этом нужно принимать в соображение гораздо более изобилие дождевых вод, нежели длину течения. Бассейн же Брахмапутры есть несомненно один из тех, которые получают наибольшее количество дождевых вод. Правда, часть его долины защищена от проливных дождей горами Гарро и Хасиа, которые получают такия огромные массы дождевой воды на своем южном склоне; но эти горы имеют всего только около тысячи метров средней высоты, и дождливые ветры, проходящие над ними, необходимо должны оставлять свою ношу водяных паров на высоких горах, составляющих на востоке продолжение Гималайской цепи. До сих пор еще ни один наблюдатель не измерял количества дождей, выпадающих в этой области, но самая форма земного рельефа и направление ветров достаточно доказывают их силу и обилие.
Один из притоков Брахмапутры, один из тех многочисленных потоков, имя которых начинается словом ди—синоним реки на языке племени бодо,—Дихинг, представляет редкое явление: течение его разветвляется на два рукава в гористой местности. В том месте, где происходит эта бифуркация Дихинга, уровень его долины находится на 324 метра выше уровня Брахмапутры. Тогда как главная ветвь, Бори-Дихинг, или «Старый Дихинг», направляется на юго-запад, чтобы идти на соединение с великою рекой в её аллювиальной равнине, второстепенный рукав, Нох-Дихинг, или «Новый Дихинг», течет на северо-восток, к Лохиту, выше местечка Садия; расстояние между двумя слияниями не менее 110 километров по прямой линии. Что касается других притоков Брахмапутры, то они тоже изливаются в главную реку несколькими устьями, но эти устья открываются в наносных землях и меняют место с каждым новым наводнением. Вообще изменчивостью своего русла, блуждающего по равнине, все эти большие притоки, посылаемые Гималаем Брахмапутре,—Дихонг и Дибонг, Субансири, Манас, Гадахар, Дхарла, Тиста,—походят на поток, в котором теряются их воды. Но самая замечательная перемена течения—это та, которая произошла с самою Брахмапутрой в конце прошлого столетия. Обогнув на западе горы Гарро, река прежде тотчас-же поворачивала на юго-восток и принимала непосредственно в свое русло все реки областей Сайльгет и Качар; в настоящее же время она течет в южном направлении, под именем Джамуны, и соединяется с гангским рукавом Падмой, огибая плато из древних речных наносов, известное под именем Мадупурского «джунгля», которое возвышается от 20 до 30 метров над уровнем реки. Только незначительный поток, отделяющийся от Брахмапутры, занимает теперь старое русло; островное пространство, заключенное между двумя рукавами реки, обнимает около 15.000 квадр. километров. Мегна, которая получает наибольшую часть соединенных вод Ганга и Брахмапутры, и сама, в своем верхнем течении, есть не что иное, как исток болот южного Ассама, соединяющийся с старою Брахмапутрой и с извилистыми реками области дельты. На юге от слияния, Мегна является в одно и то же время рекой и лиманом, по которому поднимается борющаяся с речным течением приливная волна; усеянная островами и песчаными мелями, которые она беспрестанно созидает и разрушает, эта огромная река походит скорее на морской залив, чем на речное устье. Среднее количество протекающей в ней воды еще не было измерено, но оно не должно быть меньше 30.000 кубич. метров в секунду, следовательно, слишком в три раза превосходит расход Дуная, в пятнадцать или восемнадцать раз расход Роны. Если бы мы не привыкли рассматривать Ганг и Брахмапутру, как две различные реки, то Мегна, общее русло этих двух могучих потоков, заняла бы первое место между главными водными артериями Азии; она превосходит даже Ян-цзы-цзян, и во всем свете уступает, по массе воды, только реке Амазонок, Конго и Паране. Из двух образующих ее рек, Брахмапутра несомненно катит наиболее значительную массу воды; в Гаохати, который находится на 50 метрах средней высоты, в разстоянии 800 километров от моря, разрез реки, измеренный Германом фон-Шлагинтвейтом, во время периода мелководья, имеет 1.509 метров ширины; в этом месте зимний дебит составляет около 9.010 кубич. метров в секунду, а сток в сезон разлива, летом, в три или четыре раза больше; среднее количество протекающей в секунду воды не может быть менее 15.000 кубич. метров, а река еще принимает в себя, ниже этого места, большие притоки, как-то: Манас, Тисту, Барак. Масса приносимых Брахмапутрой твердых, землистых частиц, по меньшей мере, в два раза превосходит наносы Ганга, а между тем, выступ земель нового образования гораздо меньше в восточной части дельты, нежели в гангских Сандербанах. Фергюссон полагает, что эта противоположность произошла вследствие понижения почвы в бассейне Барака. По его мнению, вся эта страна представляла в относительно недавнюю эпоху род внутреннего моря, которое и было засыпано наносами Брахмапутры; вместо того, чтобы спускаться в море, увлекаемые речным течением землистые частицы осаждались в этом озерном резервуаре.
В горах, разделяющих Ассам на две совершенно обособленные части—область верхней Брахмапутры и бассейн реки Барак, большинство населения пребывает еще в диком состоянии. На востоке, около границ Бармании, многочисленные не-цивилизованные племена все еще остаются независимыми от Англии, и даже в западной области, окруженной с трех сторон равнинами, британское господство стало признаваться только с очень недавнего времени. Еще не далее, как в 1871 году туземцы племени гарро восстали против английской полиции, потворствовавшей беззакониям, совершаемым скупщиками земли, и целые два года скорее давали выжигать свои селения и посевы, чем покориться; только когда английские офицеры-топографы, под защитой нескольких рот егерей, обошли весь край и отметили на карте все лесные и горные трущобы, служившие убежищем инсургентам, туземцы, не будучи в состоянии впредь обманывать бдительность дисциплинированных сипаев, увидели себя вынужденными снова платить подати и допустить агентов фиска в свои селения.
Весьма вероятно, что племя гарро некогда населяло соседния равнины и что оно было постепенно оттеснено во внутренность гор бенгальцами, к которым эти инородцы и до сих пор питают сильную ненависть; впрочем, некоторые кланы, на окружности гор, уже более или менее объиндианились; переход от расы к расе совершается постепенно от равнин Брахмапутры к лесам горной страны. Гарронцы чистого происхождения—обыкновенно среднего роста, сильны и ловки; цвет кожи у них почти черный, лицо широкое, нос плоский и вздернутый, глаза слегка скошенные, лоб прямой, скулы выдающиеся, губы толстые; вообще они напоминают тип, называемый монгольским. Борода у них редкая, да и ту они тщательно выщипывают, чтобы подбородок был совершенно гладкий, но волос на голове никогда не стригут. Большинство туземцев этого племени ходят почти нагишом; некоторые носят одежду, привозимую из равнины и состоящую единственно из передника и покрывала, к которым иногда прибавляется род плаща, из широкого куска древесной коры, которая предварительно была вымочена в воде для того, чтобы осталось одно только волокно. Мужчины и женщины, как большая часть дикарей, очень любят всякия украшения, ожерелья, серьги, браслеты, но диадему, составленную из медных блях, имеет право носить лишь человек, убивший врага. Англичане, хотя им пришлось вести продолжительную борьбу с этими туземцами, дают о гарронцах самый лестный отзыв, изображая их обходительными, добрыми, гостеприимными, правдивыми, людьми прямыми, без всякой хитрости и лукавства; их нравственные качества составляют самый счастливый контраст с двуличным характером бенгальцев, льстивых и вероломных. Гарронцы—хорошие земледельцы, несмотря на то, что единственное их земледельческое орудие—простой нож, которым они режут траву и ветви деревьев и делают ямы в земле. Первый предмет, который бросается в глаза иностранцу, когда он приближается к гарронскому селению,—это сторожевая будка, построенная на вершине помоста, господствующего над другими хижинами; из этой воздушной сторожки гарронец присматривает за полями хлопчатника, хлебных растений, сладких патат. После двух или трех лет обработки и сбора плодов, земля оставляется в залежи и отдыхает в течение семи или восьми лет. Вообще жители непоседливы и часто по самому ничтожному поводу переселяются в другое место. Впродолжении жизни одного поколения им случается основать последовательно до восьми или десяти поселков; повсюду встречаешь в лесах остатки хижин, которыми, после ухода населения, овладели трава и кустарник.
Какого происхождения эти племена, так легко меняющие место жительства? Язык, которым они говорят и которого имеется несколько словарей, составленных разными исследователями, указывает на родство их с племенем меч, живущим в области терая, и с другими народцами тибетского корня. Сами они себя называют единоплеменниками англичан, но это мнимое родство, конечно, имеет для них лишь тот смысл, что дает им основание предъявлять свое право на независимость. По нравам и обычаям, гарронцы, хотя почти уединенные, являются представителями многочисленных народцев, принадлежащих к одному и тому же периоду культуры в южном Китае, в Индо-Китае и в Декане; они могут быть рассматриваемы как представители типа древнейшего общества, сохраняющагося в своем первобытном виде, вопреки всем внешним влияниям, которые осаждают его; ни у какого другого народа не сохранились лучше учреждения матриархата. Кланы до сих пор удержали свое название магари, или «материнство», и женщина считается главою семейства. Молодая девушка первая делает предложение молодому человеку, всегда выбираемому в чужой «материнской общине», или магари, и сама сватает его за себя у его матери; когда парень первый позволит себе заговорить о сватовстве, магари, к которой он принадлежит, приговаривается к большому штрафу. У большинства племен, пребывающих еще в полудиком состоянии, свадебной церемонии предшествует подобие умыкания молодой девушки; у племени гарро, наоборот, друзья невесты совершают похищение будущего супруга и силой уводят его в «материнство», членом которого он делается с этого времени. Однако, когда дело идет о браке наследниц, им не предоставляют свободного выбора; и в этом случае два заинтересованные «материнства» ищут подходящего мужа и заключают брачный договор. Сын не наследует отцовского имущества: все имущество переходит к сыну сестры, но этот племянник наследует в то же время и вдове, и должен вступить с нею в брак, хотя бы даже она была матерью его собственной жены; у других племен Индии тоже встречаются следы этого первобытного обычая.
Женщины все еще имеют голос на собраниях «материнств», но уже не управляют больше общинами. Начальник или глава, ласкар, который, впрочем пользуется своей властью единственно в силу доверия, оказываемого ему материнством или группой материнств, которую он представляет, всегда мужчина и имеет пребывание в деревенском «дворце», большом доме, который, по индо-китайскому обычаю, предоставляется для жительства всем холостым членам общины. В начальники вообще выбирается самый богатый из жителей; между этими ласкарами есть такие, которые владеют десятками пятью или шестью невольников, потомков порабощенной расы, к которой принадлежат, может быть, две трети всего населения, но которая, впрочем, почти ассимилировалась с другими гарронцами; они только не имеют права вступать через брак в члены благородного класса, хотя они физически сильнее и красивее своих господ. Между свободными людьми не существует никаких каст. Влияние, оказываемое жителями равнины, не было достаточно сильно, чтобы заставить этих горцев принять индусские обычаи и учреждения. Гарронцы не считают за преступление употреблять в пищу коровье мясо: за исключением молока, вкус которого им противен, они не брезгают никакою снедью, едят даже крыс, лягушек, змей; откормленные на убой собаки составляют одно из любимых их блюд. Их религиозные церемонии, совершаемые под руководством тех членов общины, которые помнят молитвы, приближаются к обрядам индусского сиваизма, с тою разницею, что горцы не имеют идолов в своих святилищах; они почитают, как представителей духов, пушистые кисти из хлопчатой бумаги или шелка, которые они привязывают к бамбукам и которые колышатся, качаемые ветром. Покойников они сжигают и пеплом их наполняют особые бамбуковые сосуды в роде клетки, украшенные разными затейливыми фигурами. В прежнее время, когда гарронцы хотели почтить память усопшего, они посылали воинов в равнину с поручением изловить там нескольких бенгальцев, которых и приносили торжественно в жертву перед похоронным костром, обмазывая столбы кровью закланных жертв. Еще в 1866 году одна из этих кровавых церемоний была совершена в горах Гарро.
Хасии или чосии, восточные соседи гарронцев и незначительного племени мигам, сами себя называют хий. Подчиненные английскому владычеству уже более полустолетия тому назад и находясь в постоянных торговых сношениях с жителями равнин, прилегающих с севера и с юга к их горам, хасии стоят уже на более высокой степени культуры, и многие из их кланов частью индианизировались. Во времена своей независимости, прежде чем измена одного из их князей предала их во власть Англии, они составляли конфедерацию, или союз маленьких республик, из которых каждая заключала в себе известное число деревень, управляемых местной аристократией. Этот политический порядок частью удержался до сих пор, несмотря на постоянно увеличивающееся вмешательство в их самоуправление английских администраторов. Хасии и джайнтии или сайнтенги, которые живут на востоке в том же горном массиве, отличаются от всех других обитателей Индии по сю сторону Ганга моносиллабическим языком, но представляющим уже некоторые признаки перехода к агглютинативной форме. Так же, как диалект басков, наречие хасиа, которое, впрочем, не имеет никакой письменной литературы, составляет совершенно особенную глоссологическую анклаву, или область, заключенную среди других, чуждых ему говоров; до сих пор ученые не знают еще, к какой семье языков причислить сто тысяч горцев, говорящих этим идиомом. Что касается физического вида, то хасии и джайнтии мало разнятся от гарронцев и других народцев, принадлежащих к тибетскому корню, только они сильнее и отличаются необыкновенной толщиной икр; в этом отношении немногие европейцы могли бы сравниться с ними. Женщины хасиа легко носят на себе путешественников в плетеной корзине, расположенной в форме стула. По словам Гукера, у некоторых племен хасиев сохранился еще обычай татуирования, и почти все они жуют листья, окрашивающие зубы в красный цвет. «Белые зубы только у собак да у бенгальцев», обыкновенно говорят они в оправдание своей привычки. Добродушные и честные, эти горцы вносят во все свои работы и игры необыкновенную веселость; их почти всегда слышишь поющими, и—почти единственный пример между азиатцами—они насвистывают арии с изумительной точностью. Очень храбрые, они в то же время очень строго и добросовестно соблюдают правила международного права, как они его понимают. Хотя англичане сражались с ними огнестрельным оружием, они никогда не отвечали им отравленными стрелами,—оружие, которое они употребляют только против диких зверей. Что касается брака и свадебных обрядов, то они почти такие же, как у гарронцев и также свидетельствуют о большой живучести матриархальных учреждений. Равным образом у племен хасиа сохранились некоторые остатки полиандрии (многомужия). Развод у них дело очень обыкновенное: достаточно жене бросить в воздух пять раковин каури, чтобы расторжение брачного союза стало совершившимся фактом, после чего муж возвращается в свой материнский клан, но дети остаются с матерью; вообще они знают только мать, не ведая даже имени отца. В могиле муж разлучается с супругой; его прах хоронится на кладбище его племени, тогда как прах детей кладется подле материнской урны. Все умершие сжигаются на костре; но так как сжигание мертвых тел очень затруднительно во время дождливого сезона, то их сохраняют до сухого времени года, покрывая труп медом. Век дольменов еще продолжается в земле хасиев; подходы всех селений загромождены могильными камнями, из которых одни положены плашмя на столбах, другие стоят, как сложенные в кучи камни западных народов, или поддерживают на верхушке широкий круг. По краям дорог встречаются большие каменные глыбы причудливой формы, положенные в память каких-нибудь замечательных событий.
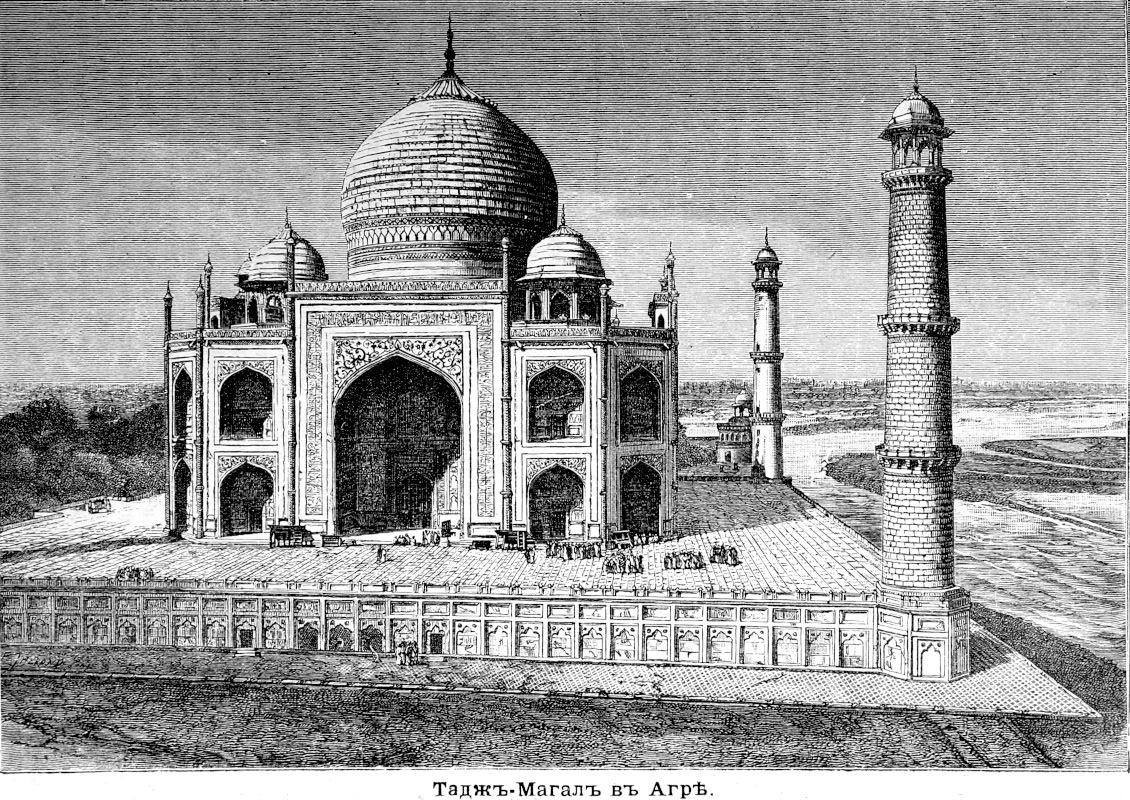
К востоку от горцев хасиа и джайнтиа живут племена нагов, т.е. «нагих», населяющие долины и плоские возвышенности; но это имя, имеющее, может быть, связь с названием древних нагов, или «змеев», о которых говорят арийские традиции, есть общее наименование, применяемое к народцам, весьма различным по языку, племенному родству, правам, узорам татуировки. На северо-востоке они смешиваются с браманскими сингпо; на юге они соединяются с куками через различные промежуточные народцы. Одно из их племен или колен, по их верованию, родилось из тростников; другое вылупилось из яйца; третье выросло из воды; наконец, есть одно, которое произошло из ничего, силою своей собственной добродетели. Наги по преимуществу—это те, которые величают себя именем ангами, или «непобежденных» Они в самом деле остались независимыми до наших дней, и англичанам часто приходилось вести с ними войну. Начальника или главы у них нет никакого. «Вот наш господин!» говорят они, вонзая дротик в землю. Эти горцы не меняют так легко места жительства, как гарронцы; напротив, они живут на вершине холмов, в постоянных селениях, представляющих род крепостей, защищенных рвами, рогатками, колючими деревьями; дороги, ведущие к деревням, до такой степени узки, что два человека не могут идти по ним рядом, а в военное время их загромождают всякого рода препятствиями. Еще недавно молодой туземец из племени нага не мог татуировать себе лицо до тех пор, пока ему не удалось срубить человеческую голову, или хитростью, или в бою, и поднести этот трофей в подарок своей нареченной; как пираты с острова Борнео, они отправлялись охотиться на человека. Эти кровожадные люди имеют, тем не менее, многие хорошие качества: они уважают данное слово, охотно жертвуют собою для спасения общины, благоговейно поддерживают загороди кладбищ, где находится прах их умерших предков. Они возделывают землю с большою смышленостью и ценятся как хорошие работники в чайных плантациях, которые мало-помалу поднимаются все выше и выше по склонам гор, так что, без сомнения, кончится тем, что эти плантации завоюют всю территорию народа нага гораздо вернее, чем военные экспедиции английских сипаев. Общее число туземцев, принадлежащих к различным племенам нага, в Ассаме, в 1891 г.: 101.568 душ.
Южные соседи народа нага, куки, занимают область гор, продолжающуюся даже в пределах Типпераха и в округе Джиттагонг. Сами они не знают себя под этим генерическим именем, которое жителями равнины употребляется в оскорбительном смысле; между ними нет никакой национальной связи, и потому у них существуют только наименования для отдельных колен и кланов или родов рассеянных в прогалинах лесов. Они имеют по большей части вид родства: туземцев этого племени легко отличить по их малому росту, по мускулистым членам тела, по цвету кожи почти черному, по плоскому лицу; некоторые из них, говорят, имеют очень короткия ноги и непропорцианально длинные руки. Лангути (холщевый передник) для обоих полов, шарф для женщин, тюрбан для мужчин,—таков, вместе с разными металлическими украшениями, весь костюм кукиев. Один народец, лункта, или «голые», ходят почти без всякой одежды: злая мачиха, как гласит предание, обобрала у них все платье, чтобы отдать его более любимым сыновьям. В многочисленных коленах и кланах кукиев, из которых одни находятся в сношениях с барманами, другие с бенгальцами, иные, наконец, живут совершенно особняком, уединенно, можно встретить все степени дикого и полуцивилизованного состояния общества. В то время, как некоторые дикари этой расы, говорят, добывают огонь еще посредством трения двух кусков дерева и употребляют вместо соли бамбуковую золу для приправы в пищу, другие народцы, как, например, типперахи, претендуют на титул индусов и соблюдают религиозные обряды браманского происхождения. Из всех племен куки самое могущественное и наиболее опасное для англичан—племя лушай, живущее на юге страны Манипур, в горах, отделяющих землю Типперах от Бармании. Много раз бенгальское правительство вынуждено было посылать военные экспедиции против этих разбойничьих кланов, которые обладают замечательным талантом в устройстве оборонительных укреплений и сражаются с редкою неустрашимостью, смело идя на смерть, когда им случится встретиться лицом к лицу с врагом. Нет страны, где вендетта практиковалась бы с большею строгостью, чем у лушаев. Они мстят даже животным и деревьям. Если тигр пожрет человека, родственник жертвы преследует зверя до тех пор, пока не убьет его и не напьется его крови; если дерево упало на туземца, нужно срубить его и изуродовать, нужно разлить по земле его сок. Лушаи не выказывают особой любви к украшениям, но зато они чрезвычайно заботятся о своей шевелюре.
Гористые области на границе Ассама населены другими народцами индо-китайской расы, каковы хамти, сингпо или какиен, но эти племена представлены на покатости Брахмапутры лишь малочисленными кланами; наибольшая часть их территории находится в бассейне Иравадди. Однако, горы не единственные местности Ассама, где живут племена, держащиеся особняком от индусов. Лесистые и болотистые области тоже принадлежат еще первобытным населениям. Так, микиры, в количестве свыше 40.000 душ, сгруппированные, по большей части, в больших домах, служащих общим жилищем нескольким семьям, обитают в прогалинах лесов, которые тянутся длинным поясом между горными хребтами Хасиа и течением Брахмапутры; эти туземцы составляют народ мирных тружеников, живущих в совершенной дружбе и согласии между собою. Другая нация, гораздо более значительная и состоящая, вероятно, более чем из 200.000 душ, нация бодо, рассеяна своими многочисленными кланами во всех частях Ассама, как в бассейне Барака, так и в бассейне Брахмапутры; некоторые из её семейств встречаются даже в Верхней Бенгалии и в Непальской области терая; наконец, племя димал, в числе около 15.000 душ, населяет, рядом с народом бодо, салевые леса, которые тянутся вдоль основания западных гор Бутана.
Многочисленная нация бодо, область которой образует обширный полукруг около гор Ассама, вообще известна под названием качари, и это, вероятно, по её имени назван Качарский округ, лежащий на границе Бармании и земли Манипур. Бодо называют себя рангца, т.е. «небесными»; область, где они сгруппировались в наибольшем числе, носит название Камруп: это полуостровная страна, заключающаяся между реками Брахмапутрой и Манасом. Занимая столь обширную территорию и находясь в торговых сношениях с самыми разнородными населениями, бодо, естественно, должны были измениться, приспособляясь к различным средам. Многие из народцев этой расы усвоили некоторые обычаи своих соседей индусов и принимают название сорониа, т.е. «очищенных», потому что они воздерживаются от употребления запрещенной мясной пищи и исполняют, под руководством своих жрецов гуру, предписанные браманскою религией омовения. Другие племена, живущие в Восточном Ассаме, в соседстве с буддийским населением, имеют лам, вместо гуру, в качестве духовных наставников. Но независимо от своих религиозных верований, бодо, будь то сиваиты, буддисты или язычники, сохранили до сих пор с замечательною верностью свои первоначальные правы, и почти везде они резко отличаются от народностей другого происхождения, с которыми находятся в соприкосновении. Тип их нисколько не походит на тип арийцев: выдающиеся скулы придают их лицу ромбическую форму; нос у них приплюснутый, с широкими ноздрями, глаза маленькие, губы толстые, и на верхней губе пробиваются усы в виде легкого пушка; совокупностью черт лица и оливково-смуглым цветом кожи они походят на дравидийцев южной Индии. Точно также их язык, флексивный и совершенно отличный от идиомов санскритского происхождения, представляет, по Годгсону, те же самые характеристические признаки, как и дравидийские идиомы; вокабулы арийского происхождения в нем очень малочисленны, причину чего, без сомнения, нужно искать в том обстоятельстве, что они всегда старались держаться особняком от властителей страны. Но термины, заимствованные ими из арийских наречий, доказывают, что до своего знакомства с арийцами они не имели никакого понятия о земледелии в собственном смысле, не имели ни лошадей, ни сохи, не употребляли никаких денежных знаков и не умели выражать точным образом отвлеченные понятия.
Как земледельцы, бодо такие же кочевники, как и гарро. Они редко обработывают один и тот же участок земли более двух лет сряду и редко остаются более шести лет на жительстве в одной и той же деревне. Если они возвращаются в тот же самый край, оставив земли, которые они там прежде возделывали, на несколько лет в залежи, то они никогда не строют своих хижин на местах прежнего поселения, из боязни преследования со стороны духов. Они никогда не стараются о том, чтобы сделаться собственниками земли, которую пашут; они везде являются в качестве простых арендаторов и платят аренду или деньгами, или произведениями почвы, но эта плата редко достигает значительных размеров, потому что люди других рас не могли бы обработывать, без опасности для здоровья, сырые земли, которые бодо берут в аренду. Несмотря на нездоровый климат своего местопребывания, они вообще сильнее и проворнее, чем их соседи, живущие на осушенных землях. Бодо отличаются также и нравственными качествами. Очень сдержанные с чужеземцами, они показывают себя такими, каковы на самом деле, со всяким, кто сумеет приобрести их доверие; по единогласному свидетельству всех путешественников, они кротки и скромны, но без всякого унижения, честны, правдивы, трудолюбивы, воздержны, всегда вполне владеют собою, склонны к спокойной веселости. Женщине они оказывают особенное уважение, обращаясь с ней с почтением и советуясь с нею во всех случаях жизни; но хотя многие считают их единоплеменниками народа гарро, они не имеют учреждений, которые напоминали бы матриархат: у бодо не молодые девушки сватают за себя женихов и разыгрывают комедию похищения своих будущим супругов; напротив, у них против невесты устраивается подобие умыкания, условленное заранее между обеими сторонами. Совершенно равные друг другу, они не делятся ни на колена или кланы, ни на касты, так как все семейства бодов, как состоящие, так и не состоящие между собою в родстве, считают себя имеющими совершенно одинаковые права. Они не держат, как большинство туземных наций, ремесленников чужой расы, которые работали бы у них, чтобы прясть и ткать им материи, строить или украшать их жилища,—они сами делают все необходимое для своего обихода и помогают друг другу, в случае надобности; что касается предметов, которых они сами не умеют фабриковать, то они покупают их у индусов. Очень редко случается, чтобы в их деревнях возникали какие нибудь споры и несогласия; однако, представляются обстоятельства, когда вмешательство совета старейшин оказывается необходимым, и в этом случае виновный подвергается публичному выговору, или даже изгоняется, когда его присутствие в общине было бы небезопасно для общественного спокойствия. У них нет наследственного класса жрецов; всякий, кто хочет, может принять на себя обязанность общественного «молельщика», но не получая никакой власти в обмен за свои услуги. Впрочем, религиозные церемонии у них самые простые: они ограничиваются взыванием к «сонму звезд», к лесам, горам, вообще ко всем большим предметам природы и в особенности к рекам; так же, как индусы, бодо боготворят все ганги своего отечества. Подобно своим соседям димал, которые отличаются от них только языком, они почитают также некоторые растения, между прочим, один вид молочайных, называемый сидж, очень богатый молочным соком; каждый бодо считает своею непременною обязанностью разводить это растение в садике около своей хижины. Подобный же обычай существует и у туземцев Ориссы.
Нация коч или куч, еще гораздо более многочисленная, чем племя бодо, представлена в Северо-восточной Индии слишком миллионом душ. Она распространена по всему пространству территории, заключающейся между Гангом, Гималаями и горами барманской границы; но значительными группами она сосредоточена в той же области Бенгалии, которая означается под именем Коч-Бехар, т.е. «Кочский монастырь», и которая сохранила место между так называемыми государствами Индии. Племя пани-коч, живущее у основания гор Гарро, походит на племя гарро, имеет такие же матриархальные обычаи и, вероятно, происходит от того же этнического корня; но другие кочские племена ясно отличаются от различных народностей Северной Индии своим почти черным цветом кожи, толстыми губами, выдающимися челюстями, клочковатою бородой; их обыкновенно причисляют к дравидийцам; некоторые антропологи помещают их в число негритосов, самые чистые представители которых находятся в архипелагах Юго-восточной Азии. Те из кочских племен, которые не говорят наречиями индусского происхождения, имеют язык, приближающийся к идиому племени меч. Но смешение народа коч с индусами и ассамцами различных происхождений произвело такое разнообразие типов, что теперь уже невозможно классифицировать их точным образом. Те из них, которые принадлежат к богатым фамилиям, сочли бы за оскорбление, если бы им дали название коч; они претендуют на происхождение от самого Сивы и величают себя громким именем раджбанси, т.е. «Царских сыновей».
Цивилизованное население равнин Ассама, к которому примешиваются бродячия группы народов димал и бодо, равво как переселившиеся с запада племена коч и меч, принадлежит в значительной части к расам индо-китайского полуострова. Пороги, через которые северный бассейн Брахмапутры сообщается с долиной Иравадди, так низки, что с востока завоеватели могли часто проникать в Ассам и смешиваться с коренным населением. Чутии, которые господствовали в Восточном Ассаме в начале четырнадцатого столетия, были, может быть, потомки сиамских племен, хотя наречие одного из их колен, живущего в верхнем Ассаме, повидимому, скорее имеет сродство с языком народа бодо. Почти совершенно объиндианившиеся уже сотни лет тому назад, и живя под опекой браманских жрецов, чутии отличаются от других каст, называемых индусскими, округлою формой и плоскими чертами лица. Что касается агомов, которые сменили чутиев в качестве властителей страны, то они несомненно восточного происхождения: это единоплеменники шанов, живущих на границе Юннана; но со времени их переселения в край, которое восходит к тринадцатому столетию, они сильно изменились, вследствие браков с туземными и индусскими женщинами. Под их правлением, население Ассама, как кажется, много страдало; они были жестокими и жадными господами, очень строгими в вымогании податей и повинностей. Низойдя снова в массу народа, они мало-помалу сливаются с индусскими кастами, исключая области по берегам верхней Брахмапутры, где они сгруппированы, в числе около 130.000 душ, вокруг своих древних столиц. Что касается барманцев, которые тоже были господами Ассама в течение первой четверти девятнадцатого столетия, то они оставались слишком короткое время в крае, чтобы могли основать там прочные поселения.
Тогда как индо-китайцы проникали в Ассам через пороги холмов, индусские арийцы, более или менее чистой расы, поднимались вверх по берегам Брахмапутры, порабощая туземных жителей. Древнейшие предания страны уже показывают нам индусов поселившимися в королевстве Камруп, между реками Манасом и Брахмапутрой. Царство их было ниспровергнуто в пятнадцатом столетии магометанами, и даже туземная нация коч снова приобрела-было власть на некоторое время, но цивилизация все-таки осталась та, которую принесли с собою арийцы; цивилизуясь, многие племена стали причислять себя к индусским кастам, и господствующим языком в области равнин сделалось бенгальское наречие (бенгали). Но как во всех странах, колонизованных эмигрантами, пришельцы менее строго, чем их предки, заботятся о сохранении чистоты крови, и касты беспрестанно смешиваются между собою и преобразуются в новые социальные группы не по племенному происхождению, а по профессиям и богатству. Чистокровные браманы немногочисленны в Ассаме. Между индусами самую значительную, по численности, особенную группу составляют калитаны, поселившиеся в крае с незапамятных времен. Они замечательно походят на раджпутов красивым овалом лица, выдающимся носом, большими глазами, часто серо-железного цвета, легкою поступью. Сами они приписывают себе происхождение от высшей расы, и хотя их считают судрами, они, тем не менее, настолько пользуются уважением, что браманы соглашаются принимать от них очистительную воду. Во многих округах наилучше обработанные земли принадлежат калитанам. Другие индусы, называемые дом, получили от британского правительства право пользования всеми рыбными ловлями на верхней Брахмапутре, но, взамен того, они обязаны снабжать гребцами суда должностных лиц.
Население в Ассаме почти исключительно сельское. Жители края, относительно очень малочисленные, располагают гораздо более обширным пространством превосходных земель, чем сколько они могут обработывать; почва дает им рис в преизобилии, равно как разного рода плоды и съедобные корни; кроме того, земледельцы могут получать без большого труда обильные урожаи хлопка в области холмов, джута на полях равнины, и продавать эти произведения калькуттским купцам. Понятно, что крестьяне Ассама, «Несравненной» страны,—таков, говорят, смысл его имени в санскритском языке,—не имеют охоты менять свое безбедное положение на участь поденщиков в больших чайных плантациях, основанных в различных частях страны, преимущественно в округе Качар и на южном склоне гималайских предгорий, в верхнем Ассаме. Поэтому, плантаторы вынуждены искать себе наемных работников или кулиев вне провинции, главным образом в земле санталов и в Ориссе. Торг рабочими постоянно увеличивался в той же пропорции, как и производства чая; часто, несмотря на контракты и уставы о найме рабочих, иммигранты попадают в положение настоящих невольников. Смертность очень сильна между этими несчастными, которых привлекает сюда более высокая заработная плата, чем какая существует в их провинциях, но которые должны заработывать ее на сырой почве, в удушливой атмосфере, вдали от всего, что они любили в родной земле; как только ими овладеет гнетущее чувство тоски по родине, гибель их неизбежна. Из тысячи двухсот мадрасских кулиев, привезенных одним плантатором в Ассам, осталось только трое, четыре года спустя. Однако, новые партии вербуемых на стороне рабочих беспрестанно пополняют убыль, происходящую от смертности, и увеличивают массы работников; в одном только 1876 году было привезено в эту провинцию около 34.000 новых кулиев; в настоящее время их насчитывается свыше 200.000, и из этого числа более двух третей уроженцы округов, лежащих вне бассейна Брахмапутры. Одна из причин, объясняющих попытки, так часто делаемые по инициативе английских плантаторов и направленные к открытию прямого торгового пути между верхним Ассамом и бассейном Ян-цзы-цзяна, та, что китайские эмигранты могли бы нахлынуть массами по этой новой дороге, и этот наплыв желтолицых сынов Срединного царства, естественно, повлек бы за собою понижение заработной платы на плантациях. Правительство крупных земельных собственников или ландлордов, верховная держава, господствующая над Индией, разрезала Ассам на обширные лены, в роде тех, какие существуют в Ирландии и в верхней Шотландии. Округ Гоальпара заключает в себе всего только восемнадцать больших имений, платящих поземельный налог, который не представляет даже пятидесятой доли их дохода.
По мнению большинства ботаников, Ассам следует считать первоначальною родиною чайного дерева. Выше долины Брахмапутры это дерево встречается повсюду в диком состоянии, достигая вышины от 4 до 6 метров, а в горах Нага рост его доходит даже до 20 слишком метров [более 9 сажен ]. Уже в 1823 году, когда еще Ассамская провинция не принадлежала Великобритании, один английский купец, Роберт Брюс, открыл это туземное растение; но после того прошло целых двенадцать лет, прежде чем был разведен первый «чайный сад», близ Лахинпура, в аллювиальных землях Субансири. Правительство, которому принадлежал этот сад, выписало китайских земледельцев из провинции Фокянь, и с 1838 года лондонские чайные торговцы стали получать по дюжине ящиков ассамского чая. Несколько лет спустя, частная промышленность выхлопотала себе у правительства право пользования обширными землями для культуры драгоценного деревца, и с этого времени началась эра спекуляций; мало найдется предприятий, которые давали бы повод к более запутанным и рискованным финансовым махинациям, чем чайные плантации Ассама. Несмотря на разорение большого числа плантаторов, производство чая не переставало возрастать из года в год, и количество чая, вывозимое из этой провинции Англо-индийской империи, равняется шестой части количества, которое отправляется из Китая во все страны земного шара.
Отпуск чая из Ассама: в 1851 году—128.240 килограмм.; в 1871 г.—5.404.100; в 1881 г.—17.184.000 килограмм.
Общая площадь чайных плантаций превышает ныне 90.000 гектаров (в 1890 г.—92.415 гектар.), а ежегодный вывоз чая составляет свыше 3 миллионов фунт. стер. Из трех разновидностей чайного дерева, китайской, ассамской и их помеси, плантаторы предпочитают последнюю, как более безъискусственную и крепкую, более богатую листвой, чем китайская, и в то же время более высокую ростом, чем туземное деревцо.
Ассам, который в торговом отношении можно назвать непроходимым закоулком, так как сбыт его произведений возможен пока в одном только направлении—к Калькутте, не имеет еще больших городских поселений. Город Садия, занимающий счастливое географическое положение, в точке соединения трех могучих притоков Брахмапутры—Дихонга, Дибонга и Лохита, и некогда бывший столицей завоевателей агомцев, есть не более, как местный рынок для окрестных горцев; пока дороги из Китая и Тибета не будут открыты через земли туземных народцев абор, мишми, хамти, до тех пор Садия не может воспользоваться неоцененными выгодами своего торгового положения. В настоящее время Дибругар, самая верхняя пристань, где обыкновенно останавливаются пароходы в период разлива реки, и Сибсагар, лежащий в аллювиальной равнине, в 18 километрах от Брахмапутры, имеют более важное значение, чем Садия. Главный административный центр округа, Сибсагар сменил собою древние многолюдные города, бывшие столицами царства Агом; заросшие мелким кустарником, развалины Гаргаона, на юго-востоке от Сибсагара, и развалины Рангпура, на юге, раскинуты на пространстве нескольких десятков квадратных километров. Среди лесной чащи видны остатки сиваитских храмов Динаджпура, с их изваянными камнями, представляющими творческую силу божества. Эти груды развалин, эти старинные крепости, эти остатки дворцов и храмов свидетельствуют о богатстве и цивилизации древних ассамцев и составляют поражающий контраст с несколькими группами хижин, которым в настоящее время дают название городов. Не много найдется местностей в Индии, которые подвергались бы большим опустошениям, чем равнины, орошаемые Брахмапутрой.
Тезпур—важная пристань, как и Дибругар; но самый деятельный город во всей области верхней Брахмапутры—Гаохати, стоящий на левом берегу реки; это бывшая столица индусского царства Камруп; со всех сторон он окружен руинами, прикрытыми мелким кустарником или водяными растениями. В Гаохати мы уже вступаем в область святых мест, привлекающих массы пилигримов; уже в ближайших окрестностях этого города, на западе, находится священная гора (поднимающаяся слишком на 200 метров над уровнем реки); с храмом на вершине, который посещается большим числом богомольцев; в прежнее время при этом храме для служения состояло 5.000 молодых девушек, и теперь еще число их доходит до нескольких сот. Другое святилище, находящееся на скалистом острове посреди реки, также посещается тысячами пилигримов, а на правом берегу Брахмапутры, храм Хаджу, посвященный Будде или Мага-Муни, привлекает в одно и то же время буддистов Бутана и правоверных индусов различных культов; в этом храме сливаются две главные религии Индии. Святилище Хаджу указывает местоположение древнего города Азу, который заключал в себе гробницы ассамских царей, с их золотыми и серебряными идолами, а также толпой их жен и офицеров, которые сами себя отравляли, чтобы следовать за ними на тот свет, и всякого рода животных, убитых на их могиле. Еще недавно Гаохати был столицей Ассама, но его нездоровый климат скоро прогнал английские власти, которые перенесли свою резиденцию на плато Шиллонг, в горах Хасиа. Новая столица, которая в то же время служит летним городом, или «санаторией», для пребывающих в Ассаме англичан, была основана в 1874 году и вскоре после того соединена с Гаохати прекрасною шоссейною дорогой (длиной около 108 километров), одною из лучших в Индии; военные кантонементы были расположены в соседстве новой резиденции, и колонии туземцев, гарро, хасиа, джайнтиа, сгруппировались вокруг английских домов. Этот новый город, Шиллонг, лежащий на высоте 1.493 метров, на плато, имеющих скат, с одной стороны,—к верхней Брахмапутре, с другой—к бассейну реки Бакар, занимает очень выгодное положение в административном отношении, так как он находится в географическом центре провинции, которой он—главный город. На западе, на горе Тура, выстроилась другая «санатория».
Ниже Гаохати, города Гоальпара и Дхубри, следующие один за другим на берегах Брахмапутры, обязаны своим важным значением преимущественно складам строевого леса и земледельческих продуктов; железная дорога соединяет Дхубри с городами при Ганге. Простирающиеся за границами Ассама равнины, по которым протекает блуждающая река Дхарла, принадлежат в большей части к медиатизированному государству Коч-Бехар, столица которого, носящая то же имя, представляет кучку хижин, раскинувшихся вокруг кирпичного дворца раджи. На юге, в пределах Бенгалии, Рангпур, или «Город Счастья», значительнее предыдущего; он превосходит по важности города Динаджпур и Богра, находящиеся тоже в треугольном пространстве, ограниченном Гангом и Брахмапутрой выше их слияния; но в отношении торгового движения он далеко уступает Сираджганджу, главному порту Джамуны или Брахмапутры. Этот город существует менее ста лет, и в этот короткий период он уже должен был вновь отстроиться, в 8 километрах от своего первого местоположения, после того, как сильный разлив реки смыл все его дома и улицы. Впродолжении всего дня происходит непрерывное движение фургонов между городом и дебаркадерами, где складываются огромными кучами кипы джута и табаку, маслянистые семена, мешки соли, риса и других продуктов. Большинство купечества, в пользу которого производятся все эти операции, состоит из джайнов, уроженцев Раджпутаны, известных в крае под именем марварцев; до самых крайних пределов Ассама, почти вся торговля страны находится в руках людей этой касты. Торговые обороты Сираджганджа в течение фискального 1876—1877 года простирались, по ценности, до 113.200.000 франков; на пристани его число судов в приходе и отходе было 49.644.
Гоаланда, другая речная пристань, расположенная на песчаной косе западного берега Ганга, при слиянии его с Брахмапутрой, соперничает с Сираджганджем по важности торговой деятельности; но построенный на не твердой почве, постоянно угрожаемый наводнением из двух могучих рек, которые здесь соединяются в один поток, этот торговый центр переходит с места на место, смотря по времени года: зимой и весной временная железная дорога продолжается на 3 километра от постоянной станции; в летние месяцы рельсы снимаются, и широко разливающийся поток, покрывающий свои берега на далекое пространство, ударяется об оградительные насыпи или плотины, между которыми заключены склады и магазины Гоаланды. Торговое движение этого города в течение фискального 1876—1877 г. простиралось до 80.000.000 франков. Более пятидесяти тысяч судов, не считая рыболовных, пристают ежегодно к молам гоаландского порта. На берегу устроены большие заводы для соления рыбы.
Бассейн реки Мегны, которая получает свои воды с горных цепей Манипура и с высот, продолжающихся от гор Гарро до гор Паткой, не имеет ни одного рынка, который мог бы сравниться с Сираджганджем и с Гоаландой по размерам торгового движения. Сильчар, военная станция, находящаяся в соседстве с барманскою границей, есть в то же время место довольно оживленного ярмарочного торга. Сайльгет, дома которого рассеяны среди деревьев, на берегах Сурмы,—тоже промышленный и торговый город, самый многолюдный в провинции Ассам; но, окруженный болотами, он имеет очень нездоровый климат, и потому европейские резиденты часто отправляются искать более чистого воздуха в Чера-Понджи и в сосновые леса, окружающие Шиллонг. Сайльгет, расположенный на возвышении, которое в период дождливого муссона бывает окружено со всех сторон водами, есть место отправления извести, которую каменоломни в горах Хасиа доставляют калькуттским строителям в неограниченных количествах. Что касается каменноугольных залежей в Чера-Понджи, то протяжение их не на столько значительно, чтобы их можно было разработывать с выгодой, хотя они дают топливо, едва уступающее, по качеству, хорошим сортам английского угля. Апельсины из Чера-Понджи и Сайльгета очень ценятся на калькуттском рынке: они слывут лучшими во всей Индии.
Многие важные города рассеяны по берегам изменчивых каналов в низменной области, заключающейся между Мегной и Джамуной: Джамальпур стоит на течении старой Брахмапутры, теперь почти покинутом; Майменсинх или Назирабад—главный административный пункт округа, откуда вывозится джут, лучший во всей Бенгалии; Кисоригандж привлекает на свои ярмарки иногородных купцов десятками тысяч,—марварцев, бенгальцев и барманцев. Но торговля и население сосредоточились, главным образом, в южной области края, в той местности, где сходятся могучия реки. В небольшом расстоянии к северу от слияния Мегны и Падмы, т.е. соединенных Ганга и Брахмапутры, находился г. Бикрампур, столица одного индусского царства, и там еще показывают место, где государь сжег себя, вместе со своими женами, при приближении магометан; многочисленные школы, посвященные изучению санскритского языка и древних писателей, существуют до сих пор в Бикрампуре, свидетельствуя о важном значении, которое прежде имел этот город, превратившийся теперь в простую деревню. В соседстве другое местечко, Фиринги-Базар, или «Рынок франков», напоминает первое поселение португальцев в стране, в 1663 году. Столица, следовавшая за Бикрампуром, Сонаргаон, близ которой некогда, говорят, существовал город Бенгалла, давший свое имя Бенгалии, теперь представляет кучку лачуг, затерянную среди пальмового леса; но Дакка, возвысившийся на степень царской резиденции в семнадцатом столетии, до сих пор еще большой город, хотя уже пришедший в сильный упадок; он занимал прежде пространство около 30 километров с севера на юг, и в джунгле еще видны там и сям руины его дворцов. В 1880 году он имел еще около двухсот тысяч жителей, а в 1891 г. уже только около 82.000, и даже в центральной части города можно встретить полуразвалившиеся дворцы и храмы. В семнадцатом столетии Дакка была заменена, как главный город Бенгалии, Муршидабадом, но она и после того сохранила свое важное промышленное значение. Англичане, французы, голландцы имели там конторы для покупки произведений местной промышленности—прекрасных шелковых материй, вышитых золотом и серебром, и в особенности легкой кисеи, которою надо было «обвернуться семь раз, чтобы покрыться». Введение манчестерских бумажных тканей разорило мануфактуры Дакки, но зато город приобрел большую важность как место покупки и вывоза земледельческих произведений. В двух его портах Нарайнгандже и Мадангандже, находящихся в 14 километрах южнее, на глубоком притоке Мегны, происходит огромное торговое движение. Торговля Дакки в фискальном 1876—1877 г. простиралась, по ценности, до 29.575.000 франков. В числе жителей этого города и теперь еще есть армяне, греки, португальцы и другие «феринги» (франки), более или менее смешанной крови, которые происходят от торговых людей, поселившихся здесь в прошлом столетии.
К востоку от реки Мегны, два самые многолюдные города области Типперах, Браманбариа и Кумиллах, имеют важное значение только по торговле местными произведениями. Ноахали или Судхарам, главный город округа, находится теперь в 16 километрах от моря, хотя он был основан на самом берегу моря и близ устьев Мегны, наносы которой постоянно выдвигаются все далее в Бенгальский залив, увеличивая полосу суши у берегов; на чарах, или новообразовавшихся аллювиальных островках, добывают соль. Кумиллах—одна из будущих станций железной дороги из Калькутты в Барманию. Агарталла, главный город подвластных англичанам племен области Типперах, есть не более, как деревня, где несколько сотен жителей сгруппировались вокруг казарм гарнизона.
Важнейшие города бассейна Брахмапутры:
Ассам: Сайльгет—16.850 жит.; Гаохати—11.500 жит.; Гоальпара—6.050 жит.; Сибсагар—5.275 жит.; Шиллонг—5.000 жит.
Коч-Бехар: Коч-Бехар—11.490 жит.
Бенгалия: Дакка—82.321 жит.; Сираджгандж—18.875 жит.; Рангпур—14.850 жит.; Джамальпур—14.300 жит.; Динаджпур—13.050 жит; Кумиллах—12.950 жит.; Браманбариа—12.350 жит.; Маникгандж—11.550 жит.; Нарайнгандж—10.900 жит.; Маймансинх или Назирабад—10.050 жит.