VIII. Бассейн Ганга
Дели, Северо-западные провинции, без Кумаона и Гарваля; Рампур, Ауд, Бехар, Нижняя Бенгалия по сю сторону Брахмапутры.
Продолговатая равнина, которая тянется вдоль подошвы Гималайских гор, от ворот Джамны и Ганга до аллювиальных земель Сандербана, обнимает пространство почти столь же значительное, как площадь Франции, но несравненно гуще населенное. В этой равнине скучено около ста миллионов жителей; если бы земля была везде равномерно населена в такой же пропорции, то совокупность континентальных областей могла бы прокормить более 25 миллиардов людей. А между тем, эта страна еще далеко не вся покрыта возделанными участками. Между реками и речками так называемые усары, обширные пространства земли, лежащие ниже уровня разливов и лишенные орошения, представляют те же пустыни, покрывающиеся рехом, соляным налетом, похожим издали на снег; в соседстве великой индийской реки, равнины, покинутые переместившимся течением, усеяны болотами, куда земледелец не решается проникнуть; наконец, в низменной области речных устьев значительная часть почвы состоит из полузатопленных земель, недостаточно крепких даже для того, чтобы сдержать хижины человека. Совокупность страны еще не приспособлена к нуждам и потребностям её обитателей, и не раз уже в течение нового периода истории недостаток оросительных каналов имел следствием страшные голодовки. Но зато ряд хороших урожаев ведет к быстрому увеличению народонаселения: бывало, что число жителей в Бенгальском президентстве (генерал-губернаторстве) возрастало почти на миллион душ ежегодно.
Равнины Ганга и Джамны:
| Пространство кв. килом. | Население душ | Среднее число жителей на 1 кв. килом. | |
| Дели | 14.490 | 1.916.420 | 160 |
| Ауд | 62.137 | 11.222.210 | 180 |
| Северо-западные провинции | 181.040 | 30.037.600 | 165 |
| Рампур | 2.447 | 507.010 | 208 |
| Бехар | 109.855 | 19.736.100 | 180 |
| Бенгалия, без Сингбума и округов по течению Брахмапутры | 191.189 | 26.681.950 | 140 |
| 561.159 | 90.101.290 | 161 | |
| Приблизительная цифра населения в 1882 г. | 100.000.000 | 178 | |
Ганг—или, точнее, Ганга—есть «Река» по преимуществу. У Гардварских ворот, где его воды вступают в равнину, на высоте 311 метров, Ганг является уже значительною рекой, образующеюся из слияния Алакнанды и Бхагирати, двух священных потоков, берущих свое начало в гималайском массиве, между вершинами которого первое место занимает гора Мойра, или Тарласагар, превосходящая другие вершины своим величественным видом, хотя и уступающая им размерами ледяного покрова. Небольшие суда могут подниматься по реке до самых ворот Гималая, несмотря на то, что более пяти шестых среднего количества протекающей воды изливается в судоходный и оросительный канал, разветвляющийся на множество ирригационных канав и канавок в области доаба, или междуречья. Этот отведенный из Ганга канал, который опять соединяется с тою же рекой у Канпура(Cawnpore), оросив на своем пути пространство слишком в 18.000 квадр. километров, есть, бесспорно, самое большое и самое важное из всех существующих сооружений этого рода; его главный ствол имеет 499 километров длины по прямой линии, и средний объем протекающей в его русле жидкой массы, у первых шлюзных ворот, составляет 230 кубических метров в секунду, следовательно, почти в четыре раза превосходит количество воды, несомое Муццой, ирригационным каналом долины реки По, который оплодотворяет в Европе наибольшее протяжение земель. Для одного только главного канала Ганга, не считая его разветвлений, нужно было переместить столько же земли, сколько и для Суэзского канала, именно более 70 миллионов кубич. метров. В городе Рурки, недалеко от Гардвара, находятся большие мастерские, главный шлюз, бассейны и колледж или институт инженеров, под руководством которых производились работы этого грандиозного сооружения.
По соединении с водами канала, затем с Джамной, Ганг ударяется, близ Чанара, о последние кручи песчаниковых холмов цепи Виндиа; но он тотчас же поворачивает от них на восток и следует в этом направлении до бреши, которую его течение, соединенное с течением Брахмапутры, пробила себе между горами Раджмагал и горами Гарро. Последние скалы речного ложа, гранитные глыбы, около которых кружатся стаи птиц, виднеются выше этой извилины, близ Кольгонга. Выше этого широкого отверстия, открывающагося между двумя горными цепями, Ганг получает все свои большие притоки,—с одной стороны те, которые ему посылают Гималайские горы, Гогру или Сарджу, Гандак, Багмати, Коси, с другой— Сону, которая спускается с массива Амаркантак, в цепи холмов Виндиа, долиной или низменностью, составляющей на северо-западе продолжение низменности, где проходит река Нарбада. Приток южной покатости совершенно отличается порядком изменений объема и уровня жидкой массы от рек противоположного склона. Тогда как эти последния всегда имеют значительное количество воды, происходящей или от таяния снегов, или от дождей, Сона бывает иногда, в сухое время года, почти совершенно без воды; но после ливней её течение нередко бывает так же сильно и многоводно, как и течение Ганга: масса протекающей воды в этой реке колеблется, смотря по времени года, от 49.000 до 17 кубич. метров в секунду. Во время мелководья простой ручеек медленно пробирается через пески; речное ложе, раздвигающееся в некоторых местах на несколько верст в ширину, занято дюнами, которые передвигаются с места на место, гонимые ветром, и чрезвычайно затрудняют путешественникам переход через Сону; обоз фур употребляет, средним числом, три часа, чтобы перебраться через речные пески. Построенный через эту реку железнодорожный мост, длиною в 1.279 метров, состоит из 28 пролетов, быки которых вбиты на 10 метров (14 аршин) глубины в дно ложа; употреблено было целых пятнадцать лет на сооружение этого моста, одного из монументальных произведений современной индустрии. Сона слишком неравномерна в своем ходе, слишком внезапна в своих разливах, чтобы можно было пользоваться ею, как водяным путем сообщения; она служит только для сплава бамбука; миллионы бамбуковых стволов посылаются каждый год этим путем из области плоскогорий в города Бегалии. Но если Сона бесполезна для перевозки товаров, то нельзя сказать того же относительно искусственного орошения, и нигде не было более необходимо регулировать речной сток, задерживая воды разлива, как запас для сухого времени года. Огромная поперечная плотина, или аникут, длиною около 3.800 метров (три с половиною версты), задерживает воды реки, при выходе её из области холмов, близ деревни Дери и отбрасывает значительную часть воды в два главные канала, которые идут вдоль каждого берега, затем разветвляются далеко по соседним равнинам; самый широкий из этих каналов, западный, получает, средним числом, 127 куб. метров воды в секунду.
Весьма вероятно, что в течение двадцати двух веков произошли большие перемены в гидрографии страны. Мегасфен, посланник Селевка Никатора, описывая Палиботру, говорит, что этот город стоит при слиянии Ганга и Эраннобоаса. Но все историки согласны между собою относительно того, что древняя Палиботра,—Паталипутра средневекового буддийского пилигрима Гиуэн-Цана,—есть нынешний город Патна, а со времени Равеншау большинство археологов признает Эраннобоас, «третью реку Индии по обилию вод», не в могучем Гандаке, который впадает в Ганг против Патны, но в Гираниабахе, «Желтой» или «Золотоносной» реке,—название Соны, которым она обязана пескам или золотым блесткам своего ложа. Но эта река в наше время уже не соединяется с Гангом под стенами Патны; вследствие постоянного размывания берегов по направлению к верховью, мыс, образуемый слиянием этих двух рек, непрерывно передвигался все далее к западу; в пятидесяти-пятилетний промежуток времени, с 1780 по 1835 год, отделяющий путешествие Реннеля от путешествия Фергюсона, этот мыс переместился почти на 5 километров; теперь он находится в 16 километрах выше города Патны. Бывшие рукава, изменчивые бухточки, представляющие непрерывное русло только в сезон дождей, позволяют распознать еще следы потока, соединявшагося с водами Ганга ниже этого города.
Не менее важные перемены совершились во времена исторического периода в течении самого Ганга. Каждая из нынешних его извилин пересекает направление, которое первые географические карты давали прежним его изгибам; блуждая в своей широкой равнине, Ганг постоянно перемещает свое течение, подтачивая и увеличивая попеременно то один, то другой берег. Так, в половине прошлого столетия эта река, обходившая на востоке массив Раджмагальских холмов, проходила на большом расстоянии от их скал, извиваясь далеко по гладким равнинам. В 1788 году она подступила к этим холмам, и не только подточила их основание, но даже проложила себе дорогу через каменистую массу, и островки и подводные скалы, еще недавно находившиеся у правого берега, очутились около левого берега. Десять лет спустя, всякие следы этих рифов исчезли, но на месте, где прежде проходило главное течение, образовался остров, длиною в 13 километров и шириною слишком в 3 километра, поднимавшийся над уровнем воды даже во время самых высоких разливов. Этим перемещением течения Ганга и постоянным подтачиванием и размыванием холмов в соседстве Раджмагала, бывшей столицы Бенгалии, и объясняется упадок городов Пандуаха и Гаура (иначе называемого Лакнаути или Джанатабадом), покинутых удалившеюся рекой во внутренности земель. В начале настоящего столетия не было уже ни одного пункта в черте городской ограды Гаура, который не отстоял бы, по меньшей мере, на 7 километров от берега Ганга, а в некоторых местах могучая река протекала уже на расстоянии 20 километров от развалин этого обширного города. Деревни, сменившие Гаур, могут сообщаться с Гангом уже не иначе, как через его приток, речку Маганадди, или через ручей, делающийся судоходным в дождливое время года; джунгли и болота занимают теперь большую часть пространства, около 50 квадр. километров, где еще видны следы могущественного города; кое-какие отрывки стен, кое-где порталы мечетей—вот все, что осталось от зданий; ураганы и, быть может, всего более каменщики, воздвигавшие города Мальдах и Муршидабад, разрушили строения Гаура. Подобные же перемены в местной географии произошли во всей аллювиальной области Ганга и его притоков: везде речные русла странствовали по равнинам, увлекая за собою толпу прибрежных жителей и заставляя их беспрестанно перестраивать и переносить с места на место свои города.
Бифуркация верхних ветвей дельты находилась некогда у Гаура; у подножия этого второго Мемфиса разделялись рукава индийского Нила. Но совокупность всей дельты постепенно переместилась к югу; по мере того, как отлагавшиеся речные наносы выдвигались все далее в море, и течение Ганга удлинялось вместе с приращением дельты в этом направлении, земли выше лежащих аллювиальных равнин укреплялись, и река удерживалась там в русле более определенном, не разливаясь в ту и другую сторону в виде боковых ветвей или рукавов. В настоящее время вершина или голова дельты находится уже в 28 километрах к югу от руин Гаура, в 350 километрах от моря по прямой линии, в 480 километрах, если считать все извилины течения; пространство, охватываемое крайними разветвлениями Ганга и Брахмапутры, составляет свыше 80.000 квадр. километров. Главный рукав, меняющий имя Ганга на более поэтическое название Падма или Падда, «Цветок Лотоса», извивается в юго-западном направлении, идя на встречу Джамуне, которая есть истинная Брахмапутра; второстепенный же рукав Ганга сохраняет имя Бхагирати, как священный исток Ганга, и, действительно, в этом русле, теперь съузившемся, проходит наиболее чтимый индусами поток. Без всякого сомнения, Бхагирати, ныне запертая даже для барок впродолжении большей части года и, вероятно, близкая к тому, чтобы обратиться в «мертвый рукав», была прежде истинным Гангом; разрыв глинистых земель, там и сям смешанных с кункурами, или известковыми сростками, которые ограничивали течение великой реки, позволил Падме изливаться к востоку, чтобы идти на соединение с Брахмапутрой, некогда обособленной от Ганга; таков, вероятно, смысл легенды о духе, который, будто бы, поглотил в этом месте воды священной реки. Продолжая спускаться к югу, извиваясь излучинами, которые образуют почти полные овалы, Бхагирати соединяется с притоками Джеллинги и Чурни (Мата-бханга), посылаемыми ей главным рукавом Ганга, и принимает тогда другое имя, Хугли, которое носит уже до самого моря. На востоке, вся область, простирающаяся до Брахмапутры, перерезана реками и речками, смешивающими одна с другою свои воды, теряющими и снова принимающими свои названия; каждое наводнение видоизменяет географию и номенклатуру этой территории. На западе также видны следы старых русл Ганга: лиман Рупнараяны еще доныне обозначается прибрежными жителями как устье священной реки.
Самый Хугли сильно изменился с той эпохи, когда европейские коммерсанты впервые основали торговые конторы на его берегах, и многие города, некогда важные гавани, состоявшие в прямых сношениях с портами Атлантического океана, видят теперь только барки, бросающие якорь перед их опустелыми набережными. Но если англичане допустили до обмеления фарватеры Сатгаона, Хугли, Чинсураха, Чандернагора, Серампура, факторий, которые принадлежали или еще принадлежат другим державам, а не Великобритании, то они тем энергичнее сосредоточили все свои заботы на той части Хугли, которая составляет вход в их большой порт—Калькутту; тут они не отступали ни перед какими расходами, чтобы поддержать и углубить проходы фарватера, укрепить высокие берега, воспрепятствовать перемещению песчаных мелей, обозначить вехами или бакенами опасные места, и благодаря, так сказать, дисциплине, которой они сумели подчинить приливы и отливы моря, им действительно удалось превратить в дорогу, относительно удобную, водяной путь, бывший прежде одним из самых опасных речных путей. Проникающий в устье морской прилив, волна которого, поднимающаяся на 2 метра (почти сажень) над уровнем реки, катится вверх по течению с быстротою 8 метров в секунду, составляет еще не малую опасность для мелких судов, но корабли, имеющие около 8 метров водоуглубления, безопасно плавают теперь с пассажирами и товарами перед лиманами Дамуды и Рупнараяны, пески которых в былое время поглощали такое множество судов. Как только судно коснется мели, течение. кружащееся в этом месте на подобие водоворота, вздымает со дна песок вокруг киля, который постепенно вязнет все глубже и глубже, как бы всасываемый илом, иногда случалось, что в какие-нибудь полчаса времени трехмачтовые суда погружались таким образом по самые реи.
Если Хугли сделался Гангом, с точки зрения торговых сношений, если даже исторически он должен быть рассматриваем как продолжение священной реки, то истинным устьем Ганга, по массе вод, следует признать рукав Мегну, который уносит также воды Брахмапутры и который течет с северо-запада на юго-восток, в том же направлении, как и Падма. Мегна, которая, впрочем, и сама разветвляется на несколько рукавов вокруг островов своего лимана, раздвинувшагося на сотню километров в ширину, мог бы с большим правом, чем все другие потоки дельты, сообщить свое имя обшей гидрографической системе Ганга и Брахмапутры. Через этот канал катятся могучия, стремительные воды двух соединенных больших рек, смывая попадающиеся на пути острова, образуя в другом месте новые земли на своей поверхности, пробивая себе протоки к морю, засыпая илом и песком старые проходы. Через Мегну же воды моря проникают наидалее внутрь материка; тогда как в рукаве Хугли приливная волна останавливается перед городом того же имени, она распространяется через Мегну и Падму далеко за дельту, поднимаясь до города Раджмагала и даже до впадения притока Гогры; в устье разность уровня между приливом и отливом составляет около 4 метров. Явление борьбы морского прилива с речным течением (известное у индусов под названием бора), очень внушительное в Хугли, еще гораздо более величественно в Мегне; иногда, говорят, громадная волна, высотою в 6 метров (почти 3 сажени), катится вверх по реке со скоростью 25 километров в час. Удар этой быстро несущейся огромной водяной стены о берег слышен на расстоянии многих верст кругом; вероятно, этому страшному треску и должна быть приписана местная легенда о «Барисальской пушке», пальба которой, будто бы, доносится вечерним ветром до прибрежных жителей Мегны: гром канонады, слышимый со стороны этого города (Барисаля), есть не что иное, как шум волн, низвергающихся на берега. Редко случается, чтобы во время муссона суда отваживались пускаться ночью на воды лимана.
Большие морские животные, как, например, сапуны (дельфины), поднимаются далеко по Мегне, за сотни верст от океана. Но Ганг, так же, как Инд и Брахмапутра, имеет уже один собственный вид, которому приписывают океаническое происхождение: это пресноводный дельфин, называемый платаниста; он играет около плывущих судов на всем течении реки вплоть до Гардварских ворот. Каким образом это китообразное животное могло постепенно приспособиться к пресным водам, в которых оно родится и живет в наши дни? Как перешло оно через порог, разделяющий ныне бассейн Ганга и бассейн Инда? Это важные вопросы естественной истории, которые ученые пытаются объяснить гипотезами о существовании древнего залива Аравийского моря, который врезывался в материк на северо-восток, по направлению к Гималайским горам, и который, будто бы, превратился постепенно в лиманы, затем в речные равнины. Впрочем, как известно, порог, разделяющий два бассейна Инда и Ганга, находится на незначительной высоте, всего только на высоте 281 метра, и часто реки, спускающиеся с гор к этому водораздельному горбу, меняли свое течение, направляя свои воды то в один, то в другой речной бассейн. Другое замечательное явление гангесской фауны это изолирование породы крокодила, называемой crocodilus bombifrons, которая встречается только в дунах выше ворот Гималая, тогда как другая порода, гавиал, живет в низовьях реки.
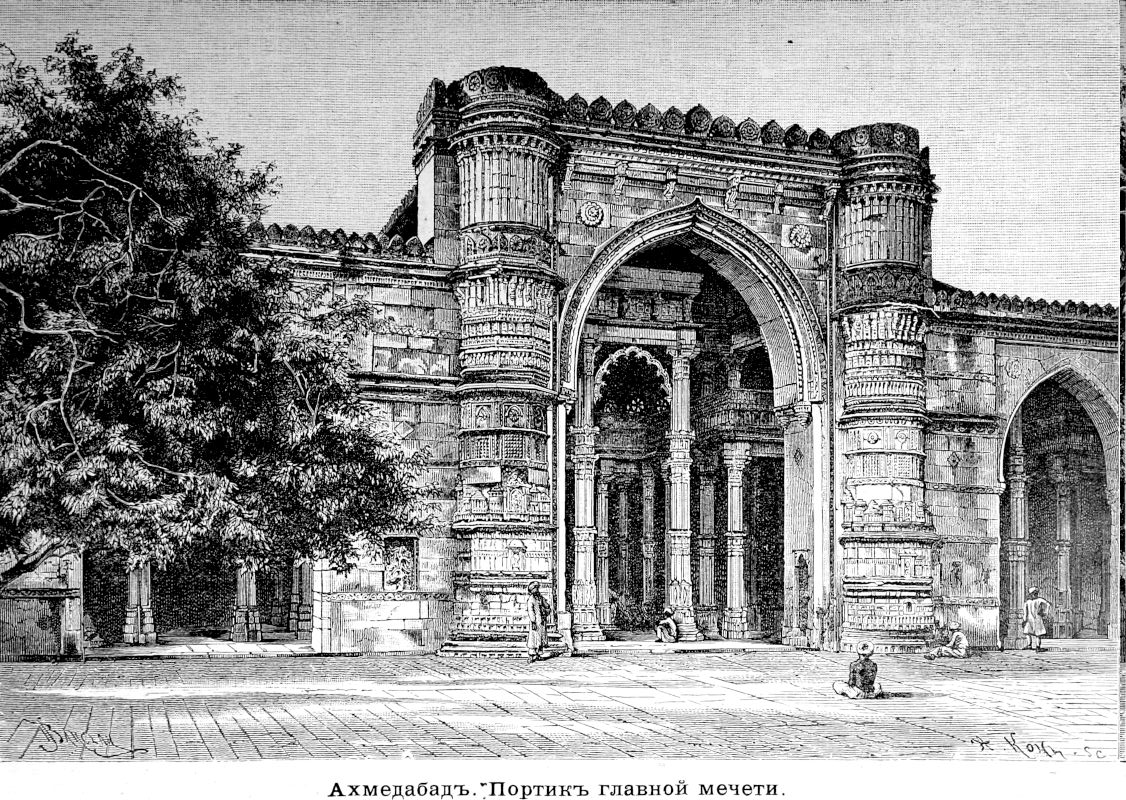
Средняя масса воды в Ганге, без сомнения, уменьшилась с половины настоящего столетия, так как ирригационные каналы, проведенные по прибрежным местностям, возвращают ему лишь незначительную часть заимствуемых ими вод; но как ни велика убыль течения, зависящая от искусственного орошения, Ганг, тем не менее, есть одна из многоводных рек земного шара, хотя он далеко уступает, по обилию жидкой массы, таким могучим потокам, как река Амазонок или Конго: в период наибольшей высоты разлива он катит, у подошвы Раджмагальских холмов, слишком 50.000 кубич. метров воды в секунду. Правда, что во время самых сильных засух дебит его, говорят, сокращался иногда до 607 кубич. метров: эта поразительная разность между максимумом и минимумом объясняется периодическим изменением направления муссонов; среднее количество несомой воды исчисляется в 12.000 до 15.000 кубич. метров в секунду, что представляет никак не более половины атмосферных осадков, падающих в области бассейна впродолжении года. Во время наводнений река почти везде выходит из берегов и разливается далеко по равнинам на большое расстояние от главного русла. Вместо того, чтобы насиловать природу, прибрежные жители Ганга предпочли приспособить условия своего существования к её законам и явлениям: за исключением больших городов и их ближайших окрестностей, они нигде не оцепили своей реки дорого стоющими береговыми плотинами, которые нужно повышать с каждым десятилетием, по мере того, как поднимается дно ложа, засариваемое отлагающимися наносами, и которые часто приходится ремонтировать, укреплять контр-плотинами или даже совершенно переделывать и возводить за-ново, когда исключительные по высоте разливы ниспровергнут все эти оградительные сооружения. Незащищаемые стеной плотин, как прибрежные обитатели Желтой реки, По, Луары, Миссисипи, бенгальские земледельцы не могут, понятно, запахивать свои поля в виду отдаленного урожая; они завели у себя два рода посевов: одни—для периода мелководья, другие—для времени, непосредственно следующего за периодом наводнения, когда почва еще покрыта влажным плодотворным илом. Взамен того, они не знают громадной опасности внезапного прорыва плотин, им не угрожают страшные катастрофы потопа, земля их избавляется от белых муравьев, которые опустошают ее и беспрестанно обновляют её плодородие. Что касается городов и селений, для которых невозможно было воспользоваться естественными пригорками или возвышенностями, то для них построили искусственные террасы, поднимающиеся выше уровня разливов, который у Бенареса достигает 13 или 14 метров и затем постепенно уменьшается вниз по реке; таким образом группы жилищ временно превращаются в островки. К сожалению, эти земляные работы производятся без разумного плана; чтобы иметь материал для воздвигаемой насыпи, роют землю тут же на месте и таким образом выкапывают огромные ямы, которые наполняются водой и где гниют всякого рода органические остатки, распространяя далеко зловоние; проходят длинные годы, прежде чем аллювиальная грязь заполнит до верха эти вредные для здоровья лужи.
Твердые вещества, разного рада каменные обломки и землистые частицы, ил и песок, которые содержат в себе воды Ганга,—в пропорции тем более значительной, чем быстрее течение,—не все уносятся в открытое море: большая часть этих наносов отлагается на низменных берегах и на чарах, или «teys» Сандербана. Поэтому, совершенно естественно, что там то и дело образуются новые острова в море и появляются несуществовавшие прежде песчаные мели у берегов; морские карты приходится переделывать при каждом новом исследовании поморья, и направления, которыми следуют лоцманы при проводе судов, беспрестанно изменяются. На востоке, при устьях Мегны, пояс земель быстро увеличивается на счет водной площади Джиттагонгского залива; но на западе, где, впрочем, линия берегов гораздо более выдвинута за черту первоначального прибрежья, не заметно, чтобы в новые времена дельта получила приращение. Во время ураганов море разрушает часть вновь образовавшихся земель и уносит далеко их обломки; кроме того, общее движение почвы, как кажется, понижает мало-по-малу плоскость средней дельты; так же, как низменные земли Амазонки, По и многих других больших рек, равнины, прилегающие к низовью Ганга. находятся в области оседания. Ни в какой части гангесской дельты до сих пор не открыли под поверхностным слоем речных наносов ни малейшего следа морских образований, которые непременно должны бы были находиться там, если бы море занимало в недавнюю эпоху пространства, где в наши дни простираются равнины Нижней Бенгалии. В Калькутте, при бурении почвы, доведенном до глубины 147 метров, были извлечены на свет божий единственно растительные остатки твердой земли, торф, речные раковины, пласты, отложенные пресными водами: буровой снаряд прошел даже через слой кристаллического гравия, который, вероятно, был принесен или с Раджмагальских холмов, или с массивов высот, которые существовали тогда в области дельты, но впоследствии исчезли, подточенные и размытые водами. Из этого следует, что в течение современного геологического периода дельта Ганга всегда была выступающею над поверхностью воды землей; самые новые морские формации, найденные на севере, у основания гор Гарро, принадлежат векам третичной эпохи. Но почва Калькутты, хотя лежащая выше уровня вод с такого давнего времени, не переставала понижаться, так как древние слои растительности следуют там один за другим в глубинах земли гораздо ниже нынешнего уровня моря. Это явление оседания почвы,—тем более замечательное, что с обеих сторон Бенгальского залива, на западе—на берегах Ориссы, на востоке—на Арраканском побережье, констатировано вертикальное движение суши в обратном направлении,—продолжается, вероятно, и далее на юг от дельты, к центральной впадине залива. Быть может, громадная воронка, известная у английских моряков под названием «бездонной пучины» (swatch of no ground), есть центр провала в этой оседающей области. Это—морская пропасть, открывающаяся в 130 километрах к юго-востоку от устья Хугли, но в непосредственной близости к мелям, залегающим у входа в Матлаху и в соседние лиманы. Окружающие ее воды залива имеют всего только от 40 до 75 метров глубины, тогда как во внутренности впадины бросают лот на 400, даже на 500 метров, не находя дна: это словно неизмеримый кратер громадного вулкана. Подводные берега «бездонной пучины» до такой степени обрывисты, что моряки всегда могут, по наклону ложа, определить с точностью место, где они находятся в данную минуту. По мнению Фергюсона, существование этой воронки должно быть приписано единственно круговращательному движению воды, происходящему от столкновения прилива и зыби, которые встречаются в северной оконечности залива.
Южная область дельты представляет неопределенную землю, нечто среднее между сушей и морем; она принадлежит к материку—по растительности, покрывающей ее, к океану—по обилию воды, которая проникает на нее во всех направлениях и даже заливает ее всю сплошь во время периодически повторяющихся больших приливов (совпадающих с новолунием и полнолунием) и во время бурь. Совокупность этой страны известна под общим именем Сандербан (Сундербан, Сундербанд), которое этимологи объясняют на разные лады: по их толкованию, это слово значит то же, что Синдурбан или «Красный лес», Судербан или «Величественный лес», Шандабанда или «Земля солепромышленников», Сундербанд или «Хорошая плотина», или, наконец, «Лес сундрий»,—местное название дерева (heritiera littoralis), самого обыкновенного в этих полузатопленных местностях; полагают, что Калькуттская река, Хугли, тоже обязана своим наименованием одному сандарбандскому растению, которое называется хугля (typha elephantica). Пространство этой нейтральной области между землей и морем составляет около 20.000 квадр. километров; с запада на восток Сандербан протянулся слишком на 200 километров. Необъятный лабиринт, перерезанный между островами и островками четырнадцатью большими реками и сотнями второстепенных рукавов и потоков, разветвляющихся до бесконечности, доступен только лодочнику, скользящему среди камышей или под сводами густой листвы, в своей барке, построенной из красного дерева сундри. Многочисленные острова Сандербана, хорошо защищенные песчаными дюнами, которые образуются от действия ветров муссона, покрыты густыми лесами, составляющими исключительную собственность казны, которая заботливо поддерживает в них правильное лесное хозяйство; на других островах вся растительность состоит из низкорослых пальм (phoenix paludosa) или из маленького кустарника, служащего убежищем диким зверям. Находимые там и сям развалины доказывают, что Сандербан не был необитаемою пустыней до прибытия европейцев в страну, и что там существовали даже большие города; первые португальские писатели все единогласно говорят, что земли Сандербана были густо населены в их время; но граница между областью возделанных пространств и необитаемым поясом прибрежья, кажется, сохранилась почти без перемены в течение веков. В последние сто лет завоевания земледельцев в области этих девственных, нетронутых земель довольно значительны, особенно в соседстве Мегны, где почва, вообще говоря, возвышеннее; в 1872 году поверхность территории, приобретенной для земледелия, в области Сандербана простиралась до 280.000 гектаров, но большая часть этих вновь распаханных полей подвержены наводнениям, и потому принуждены были окружить их плотинами. Часто морские приливы превращают всю область возделанных земель в бесчисленные островки, имеющие форму многоугольников. В этих-то изменчивых лиманах Сандербана, где встречаются две жидкия стихии, соленая вода моря и пресная вода рек, с их различными флорами и фаунами, и в болотистых низинах соседних равнин, называемых биль, джиль или джуллия, и зарождается «бенгальская лихорадка», или «лихорадка джунглей», одна из самых страшных болезней Индии, пристающая безразлично к людям всякой расы, как к туземцам, так и к иностранцам. В Калькутте эта лихорадка всего чаще выбирает себе жертвы между тем людом, который живет частью на реке: между лодочниками, матросами, носильщиками, таможенными досмотрщиками; охотники, отправляющиеся в джунгли, люди, работающие в низменных плантациях, тоже подвергаются большой опасности схватить лихорадку. Преимущественно в сентябре месяце, когда вода в болотах начинает убывать и оставляет обнаженными тинистые берега, случаи заболевания лихорадкой особенно опасны. Холера—тоже одна из эндемических болезней Нижней Бенгалии, и оттуда-то она и распространилась, в первой половине настоящего столетия, по остальному Индустану и во всем свете; вероятно, она существует с незапамятных времен на берегах нижнего Ганга, хотя на этот грозный бич, во время его внезапного появления в Западной Европе, смотрели как на новую болезнь. Чрезмерная сырость страны и гниение органических веществ, смешанных с водой, которая встречается везде уже на глубине нескольких сантиметров от поверхности,—вот причина, порождающая эту страшную эндемию Бенгалии.
Известно, что тысячи и даже миллионы трупов, которые в прежнее время течение Ганга выбрасывало на свои берега, много способствовали нездоровости атмосферы и распространяли заразу. С тех пор, как англичане сделались хозяевами страны, и их полиция стала вмешиваться в вопросы общественной гигиены и народного здравия, Ганг уже не уносит в своих волнах тела всех поклонников, которые обитали на его берегах; но как часто и теперь еще благочестие и сыновняя любовь ухитряются обходить предписания санитарного устава, обеспечивая умершим самое священное место вечного покоя! Как часто еще можно видеть ночью маленькия светящиеся точки, подобные блуждающим огонькам или светлякам, медленно движущиеся по течению священной реки! Этот мелькающий вдали огонек освещает доску, на которой положен труп; родные и друзья покойника толпятся на берегу, следя тоскливым взором за последним земным странствием оплакиваемого человека до тех пор, пока судно, песчаная мель, поворот реки или просто даль скрывают из глаз блестящую точку, которую взор так долго оспаривал у царствующего кругом мрака. Индусы видят более чем богиню в реке, которая орошает их поля и дает им урожаи, которая поит и кормит их: они видят в ней мать. По сказанию легенды, она согласилась сойти на землю только для того, чтобы омыть и очистить смертные остатки предков царя Бхагирати; но исток её остался на небесах, и в её чистых водах весело плещутся бессмертные небожители. Когда поток её излился с неба, бог, могучий богатырь Сива, головой и плечами которому служат вершины и скалы Гималая, один мог сдерживать на себе тяжесть великой реки, «ниспадающей с его чела, как жемчужное ожерелье, нить которого порвалась в небесной выси».
Нет места на берегах Ганга, которое не было бы священным, и самое имя реки, произнесенное с благоговением, будь то за сотни верст от её течения, достаточно, чтобы смыть грехи, содеянные впродолжении одного или даже нескольких предшествующих существований. Пилигримы наполняют божественною влагой маленькие пузырьки, которые затем укладывают в две корзины, украшенные павлиньими перьями и соединенные бамбуковою тростью; нагруженные этою ношей, на манер овернских носильщиков, они странствуют по всей Индии, продавая по дорогой цене священную воду. Таким образом, богатые индусы могут пользоваться неоценимою привилегией очищать себя святою водой; кроме того, во всех частях Полуострова народное суеверие указывает, как на подземные рукава Ганга, на ключи, бьющие из скалы. Но полная святость может быть приобретена лишь паломничеством на берега «матери Ганги», в особенности так называемой прадакшиной, которая состоит в хождении, впродолжении шести лет, по берегу Ганга, от истока к устью и от устья к истоку. На этом длинном пути местами священными по преимуществу, естественно, считаются те, которые указаны слияниями рек, уединенно высящимися скалами, крутыми поворотами течения, ущельями и теснинами; тут омовение в священных водах имеет всю свою очистительную силу. Пилигримы останавливаются в этих местах на более или менее продолжительный срок, купцы открывают торговлю, и города выстраиваются вокруг храмов.
После Янтсекианга, священный Ганг, по своему экономическому значению, есть, бесспорно, самая важная река во всем свете. Почва, которую обработывают сто миллионов жителей её бассейна, одна из самых плодородных и производит в изобилии сельско-хозяйственные продукты всякого рода; города их—богатые и промышленные; суда толпятся тысячами у подходов к рынкам. До недавнего времени могучая река и каналы её дельты были единственными торговыми путями в Бенгалии, и хотя железные дороги отняли теперь у Ганга значительную долю его торговли, тем не менее, эта река и до сих пор остается одною из самых оживленных и наиболее посещаемых судами в целом мире. Один только город Калькутта получает ежегодно с внутренних пристаней на сумму свыше 400 миллионов франков различных произведений и товаров, привозимых на судах; иной прибрежный городок видит ежедневно по несколько сот судов, проходящих перед его набережными; годовое движение грузов в портах гангесской дельты нужно исчислять миллионами тонн. Без сомнения, Ганг не может сравниться с Гудсоном, с Миссисипи, с Темзой по размерам пароходства, но нигде, разве только на реках Китая, не увидишь такого несметного множества мелких парусных и гребных судов.
На запад от нижнего Ганга самая важная река—Дамуда, очень опасная для прибрежных жителей, по причине её частых наводнений, но тем более почитаемая дикими населениями окружающих холмов. В один из своих разливов, в 1757 году, Дамуда, открыв себе новое русло к югу, направилась прямо к лиману Ганга; старое русло, которое соединяло ее с Хугли, в том месте, где этот рукав сохранил свой речной характер, совершенно покинуто с 1762 года. В области верховьев Дамуды и её притоков возвышаются единственные массивы высот Бенгалии в собственном смысле, которые продолжают, под разными именами, систему гор Виндиа, но отличаются от них геологическими формациями. Песчаники, которыми оканчиваются на востоке плоскогорья Багалканда, заменены здесь метаморфическими и каменноугольными горными породами; только несколько уединенных групп или даже простых каменных глыб свидетельствуют о древнем протяжении гряд цепи Виндиа. Выше большого изгиба Ганга, Раджмагальские горы состоят из базальтовых траппов, происхождения гораздо более нового, чем лавы Деканского нагорья; и в одном месте, в тридцати пяти километрах к юго-востоку от Кольгонга, показывают маленькие трахитовые и порфировые конусы, которые, вероятно, были ядром древних огнедышащих гор. Несмотря на очень близкое расстояние от самых многолюдных областей Индии, холмы, лежащие к западу от линии железной дороги из Бардвана в Патну, принадлежат к наименее известным местностям Полуострова и к таким местностям, где города и местечки чрезвычайно редки. Лютые звери, тигры и дикие слоны, сделали некоторые округа этой области почти необитаемыми; в прогалинах джунглей, окружающих гору Параснат, поселяне отправляются на полевые работы не иначе, как многочисленными партиями и с барабанным боем, чтобы не подвергнуться нападению свирепых обитателей лесной чащи. Однако, туземцы этих гористых местностей способствуют своею долей труда приращению богатств Бенгальского края; так, они приготовляют кашу или катеху, смолистый сок из индийской акации (acacia catechu), собирают белый растительный воск и снимают на ветвях некоторых деревьев красную камедь, выделяемую лаковым червецом (coccus lacca).
Почти все населения, живущие в равнинах Ганга и находящиеся между собою, благодаря легкости сообщения по речному пути, в постоянных торговых сношениях, могут быть причислены, взятые в целом, к цивилизованному человечеству, каково бы, впрочем, ни было различие их происхождений—арийского, дравидийского, коларийского, индокитайского. Однако, еще существует в гангесском бассейне некоторое число племен и каст, частью порабощенных, частью относительно независимых, которые сохранили свои отличительные расовые черты, не принимая внешних признаков цивилизации, индусской или магометанской. Между этими народцами есть такие, которых можно назвать дикарями или варварами; оттесненные чужеземными нашествиями, которые, в течение веков, следовали одно за другим в области равнин, эти племена удалились или в болотистые леса, которые тянутся длинною полосой вдоль подошвы Гималая, или в массивы холмов, которые Ганг огибает в своем нижнем течении. Некоторые другие племена, подобные европейским цыганам, избегают опасности своею бродячею жизнью, т.е. непрерывным бегством. Наты, канджары, бадиахи, базигары, как называют этих цыган гангесской Индии, устраивают себе временные селения, состоящие из групп деревянных шалашей, покрытых рогожами и древесною листвой; края дороги служат пастбищем их животным; сами они питаются разною дрянью, даже падалью, когда их тысяча ремесл—фокусников, престидижитаторов, показывателей медведей и обезьян, лошадиных барышников, гадальщиков—оказываются недостаточными для доставления им обилия благ земных. Подобно своим европейским братьям, они всегда умеют обеспечить свою безопасность, благоразумно держась в стороне от всякого движения политического или религиозного. Туземные государи не имеют подданных более верных, чем эти бродячие инородцы, религия которых всегда та же самая, что и господствующая вера страны: магометане по большей части, потому что властителями края были мусульмане до недавнего времени, они, кажется, не имеют в действительности другой религии, кроме погони за общим благоденствием племени.
В Ауде и далее к востоку, вдоль границ Непала, племена бхар, тару, приписывающие себе раджпутское происхождение, и другие народцы живут разбросанными группами, которые не имеют никакого сообщения с цивилизованными обитателями равнины и которые защищены своими болотами от всякого нападения. Но некоторые другие племена, которые не могли убежать от завоевателей, были обращены ими в тяжелое состояние рабов, или поставлены вне всякой касты, как отверженные парии. Так, например, кории и чамары, которым позволяют в городах заниматься некоторыми родами промышленности, ткацким и кожевенным ремеслом, остались крепостными в деревнях; они, по-прежнему, обработывают почву для своих господ, браманов или раджпутов, хотя законы оффициально провозгласили их свободу. На основании этих законов, они, конечно, имели бы право прибегнуть к защите судов; но какая им от этого была бы польза? Презираемые всеми, они не могли бы уйти из логовищ, которые они занимают, рядом с свиными хлевами, в отдельном квартале деревни, без того, чтобы их не прогнали отовсюду, как нечистых животных. Другой народец, пасии, тоже, как полагают, происходящий от прежних властителей края, занимает более высокое место между жителями Ауда; это племя на половину объиндианилось, и оно-то доставляет правительству наибольший контингент лиц, употребляемых для службы в качестве чинов сельской полиции. В Ауде один миллион людей причисляется к первобытному, коренному населению края.
Эти первобытные обитатели или аборигены еще более многочисленны в провинциях Бенгалии; там их насчитывают более трех миллионов, не включая в это число лиц, принадлежащих к низшим кастам, которые представляют собою древние расы страны, разнообразно смешавшиеся с индусскими завоевателями. Благодаря массивам холмов, окруженных джунглями и лесами, которые возвышаются на юг от Соны и Ганга, многие племена нашли себе безопасное убежище и удержались до наших дней, если несвободные, то, по крайней мере, уважаемые своими соседями. Так, малеры или пахарии, называемые англичанами Hillmen (жители холмов), которые населяют, в числе около 400.000 душ, возвышенные долины Раджмагальских гор и окружающих массивов, в южном направлении до Монгира, пользовались еще политическою независимостью в половине настоящего столетия, и англичане посылали против них в разное время несколько военных экспедиций, которые, однако, не имели успеха и должны были ограничиться обходом джунглей да выжиганием деревень. Но чего не могла сделать сила, то было достигнуто хитростью. Начальники колен пахариа, осыпанные подарками, сделались пенсионерами английского правительства, и отныне территория их отграничена точным образом: каменные межевые столбы, поставленные у выхода долин, указывают границы этого племени, и туземцы, которые спускаются со своих гор, являются уже не в качестве врагов, а в качестве мирных торговых людей. Впрочем, пахарии далеко не дикари. Они очень тщательно строют свои хижины из бамбуковых стволов и убирают их внутри резною мебелью, украшают подходы к ним; их сады и поля содержатся в большом порядке и обыкновенно дают хороший сбор плодов, достаточный не только для собственного пропитания, но и для поддержания маленькой отпускной торговли; хотя и торговые люди, пахарии, однако, отличаются безукоризненною честностью: «лучше умереть, чем обмануть»—гласит одна из их пословиц. Так же, как большинство племен Ассама и Индо-Китая, пахарии имеют в своих деревнях род общественного дома, где все молодые люди живут вместе. Перед жилищами и возле священных деревьев посажены высокие бамбуки, чтобы удалять злых духов, которые летают по ночам, пользуясь отсутствием Солнца, великого бога вселенной. Большинство антропологов видит в пахариях дравидийцев, родственных дравидийцам южной Индии; во всяком случае, они родственны им, по крайней мере, по языку, который имеет близкую связь с южными наречиями. Утверждают, но без доказательств, что пахарии быстро уменьшаются в числе, и что они исчезают мало-по-малу; но ошибки народной переписи, происходящия, главным образом, от перемены имени колен и их кланов, слишком часты, чтобы можно было допустить, как несомненный факт, вырождение племени.
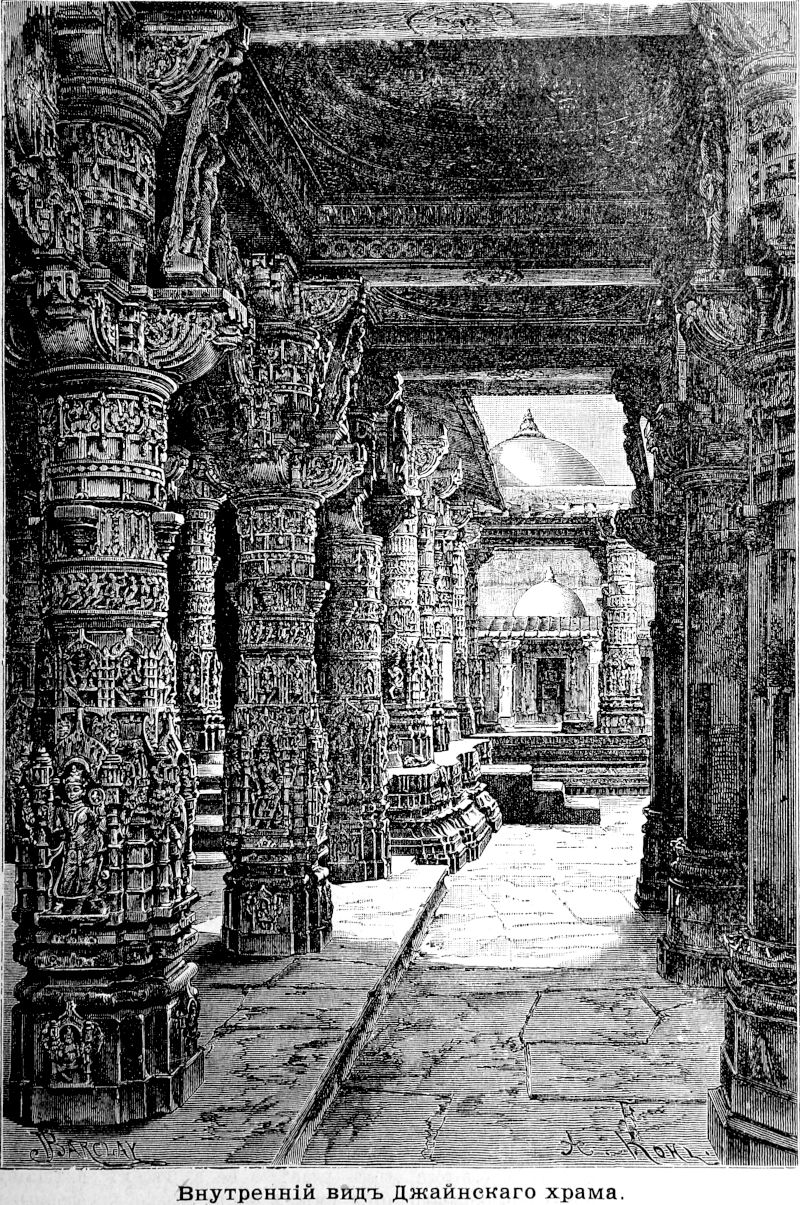
Санталы или сонталы, в числе, быть может, двух миллионов душ, живут тоже в Бенгалии и Бехаре и населяют преимущественно долины и первые скаты равнин у подошвы гор, занятых племенем пахариа; отсюда и произошло название Даман-и-Кох, или «Подгорье», которое дают части их территории, прилегающей к Раджмагальским холмам. Санталы по природе довольно склонны к кочевому образу жизни; хотя земледельцы, они, однако, любят менять место жительства; как только обработываемая ими почва начинает оскудевать, они отправляются искать в джунгле других, еще нетронутых сохой, земель, и поселяются на новом месте. Во многих округах, особенно в области Даман-и-Кох, где в 1790 году было всего только 3.000 представителей этого племени, а пятьдесят лет спустя их уже насчитывалось слишком 200.000 душ, наибольшая часть почвы уже распахана и занята под плантации, вследствие чего санталы поневоле сделались оседлыми, но чтобы быть в то же время рабами, прикрепленными к земле; ни одному населению Индии не приходилось больше страдать от порядка землевладения, введенного в крае монгольскими завоевателями и англичанами. Обремененные податями и налогами, собираемыми в пользу больших ленников, притесняемые на всевозможные лады агентами фиска и другими посредниками, разоряемые безбожными ростовщиками, санталы, по крайней мере большинство их, живущие в соседстве с индусскими селениями, скоро очутились в положении полного рабства; даже для прокормления себя с семьями, для покупки хлеба, им нужно было обращаться к ростовщику, закладывать вперед, под 33 процента в год, продукт своего собственного труда и труда своих детей. Тщетно обращались они к английским судам с просьбою возвратить им владение их землей и их свободой; их жалобы не были выслушаны. Тогда они решились спуститься массой к Калькутте, чтобы идти просить правосудия у вице-короля. 30-го июня 1855 года восточные санталы, те, которым приходилось всего больше страдать от ростовщиков и непомерных налогов, выступили в поход, с женами и детьми, предшествуемые своими герольдами, бившими в барабаны: один только авангард поднявшихся племен состоял из тридцати тысяч человек. Военная процессия, предшествуемая толпой индусских беглецов, спустилась довольно далеко в равнину, грабя на пути плантации ростовщиков и предавая пламени их дома. Правительство поспешно собрало войска и послало их против петиционеров. Это была не война, а гнусная резня, о которой ни один английский офицер не мог рассказывать без стыда. Санталы, торжественно заявляя, что они не питают никакой вражды к англичанам, а только к закабалившим их ростовщикам, приняли, тем не менее, битву; но что могли поделать их стрелы против меткого огнестрельного оружия сипаев? Все время, пока раздавался бой их барабана, они давали убивать себя, не прося пощады; во многих деревнях не оставалось больше ни одного человека на ногах, когда туда проникли войска компании. После чудовищного побоища, англичане надумались, наконец, разобрать жалобы санталов и дать им некоторое удовлетворение. Земли были возвращены тем, которые их возделывали, некоторые договоры, заключенные с ростовщиками, были разорваны, и рабство или крепостное состояние, которое до того времени было терпимо английскими судьями, торжественно отменено, но чтобы быть потом, слишком часто, восстановляемым под другою формой. Железная дорога, проникая в страну санталов, где народонаселение достигло чрезмерной густоты, вследствие постоянного перевеса числа рождений над числом умирающих, призывала работников десятками тысяч; чайные плантаторы Ассама подряжали рабочих для своих плантаций: даже с островов Св. Маврикия и Соединения крупные землевладельцы делали желающим наняться к ним самые заманчивые обещания, которые почти всегда должны были, в конце концов, привести навербованных таким образом рабочих к состоянию настоящего невольничества. Очень склонные в перемене места, санталы охотно эмигрируют; тысячи мужчин ежегодно спускаются в равнину, чтобы наниматься в работники, впродолжении одного сезона или впродолжении целых годов; другие соглашаются даже покинуть отечество и отправиться на заработки в чужие края, но очень немногие из них возвращаются в свою родную деревушку.
Национальный тип этого племени—один из самых замечательных между типами народностей, населяющих Индию. Санталы не имеют такой тонкости черт, как бенгальцы, но они превосходят их силой и, сверх того, отличаются красотой, которую обыкновенно придают человеку прямодушие и мужество; вообще, лицо у них широкое, скулы выдающиеся, губы немного толстые, лоб плоский, голова круглая; наружность их свидетельствует о телесной силе и здоровье. Живые, проворные, всегда веселые, очень добродушные, они, к сожалению, привыкли относиться недоверчиво к иностранцам или иноплеменникам, и прибытие индуса в их край пугает их «больше, чем присутствие леопарда или тигра»; однако, они всегда хорошо принимают путешественника, и перед каждым домом находится почетное сиденье, называемое «скамьей странника», куда прохожие, каковы бы ни были их раса, цвет кожи, религия, приглашаются присесть и воспользоваться семейным гостеприимством. Не имея ремесленников своей расы, они принуждены были пригласить к себе кузнецов, ткачей и других мастеров чужого племени, но они обращаются с этими переселенцами как с людьми своих собственных колен и кланов, допускают их, посредством брака, в свои семейства, и мало-по-малу эти пришельцы индусы приобретают полную натурализацию. Из двенадцати племен или колен санталов семь сохранились почти в первобытной чистоте, без всяких кастовых предразсудков; но народцы, живущие в соседстве равнин, уже на половину индианизировались и мало-по-малу, усвоивая себе нравы и обычаи бенгальцев, утрачивают свое достоинство свободной нации, чтобы снизойти на степень полукаст, образовавшихся из помесей, которые находятся в презрении у чистокровных индусов. Язык, которым говорят санталы, принадлежит к коларийской группе, которая отличается своими агглютинативными формами. Из всех идиомов этого семейства, сантальский—самый развитый; он, повидимому, заимствовал много корней у санскрита, но, взамен того, и сам дал ему много своих, и полагают даже, что именно из сантальского диалекта «божественное письмо» взяло некоторые из своих согласных букв. Однако, сантальское наречие не имеет литературы, ни даже собственной, вполне ему принадлежащей, азбуки; несколько книг духовного содержания, написанных миссионерами, да переводы Библии составляют до сих пор все литературное достояние этих туземцев; в школах они учатся языку своих ненавистных угнетателей, бенгальцев.
Семейный союз очень крепко организован у санталов. Браки не решаются заранее родителями, как у индусов; молодые люди свободно делают свой выбор, но всегда в другом клане, а не в своем; вмешательство отца имеет место только для формы, чтобы исполнить правила, установленные обычаем относительно вступления чужой женщины в среду племени. Многоженство не запрещено, но редко случается, чтобы сантал воспользовался этим правом; национальные правы позволяют ему это лишь в том случае, если первая супруга бесплодна. Разводы у них редки. Уважение, которое санталы оказывают женщинам, обнаруживается особенно их привычкой к щегольству и опрятности; мужчины любят наряжаться и украшают себя цветами, перьями, кисточками из какой-нибудь материи или из конского волоса; они обвешивают своих жен и дочерей разными металлическими украшениями, самые бедные— железными, те, кто посостоятельнее, кто успел сделать кое-какие сбережения,—медными или даже серебряными. Дома, стоящие отдельно один от другого по обе стороны «пути семейств» и раскрашенные чередующимися полосами красного, черного и белого цветов, содержатся очень опрятно; скотный двор и птичник всегда помещаются в стороне. Каждая семья имеет свой особенный культ, обряды которого совершаются сообща, под управлением главы семейства; на смертном одре отец открывает старшему сыну имя своего бога и тайные слова, которыми он взывал к нему, затем, умирая, он сам переходит в сонм божеств со всеми предками их рода. Последний и священнейший долг, который старший сын или ближайший родственник обязан отдать усопшему, состоит в том, чтобы, по предании тела сожжению, отнести три куска черепа на берег Дамуды, священной реки, и погрузить эти смертные останки в святую воду, дабы они присоединились там к костям предков. Когда сантала пожрет лютый зверь, то ближайший родственник погибшего, лишая себя пищи и сна, ходит по следам животного до тех пор, пока ему не удастся отыскать какой-нибудь остаток жертвы, который он тотчас же и относит в воды святой реки.
Племенной патриотизм так же сильно развит у санталов, как и семейный дух. Вступление молодого человека в клан обставлено специальными церемониями, и старики объясняют ему его обязанности в отношении общины. Проступки против чести, преступления влекут за собою исключение из клана, т.е. гражданскую смерть; в обыкновенных случаях виновный может выкупить свое право гражданства, но в случаях важных ему не остается ничего более, как взять свой лук и стрелы и бежать в джунгль, откуда он уже никогда не возвращается. Временное лишение прав и исключение из общины—вот два единственные средства управления для сантальских племен; английские администраторы поняли, что вся их полиция, проникая в эти племена, повела только к внесению путаницы в понятие о праве у туземцев и к ослаблению влияния «отцов» и представителей, которых санталы сами избирали из своей среды. Миссионеры, католические и протестантские разных сект, поселившиеся в сантальской земле, имели в своих попытках обращения в христианство больше успеха, чем их собраты в индусской стране, но главная масса нации по-прежнему остается очень привязанною к своему древнему культу. Несколько раз в году поселяне собираются под тенью шореи (shorea robusta), национального дерева по преимуществу, чтобы плясать хороводом и петь гимны в честь своих предков, которые, по их верованию, смотрят на эти поминки с высоты ветвей; они приносят им в жертву петухов, коз или также красные цветы или плоды, которые своим цветом дают предкам иллюзию крови. Такия же жертвы они приносят солнцу и «Великой Горе», божеству, которое часто смешивается с Сивой, богом снеговых гор, и культ которого, быть может, указывает на древнее пребывание нации в какой-нибудь возвышенной долине Гималая. Санталы чтут также слона, как покровителя их племен, и матери любят класть своих детей у ног этого великана животного царства, прося его благословить их. Племена коль и хонд обыкновенно величают слона «бабушкой».
Ораоны или дангары, т.е. «горцы», другое туземное племя округов Чота-Нагпор, по расе и языку принадлежат к дравидийской семье, как и пахарии, и говорят о себе, что пришли вместе с ними из Западной Индии; сами себя они называют хуруками. Между ними-то набираются, главным образом, рабочие, употребляемые в публичных работах Бенгалии, и кулии, нанимаемые плантаторами отдаленных колоний. Ораоны, общее число которых определяют, приблизительно, в 600.000 душ и которые делятся на множество кланов, имеющих каждый свой особенный тотем, или символическое животное, называют себя «трудовым племенем», и им доставляет удовольствие дать доказательство своей силы и сметливости в работах, которые им поручают; очень простодушные, они забавляются всякою безделицей, весело пляшут и смеются до упаду, чтобы отдохнуть от трудов: возвращаясь с поля, все с венками на голове, они держат друг друга за талию и покачиваются с боку набок, распевая песни, чтобы идти мерным шагом. По большей части дангары составляют резкий контраст с индусами своею некрасивою наружностью: цвет кожи у них черный, нижняя челюсть выдалась вперед, губа толстая, лоб низкий и узкий, волоса длинные и слегка курчавые, часто напомаженные коровьим калом, и вдобавок самый род их занятий обрекает их на нечистоплотность; тем не менее, однако, они очень любят украшения и татуируют себе различные части тела. Почти везде жилищем служат им простые землянки; главное здание деревни—дум-хариа, или «мальчишник», в котором молодые парни упражняются во всех играх, требующих силы или ловкости. Многие обычаи ораонов приближают их к санталам; подобно этим последним, они поклоняются солнцу, духам, предкам, предают, в жертву им, закланию мелких животных и приносят им разные дары; так же, как и санталы, они позволяют своим детям вступать в брак по собственному выбору, но только не с односельчанами, и предоставляют женщине большую долю влияния. Когда две молодые девушки заключают между собою вечный сестринский союз, они обмениваются ожерельями, в присутствии свидетелей, и до конца своих дней называют одна другую не иначе, как «мой цветок» или «моя улыбка».
Некоторые другие племена обитают на плоскогорьях, лежащих к западу от дельты Ганга; таковы мунданы, которые близко подходят к орисскому племени коль, и карвары, родичи санталов, бродящие в лесах, на юге от реки Соны, и частью живущие дикими плодами и корнями, которые они оспаривают у обезьян: но большинство первобытных народцев (аборигенов) на-половину объиндианилось или даже отличается от индусов только более низким социальным положением, которое им присвоено в иерархии каст. Чандалы, самая презренная индусская каста, заключающая в своих рядах слишком полтора миллиона лиц, очевидно, происходит от тех древних владетелей страны, которых арийские завоеватели называли с презрением дасиасами,—именем, которое теперь сделалось, в немного измененной форме, одним из самых обыкновенных в Бенгалии фамильных названий. Раджбанси или пали, которые говорят наречием, близко подходящим к бенгальскому языку, мальда, коч и другие касты земледельцев, еще более многочисленные в бассейне Брахмапутры, чем в бассейне Ганга, тоже принадлежат к туземной расе и, вероятно, имеют родственную связь с барманскою группой; точно также хлебопашцы буя, рыбаки багди, носильщики паланкинов бари, кожевники мучи суть представители древних коренных населений или аборигенов. Им приписывают многие религиозные обычаи, чуждые арийцам, и между прочим, те человеческие жертвоприношения, вывести которые стоило такого труда английской полиции. Кровавый культ Сивы и Кали требовал отборных жертв, и до 1866 года в честь их были приносимы в жертву молодые люди, в Джессоре, в Дакке и в лесах области Чота-Нагпор. На берегах рек предание еще указывает места, где жрецы проливали человеческую кровь. Теперь, кажется, уже не бывает таких ужасов в Бенгалии, но сколько еще сохранилось религиозных обрядов не-арийского происхождения, которым браманы еще обязаны подчиняться, или заклиная злых духов, скрывающихся в лесах, или принося пригоршни земли в дар полевым божествам! Под новыми названиями продолжают существовать все те же старые культы и верования.
Индусский элемент, чисто арийского происхождения, как кажется, всего сильнее представлен, по численности, в Аудской провинции. Браманы, люди свободных профессий, промышленники или земледельцы, составляют там, по меньшей мере, восьмую часть населения; раджпуты и представители воинственных каст, присвоивающие себе название кшатриев, владеют там большею частью больших поместий, где они чествуют своих гостей англичан с пышностью по истине царскою; каясты, «умные, хитрые и фальшивые, как византийцы восточной Римской империи», сделались, «писателями» по преимуществу, и действуя за-одно с вайсиями, овладели всею торговлей; землепашцы агир или гопа, потомки пастухов, хвастаются своим знатным происхождением, утверждая, что они принадлежат к той же самой породе, как и бог Кришна; курми, первые хлебопашцы, поселившиеся в стране, и мурао, составляющие, вместе с агирами, массу нации, тоже выдают себя за индусов несмешанной расы. Те из арийцев, которые спустились в низменные равнины Ганга в эпоху первоначальных народных переселений, равным образом претендуют на чистоту крови: так же, как колонисты всякой расы, они приписывают себе, более высокую родовитость, чем какая принадлежит им в действительности; они величают себя «сугубо благородными», подобно тому, как потомки первых английских эмигрантов в Виргинии все принимают самопожалованный ранг «кавалеров», или как ост-индские англичане все без исключения украшают свою фамилию титулом «эсквайра». Но как нобльмены Великобритании не признают за «дворянами» Австралии и Канады равенства ранга, так точно и аудские браманы, особенно кануджеи, или браманы Каноджа, древней индусской столицы, считают бенгальских браманов гораздо ниже себя по общественному положению и даже по религиозным привилегиям. До сих пор еще кануджеи упорно отказываются есть с ними за одним столом, и любой вор из уроженцев Аллахабада или Бенареса стоически перенесет в своей тюрьме наказание кнутом скорее, чем согласится проглотить хоть одно зерно риса, приготовленного каликутским браманом. Еще недавно чистокровный ариец из Ауда, будь то даже простой земледелец, не мог вступить в законный брак с бенгальскою браманкой, как бы ни был богат её отец; прижитые от неё дети считались бы незаконнорожденными. К этим именно странам, где преобладают браманы, индусы по преимуществу, в верхних равнинах Джамны и Ганга, завоеватели Великие Моголы применили специальным образом название Индустана, распространенное впоследствии на все без исключения земли, где говорят индусскими наречиями и исповедуют индусские религии, т.е. на весь Полуостров по сю сторону Ганга.
Магометане, столь многочисленные в северо-западной области Индустана, составляют меньшинство населения в бассейне Ганга, хотя они были некогда политическими господами на этой покатости Индии, и хотя они часто пользовались своею властью, чтобы обращать в ислам своих подданных, отдавая приказы об обрезании их массами. В верхних пригангских равнинах мусульмане составляют лишь седьмую, а в Ауде, стране индусской по преимуществу, лишь десятую часть общего числа жителей; немного более многочисленные в Бехаре, они почти совсем не встречаются в области Чота-Нагпор, где преобладают туземные элементы, жившие там еще до прихода арийцев; но в собственной Бенгалии они снова приобретают значительную численную важность. В этом отношении всеобщая перепись 1872 года была своего рода неожиданным откровением. Английские правители с удивлением узнали, что в одной только Бенгальской провинции их мусульманские подданные превосходят числом подданных константинопольского султана в Европе и Азии. Около трети жителей Бенгалии принадлежат к исламу. Правда, что магометане этой части Индии далеко не походят на мусульман Аравии; во многих округах они даже не знают самых простых формул своей религии, и, разделенные на касты, подобно индусам, совершая те же самые церемонии в святилищах, они отличаются от своих соседей единственно соблюдением обряда обрезания. Но в это последнее время большое движение религиозного пробуждения установило более крепкую связь между мусульманскими жителями Бенгалии. Странствующие проповедники, приходящие, по большей части, из северных провинций, отвлекли своих единоверцев от индусских капищ и преподали им существенные догматы и правила своей религии. Дух солидарности магометан Бенгалии с магометанами остальной Индии и других частей света усилился: они знают теперь, чего не знали еще недавно, как велика важность их религиозной и политической роли между народами земного шара, и хотя разделенные тоже на касты, они, однако, представляют тело относительно объединенное, сплоченное, в сравнении с раздробленностью индусского общества, распадающагося на тысячу ничем не связанных между собою фракций. При том же различие занятий может только поддерживать и даже увеличивать контраст между последователями отдельных религий. Так, в Бехаре и в Ауде мусульмане принадлежат, по большей части, к высшим классам общества; в Бенгалии они соединены преимущественно в общины земледельцев, тогда как служащие и ремесленники почти все индусы. Во многих округах даже существуют неоспоримые расовые различия. Так, в Рохильханде, на юге от Кумаона и Непала, рохильцы, или рогильцы, прежние властители края, суть чистые афганы, и большинство других магометан страны, саиды, шейхи, «монголы», патаны, тоже иноземного происхождения, по крайней мере, по своим представителям мужского пола, потомкам соратников султанов Махмуда, Бабера и Акбара.
Магометанскому же влиянию обязан своим происхождением и язык, которым говорит большинство жителей в бассейне Ганга. Язык этот, известный под именем индустани, получил свое первое начало в военном стане Великого Могола, в Делийской орде или урду: отсюда и название урду, «ордынская речь», которым он обыкновенно обозначается: но из простого лагерного наречия, из грубого сабира, как говор франко-арабов, индустани вскоре сделался настоящим, вполне развитым языком, и благодаря своему неистощимому запасу слов арабских и персидских, легкости, с которою он ассимилирует себе новые слова, гармонии своих созвучий, гибкости своей фразеологии, которая позволяет ему иметь всякую желаемую пространность или краткость, он мало-по-малу вытеснил многие индусские диалекты, нисшедшие теперь на степень областных наречий; им даже говорит большее число людей, чем бенгальским диалектом (бенгали), употребляемым сорока-пятью миллионами индусов; как язык образованный, он имеет перевес над всеми родственными идиомами, каковы панджаби, синди, гуджарати, марати, непали. Он унаследовал то влияние, каким некогда пользовался язык пали в цивилизации Востока. Впрочем, несмотря на сильную примесь арабских и персидских терминов, число которых простирается, в некоторых сочинениях, до трех пятых всего запаса слов, урду остается, тем не менее, индусским диалектом по своему грамматическому строю, по окончаниям слов и по конструкции предложений. Точно также наречие бенгали сохраняет свой характер индийского языка в судопроизводстве, где оно смешано на одну треть с иностранными терминами, по большей части английскими. Индустани, хотя он произошел от наречия инди или гинди, вообще употребляет персидские письменные знаки, точно это язык не национального, а иностранного происхождения; но он может быть воспроизведен «божественными буквами» так же легко, как и словесные произведения других языков Индустана, происшедших от санскрита.
Уже более столетия англичане управляют непосредственно нижними областями гангского бассейна. С 1769 года были назначены в каждой провинции специальные агенты для наблюдения за исправным поступлением налогов и для изменения, по мере надобности, их раскладки. С той эпохи в местной администрации были произведены большие перемены. Старинные общинные учреждения, мало отличавшиеся от великорусского мира, почти совершенно перестали существовать, по крайней мере в Бенгальской равнине, под господством нового порядка землевладения, введенного англичанами. В прежнее время каждая деревня составляла одно «братство», владевшее сообща лесами, пастбищами и выгонами и распределявшее пахатные земли между всеми своими членами, давая каждому участок, который он должен был обрабатывать в течение года, для производства риса или других хлебов, индиго, овощей или плодов. Несмотря на политические перемены и на обращения из одной веры в другую, совершавшиеся добровольно или по принуждению, маленькая сельская республика сохраняла общинное владение землей и удерживала за собою характер морального или юридического лица в отношении к государству; она сама собирала причитающийся с неё налог, за исправный взнос которого ответствовала круговой порукой всех своих членов, она отправляла все обязанности местной полиции, творила суд между членами общины, видоизменяла по произволу свою внутреннюю организацию. Даже в тех случаях, когда деревня бывала разрушена, она продолжала существовать виртуально, как правоспособный союз; члены «братства», укрывавшиеся в лесах, оставались, тем не менее, соединенными между собою, и часто, после двадцати или тридцати лет такой жизни в изгнании, они, пользуясь совершившимся в крае политическим переворотом, возвращались на родное пепелище, чтобы вновь отстроить свое селение на том же самом месте и снова приняться, без всякого спора с чьей-либо стороны, за обработку полей, которые предание признавало их неотъемлемой собственностью. Сменив прежних властителей страны, как верховный владелец земли, английское правительство почти везде изменило феодальную зависимость земель в пользу генеральных откупщиков, а в 1798 году оно даже совершенно отказалось от владения землей в пользу концессионеров, принявших на себя обязательство вносить в казну определенную сумму поземельного налога. Некоторые государственные имущества были проданы или уступлены частным лицам в полную собственность; большая часть имений была передана заминдарам, талукдарам, или арендаторам. за известную ежегодную ренту; в бывшем Аудском королевстве вся страна разделена таким образом между 256 индивидуумами. Заминдары, в свою очередь, сдали землю второстепенным арендаторам или отдают ее в оброчное содержание агентам, которые сами не земледельцы в настоящем смысле слова, а обрабатывают почву руками райев; таким образом целый ряд посредников захватывает в свою пользу львиную долю земледельческого продукта; даже в том благоприятном случае, когда будущий труд крестьянина не принадлежит заранее владельцу земли, даже когда необходимый ему для прокормления себя с семьей запас риса не был приобретен заимообразно у ростовщиков, под обычный годовой процент пятьдесят за сто, и тогда он должен платить тройной или четверной налог под-арендаторам заминдаров. В большой части округов райи не обеспечены даже относительно права пребывания на обработываемой ими земле. Правда, что, в силу предания, постоянное жительство в одном месте впродолжении двенадцати, двадцати или тридцати лет, смотря по провинции, гарантирует крестьянина от произвольного изгнания; но до истечения этого периода времени он находится в полной власти землевладельца, да и после того нищета, иногда даже недостаток необходимого продовольствия или голод заставляет его подчиниться всяким условиям, какие заблагоразсудится господину предписать ему. В провинциях верхнего Ганга, которыми английское правительство владеет еще не так давно, как Бенгалией, большое число земледельческих общин еще сохранило свое старинное устройство и образует бхайячара, или «братства», но и там купцы и банкиры, джайны или баньясы, овладели целыми деревнями, население которых они эксплоатируют в свою пользу. Особенно в Бехаре положение крестьянина самое плачевное, и тяжелое бремя неоплатных долгов отдало его в полную кабалу ростовщикам. В восточных и северных округах Бенгалии сельский люд менее терпит нужды и горя, и некоторые из крестьян, особенно между мусульманами, живут даже в довольстве; но и там старинное общинное устройство исчезло, оставив после себя только кое-какие пустые формальности: пиндаяты, или «советы пяти», собираются еще кое-где, но их совещания не имеют никакой силы против решения коронных судов или воли землевладельцев. Однако, большая часть деревень назначает еще своего полуофициального советника который обыкновенно избирается в качестве третейского судьи в спорах, возникающих между членами сельского общества. Так велика, вопреки политическим переворотам, живучесть обычаев, основанных на правосознании народа, что жители сельских общин признают вообще, в качестве мундула, или наследственного «начальника деревни», человека низшей касты, представляющего в своем лице древних владетелей земли в эпоху, предшествовавшую арийскому нашествию; во время местных праздников они украшают его гирляндами и подносят ему в дар сандальное дерево. В Калькуттской области из 6.000 «сельских старшин» только 15 принадлежат к высшим кастам, 1.300—из средних каст, а большинство, 3.600,—из низших каст. Две тысячи лет господства не дали еще арийцу прав окончательной натурализации.
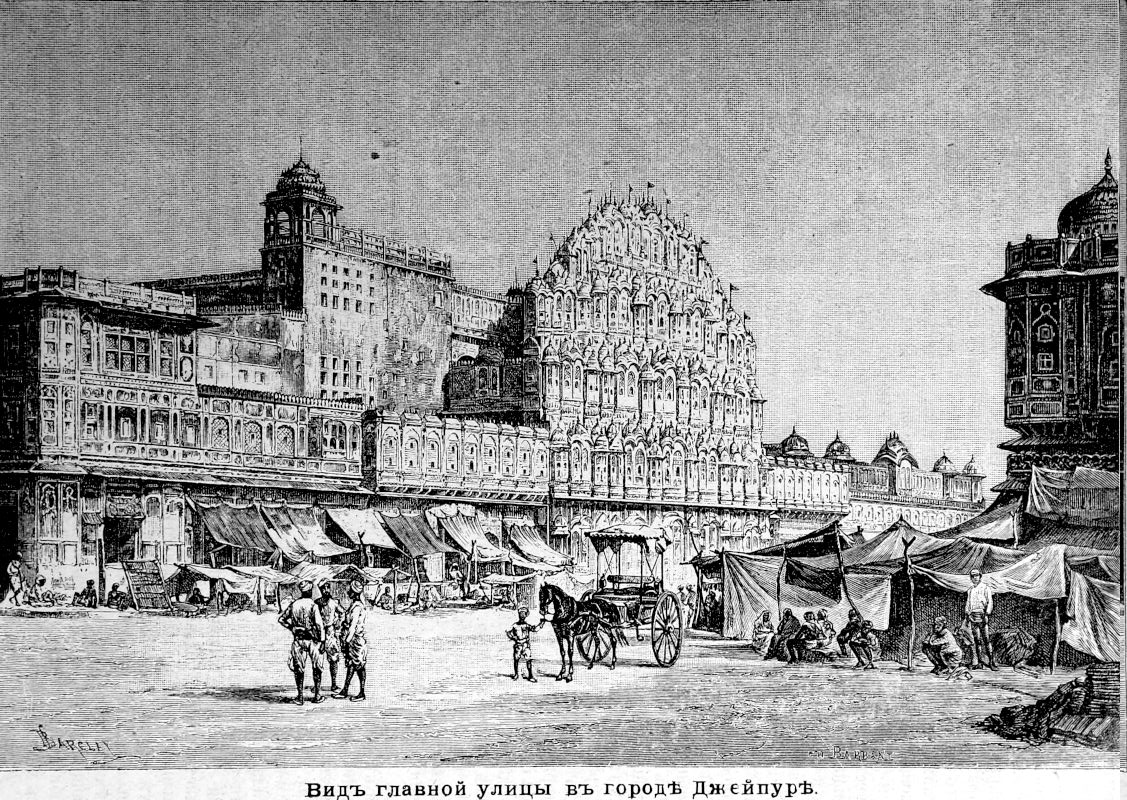
Две половины Гангской равнины, столицы которых—Дели и Калькутта, резко отличаются одна от другой распределением жителей; с одной стороны, большие городские поселения очень многочисленны, с другой—население, вне главного города, почти исключительно сельское. Провинции Доаба (междуречья, ограниченного Гангом и Джамной), где следовали одна за другою столицы империи, привлекавшие к себе торговлю и промышленность, покрылись сетью городов, где поселялись иммигранты из Персии, из Афганистана, из Бухары, группируя вокруг себя миллионами ремесленников страны. Бенгалия, напротив, осталась страной существенно земледельческою, хотя её столица есть в то же время столица всей Англо-индийской империи. Калькутта—единственный большой город провинции; большинство бенгальцев живет в маленьких деревнях, окруженных группами деревьев. Хотя этот край один из многолюдных во всем свете, путешественник, проезжающий через него, мог бы принять его за необитаемую страну,—так скромно спрятались хижины под густою листвою деревьев.
Оффициальная граница Пенджаба и провинций, называемых «Северо-Западными», хотя занимающих центральную часть индусской равнины,—река Джамна извивается среди полей индийской «Бельгии», где всего чаще решалась, в кровопролитных битвах, судьба династий, царствовавших на севере Индии. Карнал, город, существовавший уже в легендарные времена, когда происходили великия войны, о которых рассказывает поэма Магабгарата, упоминается в истории всех военных походов, начиная с магометанских нашествий; точно также город Панипат, стоящий к югу от Карнала и расположенный, как и этот последний, на старом высоком берегу, покинутом Джамной, которая теперь течет восточнее, прославился в летописях Индии пятью решительными победами, которые одержали там «монголы» Тимура, Бабера и Акбара в 1398, в 1526 и в 1556 годах, персы Надир-шаха в 1739 году и афганцы Ахмед-шаха в 1761 году. Здесь именно, в Панипате, решалась между воюющими армиями участь города Дели, а вместе с тем и судьба всей Северной Индии. Большая столбовая дорога Индустана проходит через Панипат и Карнал; железная дорога прошла восточнее, по средине Доаба, вследствие чего и стратегические пункты переместились в том же направлении. Города Сахаранпур, Деобанд «святой», Музаффарнагар, Мират следуют один за другим с севера на юг, на этом железном пути. Мират, славившийся уже во времена буддийского царя Асоки, который воздвиг там один из своих столбов с надписями, перенесенный теперь в Дели, в настоящее время есть один из главных кантонементов англо-индийской армии: здесь, как известно, вспыхнуло в 1857 году страшное возмущение сипаев: однако английские войска могли держаться во все продолжение войны. В 55 километрах к северо-востоку от Мирата, на высоком берегу, господствовавшем некогда над старым руслом Ганга, виднеются кое-какие развалины и кучи мусора: это все, что осталось от древнего «города слонов», Гастинапура, города, который так долго оспаривали друг у друга Куруиды и сыновья Панду. Уже более двух тысяч лет, как воды Ганга, подтачивая и размывая берег, ниспровергли стены этой Трои Индустана.
Дели (Дехли, Дихли. Дили), который тоже был одною из столиц Индии, и на котором в наше время английское правительство остановило свой выбор, чтобы воздвигнуть там императорский трон королевы Великобритании, был много раз разрушаем, как и «город слоновъ», только не наводнениями или размывами берегов, а рукою людей и действием времени. Нынешний город, оффициальное название которого—Шахджаханабад, по имени его основателя, появился в относительно недавнюю эпоху, именно в первой половине семнадцатого столетия, но вокруг его стен, до двадцативерстного расстояния во все стороны, видны руины, принадлежащия многочисленным прежним Дели; пространство, на котором раскинуты древние памятники или груды развалин и кучи мусора, исчисляется в 116 квадр. километров. Из всех этих городов самый древний—Индраспата,основание которого индийская эпопея приписывает Юдиштире; местоположение его еще обозначено стенами Индурпута, находящимися в 4 километрах к югу от нынешней городской ограды: тридцать четыре столетия протекло с той поры, когда сын Панду завоевал этот край у нагов, туземных поклонников священного змея. Уже в течение девятнадцати столетий следовавшие в этом месте один за другим города носят имя Дели. По сказанию легенды, железный столб Раджа-дхавы, уединенная металлическая колонна, обозначающая середину одного из древних городов, покоится на голове короля змей: один неверующий государь, желая удостовериться в подлинности этого чуда, велел выкопать столб, основание которого оказалось окрашенным кровью.
Современный Дели, построенный в форме полукруга, диаметр которого идет вдоль высокого западного берега Джамны и который обращен к юго-западу внешнею дугой своих стен, занимает пространство около 7 квадратных километров; несколько параллельных выступов или рядов скал, прилегающих к северо-западной части городской ограды и последняя гряда которых исчезает на севере под аллювиальными землями берега Джамны, объясняют удивительное счастье и живучесть Дели. В самом деле, тут находится вершина треугольника возвышенностей, ограниченного, с одной стороны, равнинами Ганга, с другой—пустыней Тар и полями, орошаемыми Индом; плоскогорья всей системы гор Виндиа, хотя перерезанные на юге многочисленными долинами, оканчиваются совершенно только на Делийском кряже или гребне (ridge или crest, по-английски); здесь прекращаются все препятствия, которые неровности почвы противополагают движению караванов и армий. Дели занимает, следовательно, как раз то место Индии, где расходятся главные исторические пути Полуострова, к нижнему бассейну Ганга, к горным проходам Гинду-куша, к устьям Инда и к Камбейскому заливу. До постройки больших дорог, Дели был важнейшим стратегическим пунктом всего Северного Индустана, и потому естественно, что столицы должны были возрождаться там после каждой катастрофы или периода упадка вследствие перенесения резиденции в другой город; в наши дни он сделался главным складочным местом торговли и центральною станцией железных путей между тремя крайними пунктами,—Калькуттой, Пешавером и Бомбеем. Даже местная гидрография свидетельствует о роли Дели как посредника между востоком и западом Индии. Выше города, Джамна делится на две ветви, из которых одна направляется на юго-запад, как бы для того, чтобы идти на соединение с Индом; она наполняет болотистую котловину, или джиль, называемую Наджафгар. которая, в свою очередь, после дождей, изливает обратно в Джамну излишек своих вод.
В нынешней своей черте Дели делится на два города. Северную часть, где находится станция железной дороги, проходящей перед вступлением в Дели, по прекрасному железному мосту через пески, островки и узкое течение Джамны, занимает английский город, отделенный от города туземцев обширными садами и широкими алеями или бульварами. Бывший дворец Великого Могола Шах-Джахана, вообще известный под названием «форта», тоже уединен от остального города площадями, обсаженными тенистыми деревьями. Преобразованный теперь в казармы, дворец этот много потерял своей прежней красы; тем не менее громадный параллелограмм, покрывающий не менее 47 гектаров (слишком 43 десятины), вдоль нагорного берега Джамны, заключает в себе еще некоторые из замечательнейших зданий Индии; входная зала, длиной 114 метров (более 53 сажен)—одна из самых величественных палат во всем свете, а обширная аудиенц-зала, павильоны которой господствуют над течением реки и её лесистыми островами, представляет чудо изящества и грации, вполне оправдывающее своими прелестными арабесками и провивками надпись, которая тянется вокруг потолка: «Если есть небо на земле, то вот оно, вот оно!» Главная мечеть, стоящая в туземном городе, на скалистой возвышенности, тоже принадлежит к числу архитектурных произведений, составляющих славу и гордость Индустана; в сравнении с этим величественным зданием, вздымающим высоко над городом свои узорчатые порталы, свои стройные минареты, свои три купола из белого мрамора, массивные сооружения англичан, колледж, музей, госпитали, казармы, церкви, кажутся безобразными постройками варваров.
Но самые замечательные памятники зодчества находятся в окрестностях нынешнего города, среди развалин прежних Дели; там сохранились еще многие храмы, пагоды и мечети, мавзолеи, колонны, укрепления, принадлежащие ко всем эпохам индусского искусства, начиная с периода, восходящего за две слишком тысячи лет до нашего времени. Ферозабадский дворец, заключающий, между прочим, знаменитый столб императора Асоки, далее Индурдутские руины, гробница Гумаюна, обсерватория, воздвигнутая джейтурским раджей в 1728 г.—все эти памятники следуют один за другим в равнине на юг от города, и аллеи зданий оканчиваются, в 15 километрах от стен нынешнего Дели, группой мечетей и колоннад Кутаба. Над этими строениями господствует колоссальная «башня Победы», воздвигнутая в тринадцатом столетии; это пучек колонн, разделенный на пять этажей круговыми галлереями, поясами изваяний и надписей в рельефе. Башня постепенно съуживается от основания к вершине, и потому высота её, равная 72 метрам (около 34 сажен), кажется больше настоящей от действия перспективы. С купола, частью поврежденного землетрясением 1803 года, взор обнимает все протяжение ограниченной на западе цепью холмов, исторической равнины, где возникало столько могущественных городов.
Легко понять гордость, которую испытывают патриоты Индии при виде живых свидетельств славы их предков. В 1857 году, когда англичане, прогнанные взбунтовавшимися сипаями, принуждены были брать обратно город приступом, затем обложить осадой гробницу Гумаюна, чтобы овладеть особой «Великого Могола», они изгнали всех жителей Дели, индусов и мусульман, которые таким образом должны были все время, пока продолжалось действие военного закона, оставаться вне городской черты. Снова водворившись в городе по усмирении восстания, они там теперь еще более многочисленны, чем были до войны, и это им преимущественно принадлежат, в улице Чандни-чок, блестящие магазины золотых и серебряных изделий, кожаного товара, златотканных материй, резной мебели,—произведений, составляющих специальные промышленности Дели, но, к сожалению уже много утративших своей прежней оригинальности, вследствие подражания европейским образцам. На юго-западе, при железной дороге из Раджпутаны, стоит многолюдный город Ревара, передовой товаро-складочный пункт Дели по снабжению произведениями промышленности всех маленьких государств нагорья.
На юго-востоке, в доабе. или междуречьи, через которое проходят большая столбовая дорога, рельсовый путь и канал, проведенный из Ганга, рассеяны в близком один от другого расстоянии многолюдные города: Буландшар или Баран, Сикандарабад, Хурджа, торговый город, с пышным джайнским храмом, построенным его богатым купечеством, Койл и Алигар; вблизи последнего стоит крепость, которую француз Перрон сделал оплотом маратского могущества и которая долгое время задерживала успехи английского оружия в начале настоящего столетия. Город Гатрас, лежащий южнее, есть главный складочный пункт торговли между Дели и Каунпором. Он соединен железною дорогою с многолюдным городом Муттра (Маттра), построенным, как и Дели, на западном нагорном берегу Джамны. Это один из священных городов Индустана, и усердие пилигримов, стекающихся сюда толпами, поддерживает массы праздного люда, живущего около храмов; жители Муттры не имеют почти никаких промыслов, кроме эксплоатации каменоломен и тески камней для постройки религиозных зданий, в числе нескольких тысяч. Муттра, древняя Матура, одна из столиц «Лунной» династии, была уже одним из средоточий буддийской религии, и Птолемей, упоминающий о ней под именем Модуры, называет ее «городом богов»; в грудах развалин, возвышающихся там и сям на юге, отыскали многочисленные изваяния буддийского периода, свидетельствующие о греко-бактрийском влиянии, которое выразилось в расположении групп и в складках драпировок. После изгнания буддистов, храмы получили другое название, архитектурный стиль зданий изменился, легенды были приурочены к другим личностям, но город, тем не менее, остался одним из святых мест Индии; в соседстве его родился Кришна, покровитель пастухов, которого впоследствии индусы стали боготворить, как своего Христа; каждая местность в окрестностях имеет свою историю, относящуюся к какой-либо черте из жизни этого бога. Почти все памятники города и страны были сооружены в честь Кришны, и хотя мусульманские государи велели их разрушить в первый раз, но они были вновь выстроены еще в большем числе и с большим великолепием, чем прежние. В семи километрах к северу, город Бриндабан, древняя Вриндавана, указывает место, где Кришна овладел змеиным царем, обвившимся вокруг дерева, и ввергнул его в волны Джамны; отраженная струя ударяющихся о нагорный берег вод реки, образующая род водоворота, происходит, по верованию индусов, от размахов хвоста этого чудовища. Один из Бриндабанских храмов, недавно построенный банкирами джайнами, стоил слишком шесть миллионов франков; другая пагода, сооружение которой относится к концу шестнадцатого столетия, представляет один из редких памятников Полуострова, так как в этом храме можно видеть соединение индусских колонн, персидских аркад и стрельчатого свода. Все окрестные поля вокруг Муттры и Бриндабана преданы общественным благочестием на расхищение животным: обезьяны, белки, павлины, попугаи, дикия птицы являются здесь бесцеремонными гостями, от которых местные жители должны почтительно защищать свои запасы.
Агра или Акбарабад, лежащий в 50 километрах к юго-востоку от Муттры, на берегу одной извилины Джамны, не принадлежит к числу древних городов Индии: он существует не более трех столетий; но выбранный, как резиденция, султаном Бабером и сделавшийся, при султане Акбаре, столицей империи Великих Моголов, он привлек скоро толпу жителей, и несмотря на бедствия, постигшие его со времени периода блеска и процветания, он и до сих пор еще остается, после Дели, первым городом в верхнем бассейне Ганга. Кое-какие следы древнего города, предшествовавшего эпохе Бабера, видны еще на восточном берегу Джамны, и нынешняя городская ограда окружена обширными необитаемыми пространствами, где кучи развалин и отрывки стен свидетельствуют о прежней важности Агры. Нынешний город, на половину меньший, чем во времена Акбара, но примыкающий на юге к военному городу «кантонементов», где расположено английское войско, сохранил, по крайней мере, большую часть прекрасных зданий, которые дают ему право называться перлом Индустана. Крепость расположенная на берегу реки, окружена высокими стенами (около 10 сажен в вышину) из красного песчаника, над которыми господствуют башни с украшениями из белого мрамора; в своей каменной ограде, имеющей в окружности 2.400 метров, она заключает еще, кроме дворца, из которого англичане сделали казармы, многие здания, сохранившие первоначальную чистоту стиля, блеск мраморов, изящество арабесок и других орнаментов. Против входа в крепость стоит, на высокой террасе, величественная Джамма-Масджит, или «Главная Мечеть», состоящая из трех корпусов, тогда как внутри крепостной ограды другой храм, «Жемчужная Мечеть», завершает собою ряд дворцов; этот храм, построенный целиком из белого мрамора, отличающийся в одно и то же время величавой простотой пропорций и законченностью форм, совершенством отделки до мельчайших деталей, представляет, по размерам, здание средней величины, но он, тем не менее, есть один из самых величественных памятников религиозного зодчества Индии по торжественной гармонии его внутренних пространств и по недосягаемой высоте его сводов. В ближайших окрестностях Агры некоторые императорские могилы тоже принадлежат к числу грандиозных памятников Индии: на севере близ Секундры, гробница Акбара, окруженная минаретами, киосками, широкими аллеями высоких деревьев, сама по себе составляет обширный дворец, построенный из красного песчаника, как почти все здания этой эпохи, и великолепно украшенный мраморными изваяниями, отличающимися удивительною нежностью линий и тонкостью работы; но главное чудо бывшей столицы «Великих Моголов», один из перлов искусства во всем свете,—это дивный храм Тадж-Магал, красующийся на берегу Джамны, к юго-востоку от города, мавзолей, который Шах-Джахан воздвиг на могиле своей супруги Арджаман-Бену, более известной под именем Мумтаз, или «Чествуемая». Как при слове Парфенон нашему воображению представляется идеальный тип древнегреческого храма, с его перистилем, с его фризами, метопами и богами, изваянными на фронтоне, так точно имя Тадж-Магала вызывает в нашем уме идею совершеннейшего памятника персидского искусства, с его высокими стрельчатыми порталами, обрамленными прямоугольником из арабесок, с его колоссальным узорчатым куполом, его стройными, изящными минаретами с галлереями и колоколенками. Весь построенный из розового песчаника и белого мрамора, Тадж-Магал блистает тем поразительнее, что цвета его составляют яркий контраст с темно-зеленою листвой окружающих кипарисов; он кажется лучезарным, сияющим каким-то сверхъестественным блеском. С гармонией линий этот чудный храм соединяет богатство отделки; поверхность его вышита прелестными узорами из инкрустированных мраморов, кордонов и провивок из драгоценных камней; впрочем, большая часть этих ценных предметов исчезла, так же, как и резные серебряные двери, похищенные маратскими завоевателями. Недавно сильный разлив Джамны грозил снести пышное здание: нужно было со всевозможною поспешностью укреплять крутой берег реки, на который опирается терраса памятника. Главные специальности ремесленников этого города и теперь те же самые, которым они научились во время постройки Тадж-Магала—инкрустация мраморов, шлифовка и обделка драгоценных камней, резьба мозаик: один бордосский мастер, по имени Остен, был тот великий художник, неизвестный в своем отечестве, который образовал школу акбарабадских мозаистов; туземцы дали ему прозвище Надир-эль Азур, или «Чудо века».
В 35 километрах к западу находится другой город, который некогда соперничал с Агрой и даже был, в царствование султана Акбара, несколько лет столицей империи Великих Моголов: это Фатехпур, «город Победы», расположенный на оконечности одного кряжа из красного песчаника, который доставляет материал для постройки зданий. Остатки этого города или, вернее, две деревни, Фатехпур и Сикри, затеряны среди его ограды, обширного круга, имеющего 8 километров в окружности, но большая часть памятников, воздвигнутых Акбаром и Джехангиром, существуют еще почти совершенно сохранившимися в своем первоначальном виде. Императорский дворец, гробница Селима, пустынника, святость которого и доставила Фатехпуру милости Акбара, Пандж-Магал, род пирамиды, образуемой пятью поставленными одна на другую колоннадами, портал слонов, минарет антилоп, дворец султанш, где исследователи старины признают здание, служившее резиденцией одной из супруг Акбара, португальки Марии,—все эти здания сохранили еще до самых тонких деталей все свои скульптурные украшения и ажурную резьбу из мрамора.
Ниже Агры, по берегу Джамны, следуют один за другим несколько многолюдных городов, Этавах, Кальпи, Хамирпур, Раджапур, и в соседстве речной долины, на границах плоскогорья Бундельханд, тоже есть старинные города, некогда имевшие важное значение, как столицы государства, каковы Джалаон и Банда; но политические перемены и в особенности переворот, произведенный в торговых сношениях постройкою железных дорог, переместили торговое движение с берегов Джамны на берега Ганга. Город Банда, который некогда был главным складочным местом хлопка во всем Бундельханде, теперь в упадке, торговля его перешла к портовому городу Раджапур, который, в свою очередь, заменен в настоящее время, как экспедиционный рынок, станциями железной дороги, идущей из Аллахабада в Каунпор.
Плодоносные равнины Рохильханда, простирающиеся на юг от горных цепей Кумаона, между Гангом и его притоком Гогрой, усеяны городами, которые все окружены манговыми лесами и бамбуковыми рощами и все имеют старинные крепости, первоначальное сооружение которых приписывают бхарам, древним обладателям края, и которые впоследствии были вновь отстроены афганцами или патан-рогиллами, т.е. «горцами». Самый многолюдный из этих городов, Барели (Bareilly),—город относительно новый, так как он был основан около половины шестнадцатого столетия. В начале простой военный пост, он и до сих пор сохранил свой существенно стратегический характер, и его крепость, его «кантонементы» и казармы—единственные достопримечательности, которые Барели может противопоставить дворцам и храмам городов на Джамне. Другие большие города Рохильханда, Наджибабад, Нагина, Биджнор, Амброга, Морадабад, Самбгал, Чандауси, Будаон, Сагасван, Пилибхит, почти все походят на Барели однообразием своей постройки; это просто городские поселения, быстро разросшиеся, благодаря развитию и расширению земледельческой промышленности в этой части гангского бассейна. Особенно сахарные плантации придали большую торговую важность городам Морадабад и Чандауси; Наджибабад, лежащий в соседстве гор, ведет отпускную торговлю строевым лесом. Среди всех этих англо-индийских городов, город Рампур, столица одного туземного, независимого по имени, государства, сохраняет еще некоторую оригинальность; ремесленники его занимаются тканьем шалей и шелковых материй (камка), очень ценимых в Индии.
Шахджаханпур, главная станция и самый многолюдный город между Барели и Лакнау, не только торговый, и промышленный центр, как другие города Рохильханда, но и один из тех городов, которые чрезвычайно быстро выросли и достигли цветущего состояния; он обогатился, главным образом, на счет своего соседа, Фаррухабада, стоящего на берегу Ганга и пользовавшагося недавно монополией отправки товаров по реке, но утратившего это преимущество, когда водяной путь был оставлен, и движение грузов направилось к железной дороге. Фаррухабад может быть рассматриваем как один город с английским военным городом Фатехгар, к которому принадлежит форт, командующий переходом через Ганг, и где находится казенный лафетный завод и фабрики лагерных палаток. К западу от Фаррухабада, Майнпури, на дороге из Агры,—тоже важный город; но Канодж, некогда славнейший город страны, который даже был около шестисот лет, до конца третьего века до Р. X., столицей самого могущественного арийского царства в Индии, теперь пришел в упадок. В 1016 году нашей эры, когда Махмуд Газневид обложил осадой его стены, Канодж, по выражению современных летописей, «поднимал свою голову до небес» и не имел равного себе по силе и крепости. И действительно, цитадель, заключающая в своей ограде весь нынешний город, кажется, была одною из самых сильных крепостей Индустана, но она потеряла всю свою важность с тех пор, как Ганг переместил свое течение на семь километров к западу, оставив Канодж на берегу незначительной речки, Калинадди, называемой также Чота-ганга, или «Малым Гангом». Перемещение реки, следовавшее за опустошительным проходом завоевателей, не позволило Каноджу вновь подняться; наибольшая часть пространства, заключенного в черте остатков древних городских стен, представляет необитаемую пустыню или усеяно лишь деревнями; там и сям стоят еще развалины пагод и мечетей, и один из этих храмов до сих пор известен у индусов под названием «кухни Сивы». Согласно их преданию, все браманы гангской дельты произошли от семейств, живших в Канодже в девятом столетии.
Каунпор, или Канпор (Кантипур, по-английски Cawnpore), один из самых новых городов Индии, далеко превзошел по важности древний город Канодж. Простой военный пост в 1778 году, он вырос мало-по-малу и приобрел большое значение, как стратегический центр и как торговый пункт; в настоящее время это один из первых городов Индии по размерам своей торговой деятельности. Возмущение сипаев в 1857 году вспыхнуло не в Каунпоре, но там происходили самые кровопролитные битвы и самые ужасные избиения. Вождь мятежников, которого английская полиция все еще разыскивает, Напа-Дунду-Пант, более известный под именем Нана-Саиба, приказал в этом городе перебить английских солдат, сдавшихся на капитуляцию, затем велел бросить в колодезь женщин и детей гарнизона. Прогнанные из Каунпора, инсургенты взяли его обратно у англичан, но после того опять должны были покинуть его, оставив из своих рядов тысячи в руках мстителей, которые пролили кровь за кровь, воздали обидой за обиду. Воспоминание об этом страшном годе до сих пор еще разделяет победителей от побежденных: ни одному туземцу не дозволяется проникнуть во внутренность памятника, впрочем, не отличающагося красотой архитектуры, который скрывает отверстие рокового колодца. Английский город Каунпор, расположенный вдоль правого берега реки и соединенный с противоположным берегом решетчатым мостом, по которому проходит железная дорога из Лукнау, совершенно отделен от индусского города садами, парками, полями для маневров войск. Рядом с английским городом расположено фабричное предместье, где есть даже бумагопрядильни, снабженные всеми новейшими механическими приспособлениями, какие существуют на манчестерских мануфактурах.
Лукнау, или Лакнао (Лахнао. по-английски Lucknow), столица бывшего Аудского царства, превращенного в английскую провинцию с 1856 года, принадлежит, как и Каунпор, к числу новых городов Индии; в этом месте существовала лишь деревня раджпутского основания, построенная на горке, посвященной Сеснагу, «тысячеглавому змею, на котором стоит свет». Нынешний город появился не далее, как в шестнадцатом столетии. Во время Акбара Лукнау был уже одним из лучших городов империи, но исключительную важность он получил только в прошлом столетии, как резиденция независимых государей; теперь это пятый город Индии по числу жителей, и в некоторых отношениях индусы считают его метрополией: во всем, что касается мод, музыки, театра, тонкостей языка, взоры их обращаются к Лукнау. Однако, это значение его, как законодателя в деле хорошего вкуса, значительно уменьшилось со времени событий, следовавших за возмущением сипаев в 1857 году. Тогда английскому гарнизону пришлось выдержать первую осаду во дворе резиденции, затем, после освобождения от этой осады пришедшим на помощь войском, он должен был запереться в одном укрепленном саду, в окрестностях города; Лукнау, защищаемый 30.000 сипаев и 50.000 волонтеров, имевших в своем распоряжении 100 пушек, был взят обратно у инсургентов только после убийственной осады и избиения тысяч индусов, которых громили картечью в упор. Хотя туземное население Лукнау, индусское и мусульманское, вообще довольно враждебно относится к европейцам, однако, мало найдется городов, где бы они поселились в таком большом числе; перепись 1872 года насчитала 4.222 резидента белой расы, не включая сюда эвразийцев.
Издали Лукнау представляет чудное зрелище: можно подумать, что во всем свете нет города более великолепного. Выглядывающие сквозь деревья, которые осеняют своими кронами течение реки Гумти, золотые куполы, минареты и колоколенки мечетей и мавзолеев, кажется, обещают вторую Агру; но вблизи очарование пропадает, и сразу видишь, как обманчива вся эта бьющая на эффект пышная архитектура. Большая часть дворцов—вульгарные копии с индусских памятников, украшенные вычурными орнаментами, принадлежащими ко всевозможным стилям и окрашенными в самые резкие цвета; коринфские капители поддерживают персидские аркады, а итальянские виллы увенчаны готическими куполами, в роде тиары; плохия английские имитации греческих и римских памятников были, в свою очередь, скопированы лукнаусскими строителями. И на эти-то жалкия, лишенные вкуса, постройки уходили, в течение слишком полустолетия, почти все рессурсы государственной казны, ради их-то десять миллионов жителей должны были терпеть жестокий порядок постоянного угнетения! Впрочем, между старинными зданиями Лукнау есть несколько замечательных, имеющих некоторый архитектурный характер. Имамбара, или «Святое Место», преобразованное теперь в арсенал и утратившее почти все свои скульптурные украшения, представляет величественный дворец, отличающийся изяществом и простотой стиля, и оканчивается массивными воротами грандиозного вида. Дворец резиденции, сделавшийся стратегическим центром города и исходною точкой широких аллей, расходящихся радиусами во все стороны, чтобы облегчить движение войск между «кантонементами» или штабами и городом—тоже одно из лучших зданий в Лукнау; наконец, торговая часть города заключает много красивых домов, с узорчатыми резными балконами и покрытых снаружи штукатуркой, более блестящей, чем мрамор. Один из любопытнейших памятников Лукнау—это Мартеновский коллеж (college de la Martiniere), названный так по имени французского генерала Клод-Мартена, построившего его в смешанном стиле, итальянском, индусском и персидском, который был принят его повелителем, раджей Аудским, для постройки своих собственных дворцов. Три города, Лукнау, Калькутту и Лион, свою родину, Мартен назначил своими наследниками, и в каждом из этих городов существует коллеж его имени, увековечивающий память этого выслужившагося из рядовых офицера.
Как все богатства Ауда уходили, словно в бездонную пропасть, в дворцы Лукнау, так и городское население страны почти все сосредоточилось в столице. За исключением Лукнау, в этих богатых равнинах, справедливо прозванных «Садом Индии», очень мало городов, да и те, какие существуют, имеют чисто местную важность, как рынки и складочные пункты товаров. Два центра административных делений, Ситапур на севере и Райн-Барели на юге,—незначительные местечки; но Барайч, посвященный богу Браме, Хайрабад и древний Шахабад—более многолюдные города. Важнейший, после Лукнау, город бывшего королевства, Файзабад, построен на месте, где прежде стоял город Ауд, имя которого перешло на всю страну. Древний город Аджодиа, «основанный Ману, прародителем людей» и бывший некогда столицей царства Косала и резиденцией «Солнечнаго» царя Дасараты, отца Рамы, не имеет уже никаких следов тех памятников, великолепие которых воспевает Рамайяна: он не сохранил никаких остатков своих древних буддийских монастырей, а его джайнские храмы—все недавнего происхождения. Магометанские мечети, основанные в эпоху завоевания страны, лежат уже в развалинах, но они указывают взорам индусов все священнейшие места, те места, где родился Рама, где он совершил одно из своих великих жертвоприношений, где он скончался. Говорят, что ярмарка в Аджодии привлекает полмиллиона посетителей. Новый город, сохранивший древнее имя Аджодиа, гораздо менее населен, чем его сосед, Файзабад, стоящий западнее и так же, как Аджодиа, на правом берегу реки Гогры. Эти два города пользуются большим простором на огромном пространстве в 248 квадр. километров, на котором, как утверждают, была раскинута древняя Аджодиа. Нынешняя важность Файзабада обусловливается преимущественно его этапным положением между Бенаресом и Лукнау.
Аллахабад, или «Божий город», который индусы называют Прайяг, по причине «слияния» двух священных рек, Ганга и Джамны, соединяющихся перед его храмами, не самый большой город в провинциях, известных под именем «северо-западных»; тем не менее, англичане избрали его главным городом этого обширного отдела своей империи,—предпочтение, которым он обязан своей первостепенной важности в стратегическом и торговом отношении, как место, откуда расходятся большие дороги, идущие к Ауду и Непалу, к Дели и Пенджабу, к центральным провинциям и берегам Аравийского моря; здесь разделяется главный железный путь Северной Индии, чтобы образовать две ветви, пешаверскую и бомбейскую. Торговый город и административный центр, Аллахабад утратил памятники зодчества, составлявшие некогда его красу и славу. Крепость, расположенная на самой стрелке, образуемой слиянием двух рек, на том месте, где находились строения, относящиеся к легендарным временам, не сохранила ни одной из башен, воздвигнутых султаном Акбаром, и походит, со своими гласисами и покрытыми дерном откосами валов, на все современные укрепления; но она заключает еще в своих стенах прекрасный дворец, превращенный теперь в арсенал, и кое-где остатки предшествовавших построек. Столб, стоящий в саду, замечателен тем, что на нем вырезан знаменитый указ буддийского императора Асоки, обнародованный за два с половиною века до начала нашего летосчисления, и за этою древнею надписью следуют две другие, прославляющие: одна—победы, одержанные четыре столетия спустя Самудрагуптой, а другая—восшествие на престол Великого Могола Джехангира. Близ этого столба находится вход в храм, который речные наносы и развалины превратили в катакомбы; здесь-то, говорят индусы, река Сарасвати оканчивает свое таинственное течение, чтобы соединиться с двумя другими священными потоками, Гангом и Джамной; сырость, ползующая по стенам подземелья, есть, по их верованию, не что иное, как вода Сарасвати, спускающейся в недра земли у Танесара. В одном углу двора подземного храма видны остатки ствола баниана, «нетленнаго» дерева, на ветках которого обитал злой дух, пожиравший людей; пилигримы приходили сюда сотнями добровольно предавать себя смерти, чтобы насытить алчный аппетит чудовища; груды человеческих костей покрывали всю почву. Во времена Акбара, когда Ганг подточил свой нагорный берег до самого основания священного дерева, добровольные мученики бросались прямо с его ветвей в воды реки. В настоящее время Аллахабад, хотя все еще принадлежащий к числу священных городов Индустана, конечно, потерял уже прежний престиж в глазах индусов, без сомнения, потому, что грозные жерла пушек выглядывают из амбразур крепости над берегами Ганга и Джамны; на ярмарку, открывающуюся в Аллахабаде в начале года, пилигримы и торговые люди стекаются в меньшем числе, чем на годовые рынки Аджодии. Однако, и здесь иногда собирается на ярмарку до 250.000 человек, располагающихся в палатках на равнине, которая тянется вдоль правого берега Ганга, вверх от слияния его с Джамной; обыкновенно, в период полнолуния большинство иногородных посетителей погружается в воды реки, под наблюдением специального класса браманов; путешественнику по Индии мало встретится зрелищ, более любопытных, чем оригинальный вид этой несметной толпы людей, беспрестанно меняющиеся группы которой бороздят тысячами струй величественный поток священного Ганга.
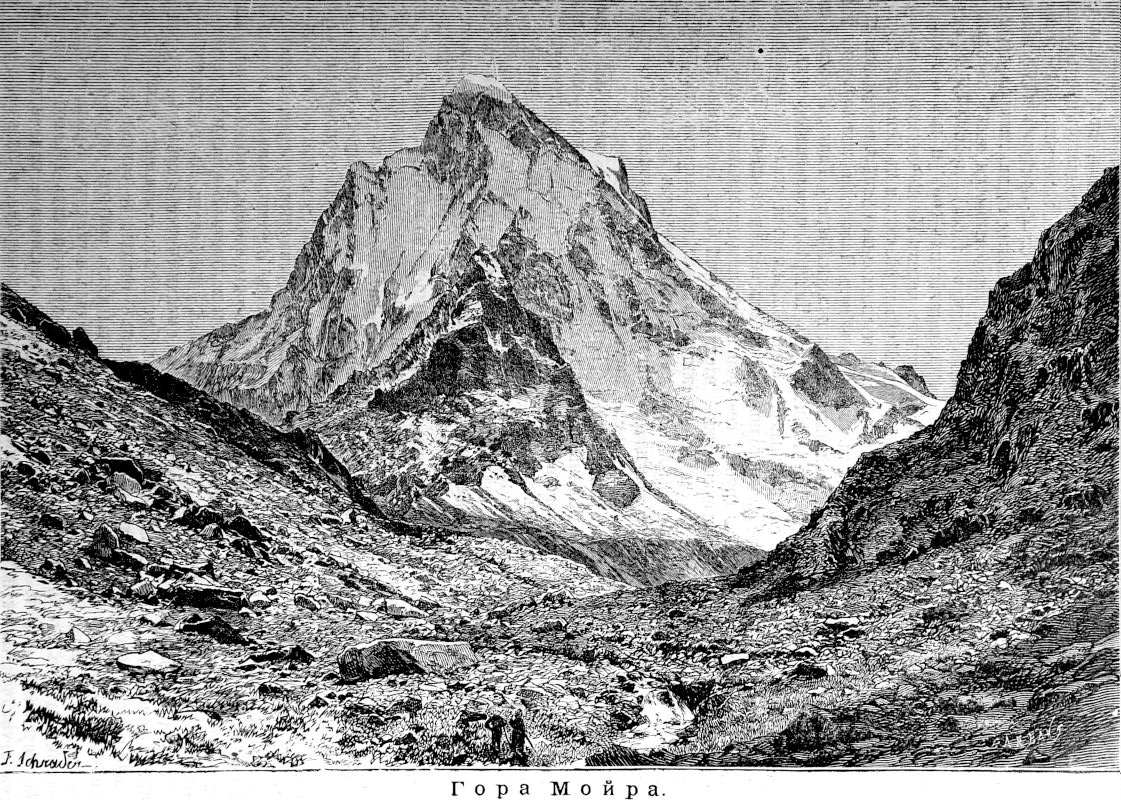
Как все административные центры Англо-индийской империи, Аллахабад делится на два города: город казарм, вилл, парков и садов, где поселились властители страны, и индусские кварталы, совершенно отделенные от той части города, где обитает каста чужеземных завоевателей. В английском Аллахабаде обращает на себя внимание центральный колледж, недавно основанное высшее учебное заведение для всех «северо-западных» провинций Индии. Индусский город представляет лабиринт узких и кривых улиц, извивающихся между рядами низеньких домов, скученных на берегу Джамны; однако, и здесь есть несколько красивых новых кварталов, построенных богатым купечеством. Через Джамну перекинут, выше города, железный мост, около версты длиною; берега же Ганга все еще соединены только пловучими мостами. Со времени проведения железной дороги в Пригангской равнине пароходы прекратили свои рейсы между Аллахабадом и Калькуттой.
Ниже слияния Ганга с Джамной, первый большой город, который омывают воды главной реки,—Мирзапур; расположенный на южном высоком берегу, он имеет величественный вид с его прекрасными лестницами, спускающимися до самой реки, с его храмами, увенчанными куполами и башенками, с его дворцами, богато украшенными скульптурой и резьбой. Мирзапур все еще принадлежит к числу значительных торговых городов, хотя он много потерял в этом отношении со времени постройки железной дороги. До этой эпохи он был первым рынком Индии по торговле хлебом и хлопком; теперь же, сделавшись простою промежуточною станциею железного пути, он заменен, как складочное место товаров, Аллахабадом, Каунпором, Дели. Однако, промышленность в нем так же деятельна, как и прежде; ремесленники его фабрикуют медные изделия, ковры, различные ткани, лакированные вещи; здесь переработывается воск лакового червеца (coccus lacca), присылаемый сюда с Раджмагальских гор и из области Чота-Нагпор через Байдианатскую станцию. Дома в Мирзапуре, как и в Бенаресе, построены из превосходного камня, песчаника, который доставляют Чанарские каменоломни, находящиеся ниже на берегу Ганга. В этом же месте (в Чанаре), прославившемся в индусской мифологии, высится скала, основание которой омывается водами священной реки и на которой пилигримы созерцают отпечаток, оставленный ногой бога. На этом мысе, составляющем последний выступ плоскогорья Виндиа, стоит знаменитая крепость, из которой англичане сделали бастилию для государственных узников.
Бенарес, или Каси, античный Варанаси, есть метрополия браманских религий, священнейший между священными городами, тот город, который достаточно увидеть, чтобы быть облегченным от тяжкого бремени грехов или преступлений; «иногда святые праведники спускаются с неба на землю, чтобы довершить свое очищение, и в таком случае они обыкновенно избирают Каси местом своего пребывания». С самых первых времен арийской истории в стране, Бенарес появляется уже как город святынь. Шакиа-Муни приходил туда проповедывать свое учение, и в течение восьмисот лет этот город был по преимуществу священным местом буддистов. Затем, браманы отстроили там свои пагоды, которые впоследствии были разрушены магометанами, воздвигнувшими на месте их свои мечети. В настоящее время более тысячи семисот храмов, мечетей и других меньших святилищ рассеяны во всех частях города, не считая жертвенников и усыпальниц, святых образов и статуй на площадях и улицах. Кроме того, здесь есть много христианских церквей и часовень или капелл различного наименования, построенных миссионерами, и благодаря религиозному индифферентизму нынешних владетелей Индии, даже буддийский храм, куда ходят молиться бенаресские непальцы, мог быть воздвигнут в священном граде браманов; поднимающиеся одна над другою кровли этой кумирни, построенные почти в чисто китайском стиле, составляют резкий контраст с узорчатыми пирамидальными главами индусских пагод, с минаретами и куполами мусульманских мечетей. На всем Полуострове нет городов, где религиозная архитектура была бы представлена большим количеством памятников различных эпох; руины буддийских ступ, которые видны еще в Сарнате, в 6 километрах к северу от города, восходят, может быть, за двадцать четыре столетия до нашего времени. Один из этих шарообразных куполов, Дамек или Дарма, т.е. «Закон», представляет каменную массу в 34 метра (около 16 сажен) высоты, окруженную плинтусом, богато украшенным изваяниями; он находится на том самом месте, где божественный Будда начал «вращать колесо закона».
Со времен буддийской эпохи Бенарес постепенно переместился к югу. Он находился тогда на северной стороне небольшой речки Барна, от которой и произошло его название, и Сарнатские развалины обозначают его первоначальное местоположение; затем он занимал, южнее, ту местность, где в наши дни расположены казармы английского военного города, а теперь его дома скучены на левом берегу Ганга. Внутренность города представляет лабиринт узких и кривых улиц, загроможденных людьми и животными, верблюдами, ослами, лошадьми, священными быками; даже обезьяны примешиваются к уличной толпе около некоторых пагод; галлереи, аркады, узорчатые резные балконы, грубые фрески, деревья, прицепившиеся к стенам, цветы на окнах и на террасах придают каждому дому особенную физиономию. Когда смотришь с реки, которая движется широким потоком у основания Бенареса, изгибаясь в виде красивой дуги или полумесяца, длиною в 5 километров, этот единственный в свете город развертывает перед взорами великолепную панораму своих дворцов, своих бесчисленных храмов, с башнями и куполами разнообразнейшей формы и величины, из которых одни еще крепкие, другие уже потрескались и наклонились. Гаты, или ступени, спускающиеся к реке с крутого берега (возвышающагося на 30 метров или 14 сажен), усеяны пилигримами и факирами, которые предаются душеспасительному умерщвлению плоти или обливаются священною водою Ганга; у подножия одной из лестниц лежат покойники, завернутые в белые саваны и колеблемые течением; тут же по близости приготовляется костер, на котором тела их будут преданы сожжению. Многочисленные барки, пароходы снуют взад и вперед по широкой реке; в дни больших праздников поверхность вод имеет не менее оживленный вид, чем кишащий народом берег, а вечером, когда обширный полукруг дворцов блестит тысячами огней, город представляет волшебное зрелище. После возмущения 1857 года, форт, возведенный на берегу Ганга, безобразил своею неуклюжею массою красивую линию великолепных памятников; теперь он заброшен. Обсерватория, воздвигнутая Джайсингом в конце семнадцатого столетия, господствует над массой храмов и домов своими балконами и террасами.
Город паразитов, живущих на счет пилигримов, которые стекаются сюда со всех концов Индустана, Бенарес есть одно из наименее промышленных городских поселений на берегах Ганга. Хотя, по количеству населения, он все еще занимает первое место между городами провинций, называемых «северо-западными», однако, число его жителей сильно убавилось с половины настоящего столетия, и, вероятно, в близком будущем он утратит первенство в этом отношении и останется позади некоторых других центров населения; уменьшение религиозной ревности, замечаемое ныне, как общее явление, у индусов, не может не повести к обеднению священного города. Впрочем, в Бенаресе существуют некоторые отрасли промышленности, производящие преимущественно предметы роскоши, как-то: штофные материи и шали, филиграновые изделия и драгоценные украшения. Бенаресские купцы ввозят значительные количества хлопчатобумажных тканей, за которые они платят сахаром, индиго, селитрой. Как точка бифуркации железных путей Ауда и Доаба (междуречья), Бенарес есть необходимое складочное место товаров. Железная дорога проходит на востоке от города, по первому постоянному мосту, какой до сих пор устроен через Ганг выше дельты; это путевод о семи пролетах, имеющий в целом около 800 метров длины. На другой оконечности стоит замок Рамнагар, резиденция наваба, которому правительство сохранило титул бенаресского магараджи. «Ни один англичанин,—говорит Давидсон,—не может смотреть без стыда на стены этого замка», напоминающего о хищениях и клятвопреступлениях известного генерал-губернатора Уаррен-Гастингса.
Ниже впадения притока Гумти и длинного изгиба, образуемого течением Ганга, город Газипур, стоящий, как и Бенарес, на левом берегу священной реки, приобрел довольно важное значение, как складочный торговый пункт, и правительство имеет там обширные заводы для приготовления опиума; кроме того, этот город славится как центр производства розовой эссенции; он отправляет в Калькутту табак, а также селитру и углекислую соду, собираемые на местах с сухим грунтом, лежащих выше уровня наводнений Ганга. Баксар, следующий за Газипуром ниже по берегу реки,—тоже торговый город, но гораздо менее оживленный, чем Чапра, который находится на левом берегу Ганга, при слиянии его с Гогрой; немного ниже впадает и другой приток, река Сона. Таким образом, город Чапра занимает очень выгодное положение в точке соединения трех значительных речных долин, но он построен на низком месте, часто затопляемом во время разливов, и при том судоходный фарватер передвинулся, оставив пристань позади себя на расстоянии почти двух километров. Кроме того, железная дорога отвлекла торговое движение, пройдя по другой стороне долины Ганга через город Аррах, унаследовавший важное значение, которым еще недавно пользовался город Сассерам, лежащий южнее, в области холмов. Находящиеся к северу от Ганга города Джаонпур, Азамгар и Горакпур отправляют свои произведения в Газипур или в Чапру. Знаменитая Капилаваста, место рождения Будды, находилась, вероятно, в окрестностях Горакпура, на берегах реки Гогры.
Между Бенаресом и Калькуттой самый многолюдный и самый важный по торговле город—Патна, т.е. «Город» по преимуществу; магометане называют его Азимабадом. В буддийские времена, слишком две тысячи лет тому назад, он носил название Паталипутра, которое в описании, оставленном греком Мегасфеном, изменилось в Палиботра; он был тогда «главным городом Индии». Вместе с своими предместьями, Патна и теперь еще один из самых обширных городов Азии; его дома, верфи, складочные магазины тянутся вдоль правого берега Ганга на пространстве слишком 20 километров. На западе первую группу этого громадного городского поселения составляет крепость или военный город Динапур, с его кантонементами, парками, полями для маневров; затем следует административный центр провинции, Банкипур, где живут почти исключительно только европейцы и их прислуга; наконец, далее, на востоке, простирается индусский город, середину которого занимает городская ограда Патны в собственном смысле. Гораздо более, чем Чапра, Патна может быть рассматриваема как точка соединения естественных путей этой области: к трем большим рекам, Гангу, Гогре и Соне, которые соединяются выше Патны, прибавляется еще, напротив города, четвертая, Гандак, приток Ганга, спускающийся из богатейших долин Непала. Сверх того, Патна соединена теперь двумя железными дорогами с Калькуттой и служит центральною станциею для сети второстепенных линий, связанных с главною железнодорожною артериею Северного Индустана.
Несмотря на древность своих исторических воспоминаний, современная Патна не заключает в себе почти никаких остатков старины; главная её архитектурная достопримечательность—громадный хлебный амбар, которым англичане никогда не пользовались, разве только для того, чтобы слушать, как отдается в нем чудное эхо. В самом городе только и есть замечательного, что его обширные складочные магазины, наполненные опиумом, хлебом, растительными маслами и другими продуктами и товарами; но в окрестностях встречаются здания и руины, которые принадлежат к числу интереснейших памятников религиозной Индии. На юге от Патны некогда находилась область, по преимуществу священная для буддистов; но браманы съумели ловко обратить в свою пользу античную святость храмов и монастырей соперничающего культа; как гласит местная легенда, земля прикрывает в этом месте одного проклятого богами гения, преступление которого состояло в том, чти он слишком любил людей и слишком легко спасал их от мук ада. Гений этот не кто иной, как побежденный буддизм: для того, чтобы он согласился не колебать землю, боги-победители обещали ему спасение для всех пилигримов, которые будут приходить молиться в храмах, построенных на его теле. Железная дорога, проходящая через промышленный город Джаханабад, соединяет Патну с священным городом Гайя, названным так по имени мифического гения, запертого в недрах земли. Сорок пять священных станций, перед каждою из которых богомольцы должны оставлять приношения, окружают этот город на некотором расстоянии; нужно не менее тринадцати дней пути, чтобы исполнить все церемонии очищения. Из всех этих станций самой важной, той станцией, где приношения имеют наибольшую спасительную силу, где они особенно богоугодны, считается станция Буд-Гайя или Бод-Гайя, находящаяся в десяти километрах к югу от города, на реке Лиладжан, или «Незапятнанной»; в этом месте Шакиа-Муни провел пять лет, погруженный в самосозерцание, в тени смоковницы из породы банианов, от которой и теперь еще показывают ствол, на половину изгрызенный временем; название этого дерева, боди друм, т.е. «Древо мудрости», будто бы, сделалось, слегка измененное, наименованием всей совокупности священных памятников, но некоторые этимологи производят его от прозвища, которое имел «Мудрец», или Будда. Храм, который стараниями посланников барманского короля был дважды ремонтирован, в 1805 и в 1877 годах, покоится на фундаментах здания, построенного слишком 2.400 лет тому назад, и сохранил еще любопытные изваяния, относящиеся к эпохе императора Асоки, которые воспроизводят не арийские типы, а фигуры, похожия на представителей племени коль. Неподалеку от храма видны также развалины дворца, в котором жили Асока и его преемники на магадском троне.
Гайя, впрочем, не исключительно город жрецов; он в то же время и торговый центр: самая многолюдная часть его, обогатившаяся от торговли сахаром, получила, от населяющих ее купцов, прозвище Сахибгандж, т.е. «Господский рынок». Точно также, на юго-востоке от Патны, город Бехар, по которому называется и вся провинция и имя которого, происшедшее от Вихара, имеет один только смысл—«Монастырь», приобрел важное значение гораздо более по своей торговле и промышленности, чем по приливу пилигримов. Что касается городов провинции Бехар, находящихся к северу от Ганга, в области Тиргут, то они ничем не прославились в религиозной истории Индии, так как эта страна долгое время оставалась во власти диких народцев; но в наши дни это одна из тех областей, которые дают наибольшее количество хлеба, опиума и других земледельческих произведений; тиргутский табак и индиго принадлежат к наиболее ценимым продуктам этого рода. Городские поселения Беттия, Музаффарпур, Дабанга, самые значительные центры населения в крае, отправляют свои произведения в Калькутту, но не по изменчивым рекам и речкам, орошающим их поля, а по сети железных дорог, постройка которых была предпринята во время голодного 1874 года, с целью дать заработок умиравшим с голода поселянам. Эти рельсовые пути, по которым постоянно происходит большое товарное движение, оканчиваются на берегу Ганга, напротив города Бар, одной из важных станций железной дороги из Калькутты в Пешавер. Город Хаджипур, тоже значительный торговый пункт, может быть рассматриваем как пригород Патны, с которою его соединяет устье реки Гандак. Возделанные земли Северного Бехара постепенно распространяются все далее и далее в пределы болотистого пояса терай, на юге от границы Непала, за которою наблюдает, на дороге в Катманду, крепость Сигаули.
Монгир, одна из самых оживленных пристаней на берегах Ганга, есть в то же время один из живописных городов Бенгалии, благодаря скалистому пригорку, на котором стоит старинный форт, заключающий теперь европейский город: у подножия этого замка или кремля группируются дома индусского города; окружающие равнины принадлежат к местностям, которые наиболее представляют вид леса или парка, благодаря дереву мхова или bassa latifolia, цветы которого питают людей и животных. Около полумиллиона этих деревьев растут в округе, давая каждый год сбор цветов, простирающийся до 100.000 тонн [более 6 миллионов пудов]. Багальпур, город еще более многолюдный и торговый, чем Монгир, расположен вдоль правого берега главной реки, на пространстве слишком 3 километров; окрестная страна—одна из самых любопытных местностей Индии по многочисленности существующих в ней храмов, сооруженных джайнами. Холм Мандар (Мандар-гири), который высится уединенно верстах в пятидесяти к югу от Багальпура, носил некогда 540 храмов на своем гранитном плато, господствующем над окружающими равнинами на 200 слишком метров; изображение змея, иссеченное в скале рельефно, обвивается вокруг всей горы. От древних зданий страны сохранились только агаты и другие твердые камни, рассеянные по земле.
Ниже богатого Багальпура, по течению реки, древний город Кольгонг, или Кохальгаон, еще недавно имевший весьма важное значение, как место отправки товаров в Калькутту, снизошел теперь на степень незначительного местечка: удалившись от этого города, Ганг тем самым осудил большое число его жителей на изгнание; большинство их поселилось ниже по реке, в новом городе Сахибгандже, одном из тех многочисленных «господских рынков», которые появились со времени английского завоевания. По Гонтеру, торговое движение в Сахибгандже в фискальном 1876—1877 году выразилось следующими цифрами: 43.020 судов, груз которых состоял из 100.000 тонн риса, 40.000 тонн соли и т.д.; общая ценность товаров простиралась до 11.250.000 франков. К северо-западу от Сахибганджа, на противоположном берегу реки, усеянной в этом месте островами и песчаными мелями, находится станция Карагола, которая тоже привлекает много торгового люда во время ярмарок; эти ярмарки происходят на обширной равнине из аллювиальных земель, где не раз появлялась холера, производившая большие опустошения среди скученной массы народа. Первый город, который мы встречаем на юге от большого изгиба Ганга, обходящего вокруг холмов Пахариа,—Раджмагал, тоже один из тех городов, которые населялись и пустели, сообразно перемещениям реки. Почти во все продолжение семнадцатого столетия, Раджмагал, стоявший тогда при главном течении Ганга, был важнейшим городом области дельты; в половине настоящего столетия он был еще многолюдным и торговым центром населения; но в 1863 году река отодвинулась к востоку, и «Сад Царей» (буквальное значение слова Раджмагал) обратился в кучку лачуг, раскиданных вокруг руин. В 1880 году течение реки опять вступило в Раджмагальское русло, а вместе с тем вернулись торговля и цветущее состояние города. На востоке, город Мальда, расположенный при слиянии Мага-надди и одного рукава или побочного потока Ганга, и некогда имевший некоторую важность, как торговая контора французов и голландцев, тоже пришел в упадок; в настоящее время он славится только своими превосходными плодами мангового дерева, но уже не фабрикует прочных бумажных материй, известных под названием мальди. Далее на юге, английская торговая контора, основанная в 1686 году, сделалась одним из второстепенных городов Бенгалии, под именем Инглиш-Базар (английский базар) или Ангразабад. В этой изменчивой стране, где нередко и самая почва пропадает по капризу потоков, города имеют более скоропреходящую судьбу, чем на твердых землях внутренности материка. Так, в этой области видны еще знаменитые развалины Гаура и остатки Пандуаха, города, который был резиденцией афганских монархов около конца четырнадцатого столетия; его здания, все из камня, хорошо сохранились и очень любопытны, как образчики афганской архитектуры в Бенгалии. Что касается города Тондан или Тангра, который следовал, как столица государства, за Гауром и Пандуахом, то местоположение его еще не найдено. На севере, в аллювиальных равнинах, по которым протекают горные речки и ручьи, спускающиеся из Непала и Сиккима, города тоже блуждают по воле изменчивых вод. Так, Пурния, один из важнейших рынков для торговли джутом, был покинут европейскими негоциантами с тех пор, как река Кали-Коси, переменив русло, оставила вдоль города пояс вонючих болот.
Ниже бифуркации Ганга встречаем еще несколько городов, следующих один за другим в аллювиальной равнине Падмы, большего рукава главной реки, который соединяется с Мегной. Рампур-Баолеах—очень оживленный и посещаемый большим числом судов порт, отпускающий преимущественно шелк, рис, джут, и ввозящий сахар, соль и различные ткани (в фискальном 1876—1877 году торговое движение этого города простиралось, по ценности товаров, до 13 525.000 фр.); тогда как Пабна, главный город округа, почти покинут торговлей, вследствие того, что речное русло переместилось к югу. Между этими двумя городами, Рампуром и Пабной, паровой паром соединяет две половины железной дороги, идущей из Калькутты в Дарджилинг. Но торговая жизнь, понятно, устремилась, главным образом, на малый рукав Ганга, который англичане выбрали местом для основания столицы своей Индийской империи. Впрочем, на том же западном рукаве могучей реки, около вершины дельты, и прежние государи Бенгалии установили свою резиденцию в восемнадцатом столетии. Муршидабад, на который упал их выбор, скоро сделался одним из величайших городов в свете. Когда английский генерал Кляйв проник в эту столицу, в 1759 году, после того, как армия его одержала над войсками наваба решительную победу при Пласси, резиденция бенгальских владык показалась ему «такою же обширною, такою же многолюдною и такою же богатою, как Лондон, с тою разницею, что крупные собственники Муршидабада живут в гораздо большем изобилии и роскоши, чем лорды и негоцианты английской метрополии». «Если бы жители,—прибавляет он,—захотели истребить европейцев, то им достаточно было бы для этого камней и палок». Город имел тогда слишком 50 километров в окружности. Даже и после того, как англичане сделались неоспоримыми властителями Бенгалии, Муршидабад по-прежнему сохранил свой оффициальный ранг столицы; только в 1772 году он был лишен некоторых из своих привилегий главного города государства, а в 1790 году у него был отнят, наконец, и самый титул столицы. С этой эпохи важность его, так же, как и численность населения, быстро уменьшились. Последовательные переписи городского населения Муршидабада в девятнадцатом столетии дали следующие цифры: в 1815 г.—165.000; в 1829 г.—146.186; в 1837—124.804; в 1872 г.—46.140; в 1891 г.—35.576 жит. Наваб, которому английское правительство назначило годовое содержание (liste civile) в размере 4 миллионов франков, все еще имеет свою оффициальную резиденцию в Муршидабаде и владеет там пышными дворцами, из которых один, построенный недавно в итальянском стиле, заключает резной трон из слоновой кости, образцовое произведение местного искусства; другой дворец в большей части построен из драгоценных материалов, извлеченных из древних памятников Гаура. Один из муршидабадских лицеев (колледжей) принимает исключительно молодых людей, принадлежащих к фамилии наваба. Почти затерянный среди деревьев и густых чащей бамбука, Муршидабад имеет вид обыкновенных городских поселений только в фабричном квартале (шелкопрядильные мануфактуры), да в той части, которая расположена по берегу Ганга; но торговое движение сосредоточивается преимущественно на севере городского округа, в двух пригородных местечках Джиагандж и Азимгандж, лежащих одно против другого по обе стороны реки Бхагирати. В коммерческом мире Муршидабад известен только своими банковыми операциями.
Если Муршидабад пришел в упадок, то многие другие города страны совсем прекратили свое существование. Так, древний буддийский город Бадригат, на западном берегу Бхагирати, оставил после себя только развалины, а место, где стоял Казимбазар, теперь указывают только мазанки да несколько дворцов богатых туземцев. Этот последний город, находившийся в пяти километрах к югу от Муршидабада, был в семнадцатом столетии важнейшим торговым центром Бенгалии; самая река была известна под именем этого порта, и вся дельта Ганга называлась «Казимбазарским островом». В 1813 году торговля уже большею часть переместилась и направилась к новому городу Барампуру (Брамапур), где англичане основали свои военные кантонементы, как вдруг отступление русла Бхагирати оставило Казимбазар среди болот; отлив населения принял размеры настоящего бегства, и ост-индская компания, владевшая в этом месте весьма важною прядильною мануфактурою, вынуждена была бросить это обширное промышленное заведение. Местоположение бывшей европейской колонии теперь указывают только многочисленные могильные камни христианского кладбища. На юге от Барампура, знаменитое поле сражения при Пласси или Паласи испытало противоположную участь: вместо того, чтобы быть покинутым внутри земель, вдали от реки, оно было целиком унесено разливами речных вод.
Надия, одна из столиц, которые предшествовали Муршидабаду, была в одиннадцатом столетии резиденцией последнего из государей индусской расы, царствовавших над Бенгалией. Она не исчезла, как многие другие города этой области, где почва беспрестанно перемещается водами; но река, так сказать, играла с нею; основанная на правом берегу Бхагирати, она теперь находится на левом берегу той же реки. Кришнагар, лежащий километрах в десяти к востоку, на берегу Джеллинги, много превзошел Надию по важности; то же нужно сказать о двух очень значительных торговых городах Каль и Сантипур, находящихся ниже, на извилинах Бхагирати, которая уже приняла в этом месте название Хугли. Города этой области Бенгалии некогда славились своими учебными заведениями, а Кришнагар и ныне славится своим институтом санскритского языка и литературы. От другого древнего города, знаменитого своими школами, Трибени, не осталось ничего, кроме гата, или священной лестницы, по которой спускаются пилигримы, чтобы купаться в водах реки. Трибени, т.е. «Три Реки», названный так от слияния двух потоков с Гангом, не переменил имени с глубокой древности, восходящей слишком за восемнадцать столетий до нашего времени; Плиний и Птолемей упоминают о нем, как об одном из больших торговых городов Индии.
В Трибени мы уже вступаем в городской округ Калькутты. Древний порт Сатгаон или Саптаграм, т.е. «Семь Деревень», был долгое время главным торговым городом гангской дельты, но когда фарватер обмелел, место якорной стоянки судов должно было передвинуться, и португальцы, которые в то время прибыли в страну, основали город Хугли: это было в 1547 году. Церковь и Бандельский монастырь, которые еще видны на северной стороне города,—самые старые христианские здания, какие только существуют в Северной Индии. Португальцы оставались около столетия в своей колонии, но в 1629 году император Джахангир обложил осадой Хугли и взял город приступом; почти весь португальский флот был захвачен неприятелем, и пленные были перебиты или насильно обращены в магометанскую веру. В 1642 году явились, в свою очередь, англичане, и так же, как португальцы, скоро вступили в вооруженную борьбу с своими хозяевами; победа осталась за пришельцами, и Хугли сделался одним из их опорных пунктов для дальнейших завоеваний. Город Чинсурах, лежащий к югу от Хугли и составляющий с ним одно целое в отношении городского общественного управления, был голландскою колониею; только в 1826 году он окончательно уступлен Англии. Построенный в этом городе постоянный мост, длиною в 400 метров, соединяет две железнодорожные линии, идущие по обоим берегам Хугли.
Французская контора Чандернагор,—Чондан-нагар, «Город Сандального дерева», или Чандра-нагар, «Город Луны»,—напоминает времена, когда Дюпле старался завоевать для Франции Индийскую империю. Занятый французами в 1673 году, затем купленный у Великого Могола в 1688 году, Чандернагор сделался, в первой половине восемнадцатого столетия, значительным городом, и купеческие суда сотнями стояли на якоре перед его набережными; в 1757 году измена Террано предала его англичанам. Разоренный войнами, кордоном таможен, которыми он окружен со всех сторон, и обмелением реки, которая теперь имеет только три метра глубины на фарватере, Чандернагор остался, по крайней мере, одним из красивейших городов Бенгалии; его обветшалые храмы и дворцы окружены обширным садом, который образуют группы пальм, густые ряды индийских смоковниц и другие большие тропические деревья. Фараш-дунга, или «Французская община», занимает, со всею своею территориею, пространство 940 гектаров, и торговля её совершенно ничтожна; французские коммерческие корабли останавливаются в Калькутте.
Торговля Франции рекой Хугли в 1878 году: Привоз в Калькутту—7.006.000 франк. Вывоз из Калькутты —50.681.000 франк.
Все торговые нации Европы хотели иметь свои конторы на главной реке Бенгалии и получать свою долю драгоценных произведений страны. Ниже Чандернагора и на том же западном берегу Хугли датчане приобрели город Серампур, который они окрестили полудатским, полуиндусским именем Фредерикснагар. Проданный Англии в 1845 году, Серампур составляет теперь пригород Калькутты, и многочисленные негоцианты основали в нем свое обычное местопребывание. Этот город долгое время был средоточием протестантских миссий в Индустане, и его семинария религиозных пропагандистов есть значительное учебное заведение, библиотека которого заключает в себе редкия рукописи. Напротив Серампура, на левом берегу Хугли, виднеется прекрасный парк Баракпура, одной из резиденций вице-короля Индии. Это смешанное, полуевропейское, полуиндусское название Баракпур (барачный город) указывает на соседство военных кантонементов, которые заменили старую крепость Сиамнагар, построенную одним бардванским раджей. В 1824 году один полк сипаев, стоявший лагерем в Баракпуре, отказался идти на войну против Бармании и за это ослушание был истреблен.
Калькутта, столица Англо-индийской империи и, после Бомбея, многолюднейший город Южной Азии, появилась в относительно недавнее время. Правда, в этом месте существовала маленькая деревня, Каликота, упоминаемая в 1596 году в окладных реестрах, составленных по приказанию султана Акбара, но только около столетия позднее английские купцы, жившие в Хугли, покинули эту контору, чтобы поселиться на левом берегу реки, в местности, безопасной от набегов мараттов. Они построили свои магазины и жилища на том месте, где находились три деревушки, Сутанати, Каликота и Говиндпур, и имя центрального селения, напоминающее культ Кали, кровожадной богини, в конце концов одержало верх и сделалось названием всей колонии. Моряки и иностранцы переделали это наименование в Голгофу, намекая тем на ужасающую смертность нового города, который был окружен со всех сторон болотами, и грунт которого находился во многих местах ниже уровня речных наводнений. В наши дни различные кварталы ассенированы сетью сточных труб, прекрасными парками и чистыми водами, текущими в изобилии; в 1871 году смертность в Калькутте была меньше, чем во многих больших городах Западной Европы, каковы, например, Неаполь и Флоренция; тем не менее, пояс болотистых земель и рисовых плантаций, часто затопляемых, и теперь еще окружает город с восточной и южной стороны: обширное болото Даппаманпурское, называемое англо-индийцами «Соляным озером», простирается на востоке от Калькутты на пространстве около 80 квадр. километров и наполняется городскими нечистотами, отвозимыми туда по особой железной дороге, устроенной специально для этой цели. С 1871 года смертность снова возрасла, при том до такой степени, что стала перевешивать среднюю цифру рождений, и городское население с этого года постоянно уменьшалось, хотя число жителей вообще в пригангских равнинах возрасло в изумительных размерах.
Смертность в Калькутте: в 1871—23,9; в 1873 г.—25,8; в 1877 г.—31.9 на 1000.
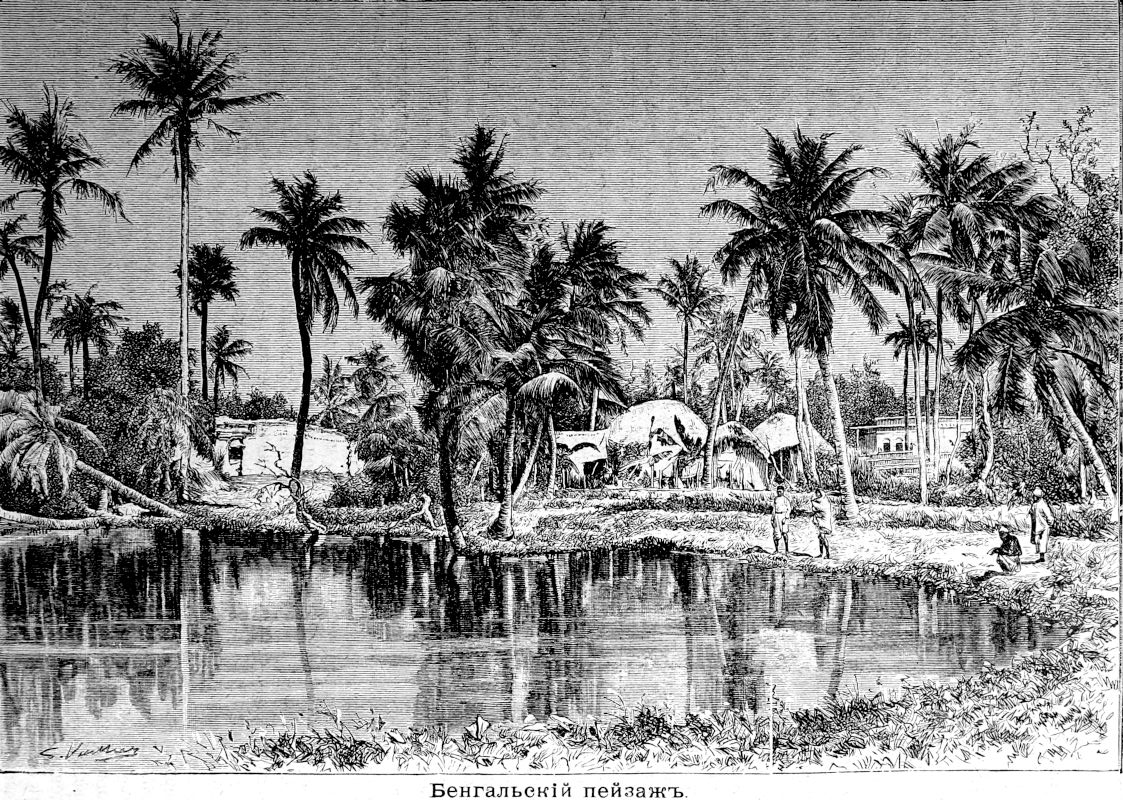
Обладание подвижною, изменчивою почвой, на которой водворились купцы ост-индской компании, досталось им не без борьбы. В 1756 году наваб Бенгалии, Сарадж-уд-Даула, обложил осадой цитадель и овладел ею; европейские пленные, в числе 146 человек, были заперты в тесную комнату, знаменитую «Черную Яму» (Black Hole), как ее называют английские летописцы, и на другой день, когда темница была отперта, в живых оказались только 33 человека; остальные, по недостатку воздуха и пространства, задохлись или были раздавлены. В следующем году военный флот, пришедший из Мадраса, отмстил за это злодеяние. Генералы Кляйв и Вильсон взяли обратно Калькутту, одержали решительную победу при Пласси, назначили нового наваба и предписали ему условия мира, в силу которых англичане получили право верховной власти над калькуттскою землей. С этой эпохи и начинается существование нынешнего города. На юг от старого форта, Кляйв воздвиг цитадель с звездчатыми бастионами, получившую название «форт Вильям», которая имеет не менее 3 километров в окружности и заключает в себе целый город и сады; на сторонах, которые ограничивают на севере и на востоке майдан, обширную эспланаду, где маневрируют войска и где прогуливается столичный бомонд, высятся те пышные строения с колоннадами и с фронтонами, за которые Калькутта получила название «города дворцов». Правда, что эти дворцы обращают на себя внимание только богатством материалов, из которых они построены, да правильностью своих архитектурных линий; это английские подражания греческого стиля; несмотря на разность климатов и народов, Калькутта и Петербург походят друг на друга холодною правильностью и банальным, казарменным видом и расположением своих зданий. Еще недавно в этой пышной столице Индии город дворцов составлял в высшей степени печальный контраст с «грязным городом»: северные и восточные кварталы, населенные туземцами, представляли непроходимый лабиринт переулков и закоулков, обставленных по сторонам грязными лачугами индусов; широкия улицы, проведенные теперь через этот черный город, дают доступ воздуху и свету; с своей стороны, и английский город содержит уже не мало улиц, постройки которых, более простые, чем богатые здания эспланады, отличаются в то же время и лучшим вкусом в архитектурном отношении. На западе, на правом берегу реки, основался другой город, под именем Хаурах, населенный по преимуществу моряками, промышленниками, ремесленниками всякого рода. Пловучий мост, разводимый на два часа в день для прохода судов, соединяет эти два города. Вдоль берегов Хугли, на некотором расстоянии одна от другой, устроены священные лестницы, или гаты, спускающиеся своими нижними ступенями в самую воду и постоянно унизанные индусами и индуссками всякого возраста, которые молчаливо предаются омовениям, образуя живописную картину своими подвижными, беспрестанно меняющимися группами. На северной стороне пловучего моста Нимтолахская лестница специально посвящена сожиганию умерших: труп покойника кладут на костер, брызгают на глаза несколько капель священной воды, затем накладывают кучки поленьев на тело, и вскоре от него остается только пепел да обугленные кости.
Выбор Калькутты в столицы британских владений в Азии ясно свидетельствует о чужеземном происхождении её основателей. Относительно Полуострова по сю сторону Ганга или передней Индии она занимает положение, совершенно внешнее, так как находится на окраине его: она, очевидно, есть лишь сборное место для торговых судов, приходящих за грузами произведений страны: это резиденция купцов, а не средоточие обширной политической империи, каковым было местопребывание Великих Моголов. Даже в Бенгалии Калькутта далеко не имеет того географического положения, какое приличествует естественной столице, выростающей, так сказать, из земли, благодаря сосредоточению местных энергий. При естественном ходе вещей, индийский Мемфис должен был возникнуть сам собою при начале разделения Ганга на рукава, и действительно, там именно, близ этой бифуркации, беспрестанно меняющей место, возникали, под владычеством азиатских династий, индусских и магометанских, следовавшие один за другим главные города Бенгалии: Надия, Гаур, Пандуах, Казимбазар, Муршидабад. Калькутта—это в сущности не что иное, как торговая контора или фактория, господство которой было навязано всей стране силами, пришедшими из чужих дальних краев, и которая могла изменить в свою пользу естественное направление главных путей сообщения только при помощи значительных искусственных сооружений. Оттого-то часто предлагали перенести столицу в другое место: Дели, Агра, Аллахабад, Джабальпур были рекомендованы как будущие столицы Индии, ради их центрального положения на Полуострове; имя Бомбея тоже было упоминаемо в этих проектах, в виду тех исключительных выгод, какие представляет этот город относительно удобства сношений с Европой: указывали даже Назик, на северо-западном углу Декана, как занимающий привилегированное положение в отношении здоровости климата, близости Бомбейского порта и легкости сосредоточения всех больших дорог Индустана. Но Калькутта имеет на своей стороне, если не права, даваемые временем, то, по крайней мере, громадные рессурсы, которые ей доставили её капиталы. Благодаря железным дорогам и линиям судоходства, нынешняя столица государства имеет легкое и удобное сообщение со всеми провинциями Индустана; кроме того, нужно принять в соображение то обстоятельство, что завоевания и мирные территориальные присоединения, сделанные на Полуострове по ту сторону Ганга, придали городу на Хугли положение центральное относительно всей совокупности Англо-азиатской империи; он занимает середину между Цейлоном и Сингапуром, между Аденом и Гонконгом. При том, можно сказать, что со времени основания летних городов на Гималайских предгорьях, столица Индии стала вести кочевой образ жизни. Летом, Калькутта перестает быть местопребыванием правительства: административным центром империи становится Симла, тогда как Дарджилинг делается временно главным городом Бенгальского президентства. Таким образом, главные управления Индии эмигрируют периодически, сообразно перемене времен года,—явление, беспримерное в истории больших государств.
В период своего слишком столетнего господства над богатою Индийской империей, Калькутта не только украсилась пышными памятниками зодчества, каковы вице-королевский дворец, здания высших правительственных учреждений, городская дума, судебная палата, главный почтамт, монетный двор, клубы, кафедральные соборы, построенные в греческом или готическом стиле, более или менее индианизированном,—она основала также много важных научных учреждений. Мало найдется во всем свете ученых обществ, которые оказали бы больше услуг науке, чем азиатское общество Бенгалии, и издаваемые им записки, ряд которых начался около ста лет тому назад, в 1788 году, составляют один из драгоценнейших источников для изучения Востока; его богатая библиотека обладает многими единственными в своем роде документами. Индийский музей, в Калькутте, заключает в себе полную коллекцию горных пород и ископаемых Индустана, и, между прочим, любопытные остатки фауны третичной эпохи, собранные в пластах гор Сивалик. Между калькуттскими парками особенно замечателен зоологический сад, менее богатый, однако, чем такой же сад аудского раджи, имение которого занимает пространство более двух километров вдоль левого берега, ниже города. Против дворца низложенного раджи раскинулся обширный ботанический сад, занимающий площадь в 109 гектаров; несмотря на опустошения, произведенные циклонами, там еще сохранились некоторые чудеса растительного мира, между прочим, сенегальский баобаб, окружность которого превышает 11 метров (7 сажен). Этот сад, разведенный в 1786 году, получил, под управлением Госкера, первостепенную важность; это, вероятно, важнейшее учреждение подобного рода, давшее свету наибольшее число полезных и орнаментальных или декоративных растений: гербарий его, без сомнения, самый полный во всей Азии.
Как промышленный город, Калькутта стоит ниже Бомбея; она имеет почти только те мастерские и фабричные заведения, какие необходимы всякому большому городу. Однако, пригород Хаурах, на западном берегу реки, представляет уже в одном из своих кварталов вид европейского мануфактурного города высокими трубами своих фабрик и заводов; здесь переработываются в нити и ткани волокна джута(по-индусски пат, кошта), или corchoris indica, и фабрикуются те грубые мешки, которыми пользуются моряки для нагрузки хлебных растений и других продуктов. В Калькутте существуют также и бумагопрядильные мануфактуры. В 1894 году в этом городе насчитывали 26 джутопрядилень, с 9.417 ткацких станков и 189.080 веретен, при 67.930 рабочих, 8 бумагопрядилен, с 324.038 веретен, 3 большие писчебумажные фабрики, 2 сахарных завода, несколько индиговых фабрик и 170 мелких промышленных заведений. Правительство тоже имеет большие промышленные заведения в самой Калькутте и в окрестностях; важнейшее из них—пушечно-литейный завод, в Козипуре, находящийся выше города по реке. Что касается роли города на Хугли в отношении распределения богатств, то он несомненно имеет первостепенное значение. Калькутта—один из главнейших портовых городов Азии и всего света: годовая ценность его торговых оборотов простирается до двух с половиною миллиардов франков, а движение судоходства достигает, по количеству грузов, почти двух миллионов тонн, не считая беспрестанного прихода и отхода мелких пароходов и туземных барок, плавающих в дельте Ганга. Вот точные цифры торговых оборотов. Обороты внешней торговли 1894 г. составляли около 700 миллионов рупий:
Движение порта по внешней торговле в 1893 году: пришло 271 паровое судно в 548.982 тонны и 146 парусных судов в 242.083 т.; отошло— 325 пароходов в 681.365 т. и 180 парусных судов в 295.603 тонны.
Об изумительной деятельности судоходства на тысяче каналов Бенгалии можно судить по тому факту, что городок Хульна, стоящий в центре этой сети водных путей, видит каждый год более ста тысяч судов, останавливающихся у его набережных. Известно, что не так давно калькуттские негоцианты, опасаясь обмеления реки Хугли, хотели было дополнить свой порт прибавкой другого торгового города на лимане рукава Матлах, имеющем от 8 до 50 метров глубины и безопасном от боры (борьбы приливной волны с речным течением); но ни один иностранный корабль не пошел к этой новой гавани, окрещенной именем порта Каннинга. Недалеко оттуда находятся рудники Тарда, которые были посещены португальскими мореплавателями еще до основания Калькутты. На северо-востоке лежит Джессор или Касба, маленький городок, но административный центр округа, в котором насчитывается свыше двух миллионов жителей.
Ниже Калькутты, вплоть до самого моря, удаленного от столицы на 128 километров, нет более городов; встречаются только деревни, на половину скрытые в густой зелени, да форты, сигнальные башни, маяки и бакены. Однако, на запад от метрополии простирается густо населенный бассейн притока Хугли, реки Дамудах или Дамодар, которая берет начало в холмах области Чота-Нагпор и соединяется в лимане с другим потоком, рекой Рупнараян. В этом бассейне есть еще несколько важных городов; Бардван, резиденция одного магараджи, получающего теперь пенсию от английского правительства,—самый значительный из них, но в Индустане мало найдется городов, которым приходилось бы больше страдать от болотной лихорадки (маларии); постоянный перевес смертных случаев над числом рождений уменьшил население Бардвана более чем на треть с 1863 года, а некоторые деревни, более других подвергающиеся губительному действию миазмов, поднимающихся с прибрежных болот реки Дамодара, были совершенно обезлюднены. Соседний город, Бишнапур, на который старинные хроники указывают, в одиннадцатом столетии, как на «славнейший город во всем свете», представляет теперь почти только развалины в черте громадного пространства, которое он некогда занимал. Другие города страны, Чандракона, Банкура, имеют некоторые местные роды промышленности, преимущественно производство шелковых материй и металлических изделий. Место, к которому, главным образом, устремляются английские капиталы, это Раниганджский каменноугольный бассейн, обширный горнозаводский округ, который заключает в своих богатых залежах по меньшей мере, 14 миллиардов тонн угля и который один доставляет две трети всего добываемого в Индии годового количества минерального топлива. Разработка тамошних копей началась с 1777 года, но по качеству раниганджский каменный уголь далеко уступает английскому. Самым деятельным годом эксплоатации был 1868, когда количество добытого в копях Раниганджа угля достигло 564.930 тонн; в 1879 году добыча составляла только 523.100 тонн. Уголь из копей Кархарбари, в горах области Чота-Нагпор, недалеко от горы Параснат, доставляемый по специальной, нарочно для этой цели построенной ветви железной дороги, считается лучшим в Индии, и в соседстве, на линии, простирающейся на запад через Хазарибаг и Паламао, вплоть до Дальтонганджа (Дальтонов рынок), в долине реки Соны, следуют один за другим другие каменноугольные бассейны, которые способствуют в известной степени поддержанию и развитию промышленной деятельности страны, доставляя топливо и железо её чугуноплавильным и железоделательным заводам и локомотивам железных дорог Бенгалии. Замечательно, что в бенгальских каменноугольных копях никогда не образуется так называемый рудничный газ, так что тамошним рудокопам нет надобности принимать против взрывов ни одной из тех предосторожностей, которые необходимы в Европе. Это тоже одна из выгод географического положения Калькутты, что она находится по близости от единственных каменноугольных бассейнов Полуострова, имеющих действительную экономическую ценность.
Несмотря на очень нездоровый климат низменных болотистых местностей страны, народонаселение в округе Чота-Нагпор возрастает быстрее, чем во всех других округах Бенгалии. Хазарибаг, славящийся своим чистым, здоровым воздухом, постоянно разростается и приобретает все более и более важное значение, как место дачной жизни для английских негоциантов Калькутты. Там и сям, в особенности на скатах горы Параснат, увенчанной джайнскими святилищами, джунгли уже уступили место чайным плантациям; но проект основать летний город на вершине горы почему-то оставлен. На севере, в равнине, по которой проходит железная дорога, непосредственно соединяющая Калькутту с Патной, находятся храмы, еще более усердно посещаемые пилигримами, чем пагоды на горе Параснат: это святилища Деогара, или «Божьего Замка», посвященные богу Сиве. В прошлом столетии эти храмы были отдаваемы ост-индскою компанией на откуп жрецам, и каждый приходивший на поклонение святым местам богомолец должен был платить известный налог в пользу английской казны.
К западу от Калькутты, единственный большой город страны—промышленный Миднапур, стоящий на реке Касаи и сообщающийся с рукавом Хугли посредством судоходного канала, проведенного через низменные равнины. Город Тамлук, на правом берегу Рупнарайяна, в том месте, где морской прилив превращает эту реку в широкий лиман, который, по мнению Фергюссона, был некогда лиманом Хугли, есть древний Тамралапти, столица государства и очень оживленный порт в эпоху буддийского господства. Китайский путешественник Гиуэн-Цанг, посетивший страну в седьмом столетии после Р. X., говорит о нем как о большом городе, богатом прекрасными памятниками зодчества. Но впоследствии река засорилась илом, обмелела, и суда перестали посещать Тамлук; теперь это не более как большое местечко, которого дома и храмы мало-по-малу погружаются все глубже в нетвердую почву.
Города Гангского бассейна, с населением свыше 20.000 душ:
Пенджаб: Дели—192.579 жит.; Карнал—27.025 жит.; Панипат—27.547 жит.; Ревари—25.230 жит.
«Северо-западныя» провинции: Бенарес— 219.457 жит.; Агра—168 662 жит.; Аллахабад—175.246 жит.; Каунпор—188.712 жит.; Барели—121.039 жит.; Мират—119.390 жит.; Фаррухабад и Фатехгар—78.032 жит.; Шахджаханпур—78.522 жит.; Мирзапур—84.130 жит.; Морадабад—72.921 жит.; Муттра (Матра)—61.195 жит.: Койл (Алигар)—61.485 жит.; Горахпур—63.620 жит.; Самбхал—46.975 жит.; Сахаранпур—63.194 жит.; Амроа—34.900 жит.; Будаон—33.680 жит.; Этава—34.721 жит.; Пилибхид—33.799 жит.; Банда—28.974 жит.; Гатрас—23.600 жит.; Джаупур—23.325 жит.; Деобанд—21.700 жит.; Майнпури—21.175 жит.
Государство Рампур: Рампур—76.733 жит.
Ауд: Лукнау (Лукноу)—273.028 жит.; Файзабад—78.921 жит.
Бенгалия: Калькутта, с пригородами—810.786 жит.; Гаурах—116.606 жит.; Патна—165.192 жит.; Багальпур—69.106 жит.; Гайя—80.383 жит.; Дарбханга—73.561 жит.; Чапра—57.352 жит.; Муршидабад—35.576 жит.; Арра—43.000 жит.; Музаффарпур—38.225 жит.; Хугли и Чинсура—33.060 жит.; Бардван—34.477 жит.; Миднапур—31.500 жит.; Сантипур—30.437 жит.; Хульна—27.350 жит.; Бархампур—30.000 жит.; Кришнагар—26.750 жит.; Серампур—35.952 жит.; Хаджипур—22.300 жит.; Рампур Баолеах—22.300 жит.; Чандракона—21.300 жит.; Сасарам—21.025 жит.; Джаханабад—21.020 жит.
Французские владения: Чандернагор (1895 г)—24.000 жит.