Глава II Индустан
I. Общий вид страны
Имя Индустан—персидского происхождения; оно означает «Земля индусов», и есть, в несколько измененной форме, то же самое, что и древнее название «Индия», применяемое к полуострову Ганга уже со времен, предшествовавших истории. Откуда произошло это слово, которое во времена великих географических открытий, ознаменовавших пятнадцатое и шестнадцатое столетия, было употребляемо для всех стран тропического пояса и которым до сих пор еще обозначают Антильские острова и прибрежные земли Караибского моря, точно так же, как полуострова и острова юго-восточной Азии? По толкованию большинства комментаторов, это имя есть не что иное, как название реки Синду, переделанное западными народами в Инду, Индос, Индус или Инд: весь полуостров, как они полагают, был назван по имени главного потока, который орошал поля первобытных арийцев. Но эта этимология показалась уж слишком простой, что и помешало ей сделаться общепринятой. Уже буддийский пилигрим Гиуэн-Тсанг производил имя страны от слов ин-ту, означающих «луну», на том основании, что жрецы просвещали свое отечество, отражая, как месяц, свет солнца. Другие видят в названии Индии имя бога Индры, рука которого также управляет движением луны на небесах, так что, следовательно, Индустан есть по преимуществу «подлунный мир». Полуостров Ганга носит также разные поэтические наименования: это Сударсана или «Вьюнок», Бхарата-варша, «Плодородная страна», «Цветок лотоса», или, наконец Джамбу-двипа, «Ямболовый остров», названный так в честь одного красивого индийского дерева из семейства миртовых—ямболы или евгении (Eugenia jambolana); на одной из гор Гималайского хребта стоит одно из этих дерев, «святое, бессмертное, достающее небес, обремененное плодами, которые падают на землю с оглушительным шумом и выпускают из себя целые реки сока». Что касается названий Ариа-варта, Ариа-бхуми, Ариа-деса, «земля, область или край арийцев», данных стране расой завоевателей, то они могли применяться только к местностям, занятым арийцами, то-есть к бассейну «Семиречья» и к равнинам, простирающимся на восток до Джамны. История ведийских арийцев останавливается на той эпохе, когда эти выходцы с северо-запада пришли на берега Ганга. Но их преемники, привилегированные члены высшей касты, без сомнения, имели притязание на всю обитаемую ими страну, считая ее как бы своим частным владением: Гиуэн-Тсанг, между другими именами нынешней Индии, упоминает также название «царства поломенов», то-есть браманов.
Естественные границы Индустана так ясно очерчены, что единство полуострова, даже принадлежащего различным расам и разделенного на многие враждебные друг другу государства, было сознаваемо во все времена; как некогда Италия, Индия всегда имела значение «географического выражения». На протяжении около 12.000 километров море и горы совершенно опоясывают страну, громадную территорию, поверхность которой заключает не менее 3.750.000 квадр. километров, то-есть, в двенадцать слишком раз превышает площадь Британских островов, или составляет более трети Европы, и которая простирается от экваториальных областей до 12 слишком градусов внутрь умеренного пояса. Пространство Индустана, включая сюда французские и португальские владения, а также Непал, Бутан, маленькия независимые государства в Гималайских горах и Сингпо, но без Манипура, Джиттатонга и английской Бармании, исчисляется в 3.753.358 кв. километров. Пространство Индустана, с островом Цейлоном, островами Малдивскими, Лакедивскими и островками Чагос, определяют в 3.826.034 квадратных километра. Правда, браминские ученые и европейские географы, увлеченные манией условных делений, хотели было принять течение Инда за северо-западный предел Индустана; но не изменчивое ложе рек, а горы с их климатическими поясами, с их населениями, ведущими образ жизни, совершенно отличный от образа жизни обитателей равнин, составляют истинные границы между странами. Туземцы бассейна Инда никогда не ошибались на этот счет; во все времена они понимали контраст, существующий между «теплою областью», где находятся их города, и «холодною областью» плоскогорий и возвышенных долин, населенных теперь афганцами, и на горы, известные в наши дни под именами Сефид-кух, Сулейман-даг, Хиртар, они всегда смотрели и смотрят как на естественную границу своего отечества. Если брамины, ревниво сберегающие чистоту своей веры, запретили поклонникам Брамы переходить за Инд, то этот запрет, явившийся в относительно недавнее время, был вызван магометанскими нашествиями, которые имели следствием перемену религий в северо-западной части Индии. Тогда как браманские общины встречаются еще в довольно большом числе во всех частях Пятиречья, лежащих к востоку от Инда, они очень редки на западе от этой реки.
С самого начала исторических времен индусы знали истинную форму обитаемого ими полуострова; когда геометры экспедиции Александра Македонского прибыли на берега Инда, сведения, которые им дали и которые были подтверждены впоследствии посланникам сирийских царей, позволили им составить карту, совершенно точную в её общих контурах. По Эратосфену, который утилизировал собранные греческими исследователями данные, Индия имеет форму неравностороннего четыреугольника, и длина, которую он дает различным сторонам, приблизительно совпадает с истинными размерами. Но хотя окружность полуострова далеко не отличается геометрическою правильностью, однако, прекрасное равновесие страны, симметрически расположенной между двумя морями, которые омывают ее на востоке и на западе, и у подножия величественных гор, которые господствуют над нею на севере, естественно должно было увлечь индусских ученых к преувеличениям относительно ритма внешних очертаний их отечества. Разбирая описание земли, составленное индийским мудрецом Санджаей, ученый комментаторы пришли к тому заключению, что Индустан представлялся ему в виде равностороннего треугольника, совершенно правильного, разделенного на четыре второстепенных треугольника, равных между собою, но в том же самом рассказе Санджая сравнивает так же поэтично, хотя и менее верно, «круг Джамбу-двипы» (Ямболового острова) с военным диском, потом с четырелепестным лотосом. Это последнее сравнение страны с «священным цветком» было, повидимому, самое обыкновенное, общепринятое, и о нем упоминают буддийские пилигримы, приходившие из Китая. Астрономы шестого столетия христианской эры опять берут, для сравнения, фигуру лотоса, чтобы разделить Индию на девять частей, соответствующих центру цветка и восьми лепесткам, имя которых, впрочем, несколько раз менялось. Даже весь свет был сравниваем с огромным цветком, состоящим то из четырех, то из семи или девяти лепестков, соответствующих такому же числу двип, «островов» или полуостровов, расположенных концентрическими кругами вокруг Меру, «золотой горы», которая служила местопребыванием богов. Каждый из этих кругов земель был окружен отдельным океаном, образованным колеей колесницы Приявата.
После Александра Великого и Селевкидов, истинная форма Индустана была забыта греками, ученые комментаторы, овладев старинными документами, мало-по-малу исказили их, придавая им смысл, совершенно отличный от того, который они имели на самом деле. В географии Птоломея Индия по сю сторону Ганга уже утратила форму полуострова; очень расширенная по направлению от востока к западу, она, напротив, съуживается по направлению от севера к югу, и некоторые из её мысов получают более важное значение, чем мыс Коморин; несмотря на составленную сеть широт и долгот, форма Индии была так искажена александрийским географом, как она не была искажена даже мистической фигурой цветка лотоса. Градусы, означенные на картах, послужили только к тому, чтобы увековечить ошибочное представление, которое и продолжало господствовать до той эпохи, когда японские мореплаватели могли обследовать истинное положение индийских берегов. Со времени знаменитого путешествия Васко-де-Гамы истинная форма полуострова Ганга постепенно восстановилась для географов, и французский географ д’Анвиль мог резюмировать все наблюдения своих предшественников в своей превосходной карте, которая вышла в свет в половине восемнадцатого столетия; но первые топографические съемки явились только в 1763 году, вместе с исследованиями Реннеля, «отца индийской географии», относительно равнин по нижнему течению Ганга. Около сорока лет спустя, в 1802 году, Лембтон начал от Мадраса, как исходного пункта, работы по триангуляционной съемке, которая в 1882 году еще не была вполне окончена. Правда, что это труд громадный, и препятствия и лишения всякого рода, которые приходится одолевать и переносить его исполнителям, лихорадки, постоянно свирепствующие в джунглях и болотистых местностях, делают его более опасным для человеческой жизни, чем даже поле сражения; смертность всегда была менее сильна среди индийских солдат в походе и на войне, нежели среди географов топографической бригады. В настоящее время геодезические операции продолжаются по ту сторону Соломоновой горы (Сулейман-даг), в Афганистане и Белуджистане, на севере они проникают в долины и на гребни Гималайских гор, в ожидания того времени, когда можно будет продолжать через Тибет измерение «большой дуги» меридиана, которая начинается на мысе Коморин и должна со временем окончиться на сибирских мысах, в Ледовитом океане; на востоке сеть треугольников проникает из Ассама в Верхнюю Барманию и соединяется с Банкоком через бассейны рек Иравадди и Салуэн. Окончательная карта, состоящая из 177 листов, которая должна резюмировать результаты исследования Индии, а также западных берегов Индо-Китая и полуострова Маллаки, уже составлена на две трети, и тысячи специальных карт и планов раскрывают перед нами все географические детали страны.
В совокупности своего рельефа, Индия по сю сторону Ганга состоит из двух областей треугольной формы, имеющих общее основание и резко отличающихся одна от другой; эти две области—Южная Индия и северная индо-гангесская равнина, которые Карл Риттер, в своих мемуарах по географии, сравнивал с Апеннинским полуостровом и с равнинами по течению По, окаймленными полукруговым валом Альпийских гор. Действительно, во многих отношениях конфигурация земель на азиатском континенте напоминает контуры Европы. Каждая из этих двух частей света разрезана на юге на три полуострова, имеющие общее сходство по некоторым своим чертам Индия—это азиатская Италия. Но пока истинная причина этих отдаленных аналогий между континентальными формами Европы и Азии нам не известна, достаточно указать на них, не пытаясь искать в этом факте, как это часто делали, какое-то мистическое соответствие между различными частями земного шара.
Южный треугольник Индии, берега которого тянутся от устья р. Нарбады до устья р. Маханадди, представляет возвышенность, область горных цепей и плоскогорий: это та половина Индустана, которой следовало бы оставить специально название «Полуострова». Центральная часть этой территории, Декан, прежде Декшин или Дакшина-пата, то-есть, «Юг» или «земля, лежащая по правую руку» (когда смотришь на восток), представляет страну различной высоты, среднее возвышение которой над уровнем моря от 300 до 1.000 метров и которая в целом имеет покатость по направлению от запада к востоку. Декан состоит, почти на всем своем протяжении, из плоскогорья образованного из гнейса и переходных формаций, которое некогда составляло почти островную группу, в ту эпоху, когда Северная Индия была частью покрыта водами океана. Но эти первые или основные пласты Декана покрыты, на пространстве слишком 500.000 квадр. километров,—то-есть на пространстве, равном площади всей Франции,—застывшими потоками базальтовых трапов большой толщины, имеющими в некоторых местах мощность в несколько сот и даже более тысячи метров; там и сям на плато из лав перерезанные оврагами крутые утесы, возвышающиеся в виде холмов, указывают конечный откос потоков лавы, вышедших в жидком состоянии из вулканических кратеров, давно уже изгладившихся и не оставивших после себя никаких следов. Эти вулканические излияния происходили в течение мелового периода и даже в первые времена эоценовых веков; но с той эпохи почва Декана пребывает в состоянии покоя, и периодическое чередование дождей, ветров, жаров и холодов, исполняя свою работу обнажения формаций, разрушило во многих местах обшивку лав, которая некогда занимала гораздо более значительное протяжение, чем в наши дни. Кроме того, поверхность трапов разложилась под влиянием атмосферных деятелей и преобразовалась в слой латерита, горной породы, которая, может быть, вне Индустана и Индо-Китая не встречается нигде, кроме мыса Доброй Надежды: это железистая глина, образующая слой толщиной от 10 до 60 метров и продолжающаяся в виде бесконечных равнин, серых или красноватых, покрытых скудною растительностью: глина эта испещрена, словно лентами, полосами ржавого цвета, которые часто придают ей вид яшмы; в других местах она походит на лаву. Дождевая вода тотчас же исчезает в скважинах этой горной породы, и поверхностная земля, впрочем очень тонкая, остается всегда сухой и жадно впитывает влагу. Целые, довольно толстые слои этой формации, смешанные с обломками всякого рода, с гравием и песком, были увлекаемы с плоскогорий и переносимы ветрами и дождями в нижния долины и равнины; даже на берегу моря можно встретить эти латериты, передвигаемые и округляемые волнами. Они принадлежат, по большей части, недавней эпохе, и, вероятно, эта горная порода образуется еще и в наши дни.
Треугольное плоскогорье Декана с трех сторон ограничено краевыми горными цепями. Самая правильная из них—это цепь западных Гатских гор, называемая также горами Сагиадри, особенно около северной её оконечности. Прерываемые там и сям брешами и даже широкими порогами, Гатские горы образуют в целом ряд параллельных кряжей, идущих по направлению от запада к востоку и соединяющихся своим западным краем. С морского прибрежья они представляются в виде непрерывного выступа, крутые скаты которого тянутся параллельно берегу на пространстве около 1.300 километров, от берегов р. Тапти до мыса Коморин. Только узкая полоса ровных земель, занятых там и сям короткими потоками, разделяет горы и море; это область «нагорных берегов», или конканов. В некоторых местах высокие мысы с обрывистыми стенами, выдвигаясь из массы плоскогорья, купают свои утесы в пенистых водах Аравийского моря. Из портов или бухточек прибрежья ясно видны вдали вырезки синеватых гор, через которые путешественники могут перебраться на противоположный склон; зеленеющие террасы, по которым взбираются крутыми извилинами и зигзагами обыкновенные и железные дороги, кажутся издали как бы ступенями монументальной «лестницы»; отсюда и название ghat, данное этим горам. Над горными проходами высятся валы из лавы, оканчивающиеся кругообразными выступами,— естественные крепости, которые государи Декана обставили башнями и превратили в неприступные твердыни.
Среднее возвышение западных Гатских гор всего только около 1.000 метров; во многих частях своего протяжения они не достигают даже половины этой высоты, но некоторые вершины превышают 1.400 метров, а в 350 километрах от конечного выступа краевая цепь, соединенная с другими отрогами, поднимается на значительную высоту и образует массив из гнейса и порфира, получивший, подобно многим другим собраниям горных вершин, имя Ниль-гири, или «Голубых гор». К югу от этой группы, высшая точка которой лежит на 2.650 метров слишком над уровнем океана, стена Гатских гор вдруг прерывается широкою брешью, долиной Паль-гат, которая, повидимому, некогда была морским проливом и над которой господствует, с южной стороны, самый высокий массив Индии в собственном смысле, называемый Анамалах, или «Слоновой горой». Анамуди, или «Чело слонов», высочайшая вершина этой гористой области, почти островной, превышает метров на тридцать Додабетту, главную вершину Голубых гор (Ниль-гири); только в половине истекающего столетия, именно в 1851 году, англичанин Микель (Michael), посланный на поиски тековых лесов, так сказать, впервые открыл эту прекрасную горную страну, эту «дравидийскую Швейцарию»; до того времени только издали видели её гнейсовые и порфировые вершины, обрисовывающиеся на более светлом фоне неба, так как подступ к ней прегражден поясом болотистых лесов, часто посещаемых лихорадкой. Слоновые горы разветвляются на юго-восток, по направлению к острову Цейлону, выделяя из себя цепь Пальни, высота которой еще превышает два километра, и затем продолжаются на юг менее возвышенной грядой, названной, по имени главного её продукта, «Кардамоновыми горами». Эта цепы оканчивается пологим скатом на Камари, или Коморине, «мысе Девы», куда и до сих пор еще, как во времена первых греческих мореплавателей, приходят купаться, в честь богини Дурги, в смешанных водах двух морей. Вся полуденная часть Индии, к югу от пролома Паль-гат и долины Кавери, может быть рассматриваема как независимый массив: природа как будто пытается образовать там другой остров Цейлон по рельефу и контурам, да и самый Цейлон, на половину соединенный с континентом подводными скалами «Моста Рамы», принадлежит геологически к цепи Гатских гор.
Краевая цепь восточных Гатских гор начинается лишь на севере от понижения гребня или долины, где бегут извилистой линией воды реки Кавери. Так же, как и западная цепь, восточные Гатские горы тянутся в направлении, параллельном соседнему морскому берегу; но, расположенные на низком склоне плоскогорья, который имеет общую покатость по направлению от запада к востоку, они, в среднем, менее высоки и разделены на множество отрывков широкими долинами и ущельями рек. Можно сказать, что восточные Гаты, среднее возвышение которых всего только около 500 метров, состоят из отдельных массивов и отрогов, составляющих просто внешние края или борты Декана. На юге первый из этих массивов—горная масса Шиварай, господствующая над низменными равнинами Пондишери; на севере ряд горных цепей оканчивается в Ориссе группой, называемой Ниль-гири, или «Голубыми горами», как и группа полуденной Индии, но только вдвое менее высокой. Выступы, господствующие над плоскогорьем, соединяются разнообразно с горами морского прибрежья и образуют там и сям целые лабиринты долин, которые до недавнего времени считались недоступными.
Северная граница возвышенностей Декана обозначена не одной только краевою цепью: две внешния гряды гор и многие группы вершин, подобные выдвинутым веркам крепости, составляют этот раздельный пояс между плоскогорьями юга и равнинами севера Индии. Собственно краевою цепью следует считать ту, которая тянется с запада на восток, к югу от долины реки Тапти: её высшая точка, около географического центра полуострова, находится в массиве Магадео, или «Великого Бога». Другая, параллельная цепь идет между реками Тапти и Нарбадой: это гряда Сатпура, которой западная часть, совершенно вулканического происхождения, сливается на востоке своими хребтами из метаморфических пород с изрезанным оврагами плоскогорьем центральных провинций; продолжаясь по направлению к пригангским равнинам, эта цепь оканчивается базальтовыми холмами Раджмагаль, покрытыми, как и часть Декана, пластом латерита, и священными горами Параснат. Этот естественный рубеж Деканского плоскогорья составляет в то же время и этнографическую границу: на севере останавливаются населения арийских языков, тогда как на юге от гористого пояса, окаймленного полосой нездоровых и мало обитаемых джунглей, везде живут дравидийские народности.
При внимательном изучении карты Индустана не трудно убедиться, что краевая цепь полуостровного плоскогорья продолжалась некогда на восток к горам Гарро и другим массивам, ограничивающим с восточной стороны долину Брахмапутры: очевидно, две большие реки, Ганг и Брахмапутра, проложили себе путь через какую-нибудь расселину древней цепи и мало-по-малу размыли ее, унеся обломки в Бенгальский залив; пролом, разделяющий теперь два отрывка горной массы, имеет не менее 200 километров ширины. При том, горная цепь южного Ассама, которая, тянется с запада на восток и северо-восток, также находится в геологической связи с этими горами и напоминает своим образованием передовые цепи, которые в северо-западных провинциях ограничивают невысокие плато, расположенные при основании снеговых гор. Так же, как и эти высоты, Ассамские горы состоят в большой части из третичного песчаника и раковистого известняка, залегающих на более древних формациях. Средняя их высота от 1.200 до 1.500 метров, а высший пик, Шиллонг, поднимается на 1.962 метра над уровнем моря. Различные части этого горного вала, который на востоке примыкает к хребтам барманской границы, носят различные названия, по имени живущих там племен: это горы Гарро, Хази, Джайнтиа, Качар, Нага. Англичане часто называют их общим именем Ассамских холмов (Assam hills).
На севере от реки Нарбады, которую иногда принимают за раздельную линию между двумя половинами Индии, другие цепи, означаемые более специально под именем гор Виндиа,—именем, которое вообще приписывалось древними поэтами также всей совокупности горной перегородки Индустана,—направляются от западных берегов полуострова к равнинам по течению реки Джамны; но они не образуют в целом географической границы: ни одна из их вершин не возвышается более чем на 150 метров над уровнем окружающих земель. На западной оконечности гор Виндиа, один передовой массив, известный под именем Раджпутских гор, выделяет из себя в северо-восточном направлении скалистую цепь Аравалли, тогда как одна вершина, почти уединенная, гора Абу, увенчанная некоторыми из самых знаменитых святилищ Индустана, поднимается над пустынными равнинами, продолжающимися далеко по направлению к Инду. Почти все горные породы средней части Индии принадлежат к очень древним формациям, и эти-то породы заключают в себе важнейшие каменноугольные пласты, равно как богатейшие рудные месторождения. В группе гор Чалчир, между Ориссой и центральными провинциями, геологи наблюдали глины глетчерного происхождения и скалы, испещренные полосами или бороздами и отшлифованные; это еще один лишний пример, прибавленный к многим другим фактам того же рода, свидетельствующим о существовании ледяного периода в странах тропического пояса, лежащих на незначительном возвышении над уровнем моря. Точно также сходство, которое представляет ископаемая флора каменноугольных пластов Южной Индии и Австралии, служит несомненным доказательством того, что эти земли, теперь удаленные одна от другой почти на 9.000 километров, составляли в давния времена часть одного и того же материка.
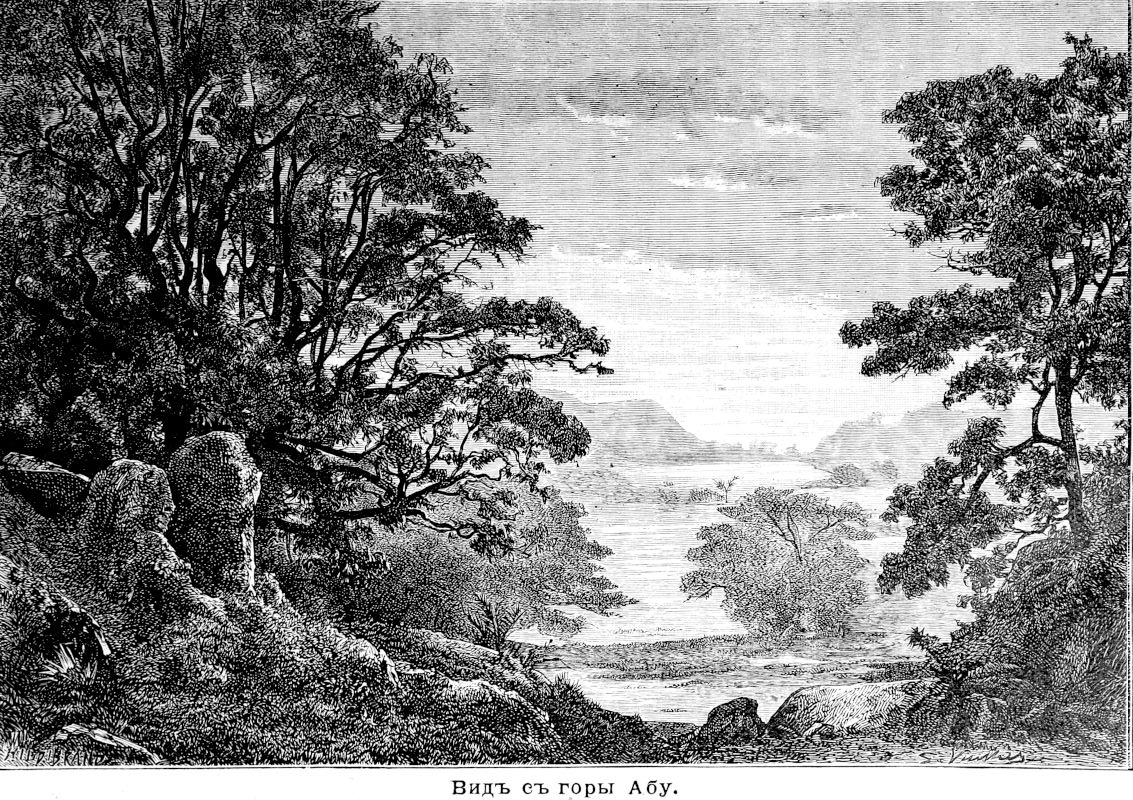
Большая треугольная равнина севера Индии, образуемая двумя нижними бассейнами Инда и Ганга и промежуточными пространствами, занимает в ширину протяжение около 2.400 километров, равное расстоянию от Парижа до Москвы: это страна, которой персы дали специально имя Индустана,—название, которое теперь применяется к целому полуострову. Эта область, хотя менее обширная, нежели область плоскогорий и горных цепей Южной Индии, и хотя занятая частью, между горами Аравалли и рекою Индом, бесплодными, совершенно необитаемыми пространствами, есть, однако, самая многолюдная из двух половин Индии; 160 миллионов жителей скучены в орошаемых местностях равнины, тогда как Декан и географически принадлежащие к нему округи населены только сотней миллионов людей. Вследствие контраста, который представляют эти две области, история населений должна была следовать с той и другой стороны совершенно различным течениям. Северный бассейн, нивеллируемый и оплодотворяемый реками, которые через него протекают, естественно сделался большим притягательным фокусом для окружающих наций. Земледельцы сгруппировались в этих плодоносных местностях; там возникли многочисленные города и рынки, центры торгового движения, промышленность быстро развилась, цивилизация совершила свои чудеса. Но там же, в этой области, последовательные нашествия чужеземцев вызвали самые сильные столкновения народностей, и потому там всего чаще переменялись или обновлялись расы. Обширный бассейн, окруженный со всех сторон более возвышенными областями, индо-гангская равнина была, так сказать, заранее выставлена, подобно Северной Италии, вторжениям всех своих соседей. На западе афганцы и даже завоеватели, приходившие из-за Гинду-куша, находили широко раскрытые двери, чтобы спускаться с гор к этим богатым плодородным равнинам и этим пышным городам, которые наполняются сокровищами в течение самого короткого периода мира; на севере воинственные народцы горных цепей были отделены от земледельцев равнины только узким поясом болотистых пространств; также и на востоке дикия племена гор, откуда вытекает Брахмапутра, видели перед собою дороги, удобные для их разбойничьих экспедиций. В течение веков чужеземные набеги возобновлялись беспрестанно то на одном, то на другом пункте, и иногда эти вооруженные посещения принимали характер настоящих переселений. Таким образом, в продолжение исторического периода масса населения не переставала изменяться и обновляться в равнинах Инда и Ганга. Древние расы, языки былых времен не встречаются более в этих краях, которые так часто были опустошаемы огнем и мечем, тогда как плоскогорья и лесные долины полуденной Индии могли сохранить в их первобытной чистоте многие племена, имеющие до сих пор ту же физическую внешность, тот же язык, те же нравы и обычаи, как две или три тысячи лет тому назад; но эти народцы должны были роиться, когда их ульи переполнялись, и в какую же сторону должны были направляться преимущественно их эмигранты, воинственные или мирные, если не к прекрасным городам равнины, которые манили их своими золотыми, ярко блестевшими куполами? В этом отношении мы замечаем на полуострове Индии контраст, подобный тому, какой представляет Франция, впрочем, в гораздо меньших размерах. Обе эти страны имеют на севере свой фокус притяжения, на юге—свой центр рассеяния. Но выходцы с плоскогорий и гор не только спускались к северным равнинам; они направлялись также по самой окружности полуострова, вдоль берегов Карамандельского и Малабарского. От внутренних, более возвышенных областей народонаселение постепенно увеличивается численно по направлению к морскому прибрежью, где следуют одни за другими непрерывным рядом города и деревни, утопающие в зелени. Совершенно естественно также, что в Южной Индии военные кампании, передвижения народов, образования государств, словом, все историческое движение, происходили, главным образом, на той покатости, которая наклонена к Бенгальскому заливу, так как в этом направлении тянутся более пологие склоны гор, открываются широкия долины и текут большие реки; западный склон Декана круче, чем восточный.
Гималай, который иногда рассматривают как часть Индустана, есть в действительности особый мир, индийский—по своему основанию, по растительности, по климату и по вытекающим из него рекам, тибетский—по громадной выпуклости земного рельефа, которой он составляет полуденный край. Но этот хребет есть в то же время продолжение горба Азии. Название «кровля мира», которое обыкновенно применяют к одному Памиру, принадлежит в действительности всем плоскогорьям и всем горным цепям, которые занимают центр континента, от Гинду-куша до Сечуанских Альп и от Тянь-шаня до Ассамских гор. Эти раздельные хребты, имеющие общее протяжение в несколько тысяч километров, составляют, так сказать, особый континент, поставленный на материк нижней Азии. Главные территориальные деления этой части света, естественно, те, которые очерчены этими могучими горными массами. На северо-западе, бассейн Аму-Дарьи начинает собою обширную низменность русской Азии; на северо-востоке, таримские пустыни продолжаются невысокими плоскогорьями Монголии и равнинами Китая; на северо-западе, Гинду-куш прикрывает Афганистан и Персию, тогда как на юге и на юго-западе открываются глубокие бассейны Инда и Ганга.
Из всех этих частей разветвленного горба Азии самая возвышенная, если не по всей совокупности своей массы, то, по крайней мере, по высшим выступам своего гребня, есть, вероятно, Гималай; но с полною уверенностью мы еще не можем этого сказать, так как высшие точки Тибетского плоскогория и Западного Сечуана и даже отчасти высшие точки загималайской цепи ожидают еще исследователя, который измерил бы их. В начале настоящего столетия англичане, видя высокие, покрытые вечным снегом вершины Гималая, поднимающиеся над равнинами Ганга, не знали еще относительной важности этих гор в планетном рельефе; со времени исследований Бугера и Кондамина в экваториальных Андах стали смотреть на Чимборасо как на гиганта между горами земнаго шара, хотя эта гора не имеет права на первенство даже в пределах южно-американского континента. Однако, Вильям Джонс, в 1784 году, составляя мемуар, который был издан в свет только двадцать лет спустя, высказал мнение, что Гималайские горы—«самые высокие на всей земле». В 1805 году, Крауфорд, первый, измерил высоту некоторых из колоссов, господствующих над долинами Непала, и указал на них географам как на горы, далеко превосходящие, по высоте, южно-американские Анды; но между его соотечественниками нашлись люди, оспаривавшие справедливость его выводов, и так как его путевой журнал затерялся, то вопрос был окончательно решен лишь сорок лет спустя, в 1845 году, когда, производилась, под управлением Эндрью Уога, топографическая съемка западного Гималая и гор Сиккима. Уог первый обследовал и измерил, на общей границе Тибета и Непала, ту «Лучезарную» гору, Гауризанкар, вершина которой поднимается выше всех других до ныне измеренных выступов рельефа земного шара над поверхностью морей, именно почти на 9 километров, то-есть достигает высоты, в два раза превосходящей высоту Мон-Розы. Замечательно, что тоже на глубине около 9 километров была открыта, кораблем «Tuscarora», в Тихом океане, против восточных берегов Японии, величайшая, известная до сих пор морская бездна; общая разность неровностей земного рельефа, между высшей точкой Азии и самой глубокой впадиной её морей, составляет около 17 с половиной километров (вот точные цифры: высота Гауризанкара 8.840 метр., глубина пучины, открытой кораблем «Тускарора», 8.573 метр., расстояние между этими двумя точками, по вертикальной линии, 17.413 метров). Это неровности вполне ощутительные относительно размеров нашей планеты; выступ рельефа, образуемый Гауризанкаром, представляет около 720-й части земного радиуса.
Среди санскритских и тибетских названий, которые носят различные вершины Гималайских гор, английское имя Эверест, которое Уог дал, в память своего предшественника, «Лучезарной» горе, кажется странным и даже шокирующим; но не справедливо ли, чтобы деятельное и плодотворное участие, принятое европейской наукой в деле исследования Индии, было заметно хоть сколько-нибудь в географической номенклатуре, и чтобы какое-либо определенное наименование, хотя бы и чужеземное, заменило те буквы и цифры, которые инженеры-топографы, не знавшие туземных названий, должны были употреблять на первых порах? Хотя индусы, без сомнения, знали большие массивы, которые высятся на южном краю Тибетского плоскогорья; хотя они воспевали их в своих поэмах, прославляли в своих молитвах; хотя они перечислили тысячи бесплотных духов, которые кружатся над их вершинами в блеске утренних лучей солнца, тем не менее, они, кажется, не имели точного понятия об истинной форме Гималая; всецело погруженные в обожание, они не могли, конечно, профанировать своего культа строгими наблюдениями. Трудно отождествить различные горы, имена которых встречаются у древних авторов, а совершенно невозможно согласить их описания с истинным рельефом страны, так как они старались везде отыскать симметрию форм, которой не существует в действительной архитектуре горных цепей и в расхождении долин. Однако, не подлежит сомнению, что главными массивами Гималая они считали не те, которым новейшие исследователи придают первенствующее значение. Подобно тому, как путешественники центральной Европы, следуя по течению больших рек, Рейна, Роны, Тессина, были, так сказать, направляемы в своем движении к центральной группе Сен-Готарда, и, естественно, принимали его за хребет или горб нашего континента, так точно индийские пилигримы, поднимаясь по течению своих рек, Синду, Сетледжа, Джамны, Ганга, и видя перёд собой неприступные горы, возвышающиеся между истоками этих священных вод, вообразили, что там восседают бессмертные боги, созерцающие бездны мира; там высятся Меру, «золотая гора», и Срингават, «окованный всеми металлами», Кайлас, «сложенный из драгоценных камней», Нила, «сделанный из лазурика». Легенды, относящиеся к этой таинственной стране, росли и множились из века в век, так что, наконец, всякая действительность исчезла под густой тканью, сплетенной из басен. Так, в седьмом столетии, когда китайский пилигрим Гиуэн-Тсанг странствовал по Индустану, гора Анеута или Сумилу, то-есть гора, «образованная из четырех драгоценных вещей», была представляема как опирающаяся на золотое колесо и омываемая водами обширного моря. С её склонов низвергается «безсмертный океан», разделенный на четыре священные реки, которые кружатся в концентрических долинах, чтобы оставаться подольше вблизи матери-горы: это остатки борозд, проведенных сохой богов.
Под влиянием естественного чувства благоговения ко всему, что не имеет себе равного, люди, созерцающие Гималайские горы, заранее расположены приходить в восторг при виде несравненной красоты ярко блистающих на солнце исполинских снеговых вершин, за которыми расстилаются угрюмые плоскогорья Тибета. Но если бы даже они уступали по высоте Андам или Кавказу, горные цепи, образующие хребет Азии, представляли бы, тем не менее, одну из самых поразительных картин земного шара по многочисленности и величественной форме вершин, которые ясно видны с равнин Индустана, подернутые синеватой дымкой и являющиеся в мягких очертаниях, так что издали их можно скорее принять за переливы света, чем за громады из скал. Почти все прославленные места, куда отправляются путешественники, чтобы наслаждаться общим видом на значительную часть цепи, сами уже очень высоки; они находятся на трети или даже на половине высоты вершин, ограниченных лазурью отдаленного небосклона; но у подножия этих обсерваторий открываются глубокия долины. От лесов субтропического пояса, которые виднеются далеко внизу, как бы на дне пропасти, взор может постепенно подниматься к склонам, одетым растительностью умеренных поясов, затем к альпийским пастбищам и к снегам, которым Гималай обязан своими многочисленными именами, как-то: Гимават, Гимадри, Гимачала, Гимодайя (Асmodus, Imaus). В необозримом амфитеатре гор, который развертывается от одной до другой стороны горизонта, пики и куполы, высотой с европейский Мон-Блан, имеют еще, в течение известной части года, серый цвет от каменных обломков или зеленый от дернового ковра; но уже на небольшом расстоянии выше снег покрывает склоны круглый год. На громадном цоколе зеленеющих или каменистых Альп высятся другие Альпы, вечно белые, исключая тех промежутков времени, когда солнце позлащает их своими лучами, или когда тень набрасывает на них синеватый покров, и, господствуя над всем этим скоплением снежных пирамид, высоко поднимаются конечные верхушки, куда еще не ступала нога человека, и которые кажутся тем более высокими, что наперед знаешь их недоступность. С вершины этих пиков, если когда-нибудь удастся взобраться туда, совершивший это смелое восхождение может созерцать одновременно плоскогория Тибета и равнины Индии, долину, которую вырыл себе Цангбо, и равнины, по которым протекают извилистой линией Ганг и Джумна.
Раздельная граница между Гималаем, Каракорумом и Гинду-кушем, которые вместе образуют «Каменный пояс земли»,—чисто условная. В самом деле, обширная область, около 600.000 квадр. километров, которую ограничивают плоскогорья Памира и Тибета, равнины Ярканда и Пенджаба, на всем своем протяжении уставлена высокими горными цепями; за исключением нескольких озерных бассейнов, частью еще наполненных водой, частью уже пустых, и глубоких ущелий, где текут реки, все это пространство есть не что иное, как лабиринт массивов и отрогов, которые разнообразно соединяются с главными хребтами, расположенными на окраинах; здесь три орографические системы, так сказать, переплетаются и проникают одна другую, будучи связаны либо геологической природой горных пород, либо формой рельефа или средним направлением гряд. Однако, можно сказать вообще, что Гималайские горы останавливаются на южной стороне Гильгитской долины; они переходят за Инд, и ущелье, чрез которое эта река вырывается из нагорных долин, находится почти на том же меридиане, как и горный узел, где цепь Гинду-куша разветвляется, чтобы образовать хребты Каракорума и Куэнь-луня. Тогда как к западу от Инда нормальное направление горных осей идет с юго-запада на северо-восток, гребни гор, лежащих к востоку от этой реки, тянутся в направлении перпендикулярном к предыдущему, то-есть с северо-запада на юго-восток, параллельно верхним долинам Инда и его притоков. Что касается восточных границ гималайской системы, то вопрос о них еще не решен. Большинство писателей, принимая гипотезу Реннеля о тождестве рек Цангбо и Брахмапутры, продолжают Гималай до пролома, через который, будто бы, эта река уходит по направлению к Индустану; но это не более как предположение, прибавленное к другим предположениям того же рода, так как исследователи еще не посетили этих стран, и до сих пор мы еще не знаем ничего положительного относительно хода рек, которые через них протекают, и направления горных цепей, которые над ними господствуют. Достоверно только то, что в Восточном Бутане хребты, пройденные путешественником Найн-Сингом, принадлежат к системе Гималая и что в 500 километрах далее к востоку, на берегах Лутце-кианга, или Салуэна, горы, направляющиеся с севера на юг, составляют часть уже другой орографической системы. Географические исследования или даже завоевания, которые, без сомнения, не заставят долго ждать себя в этих неведомых пространствах, объяснят нам, каким образом хребты Гималая и хребты Восточного Тибета соединяются промежуточными массивами.
Разсматриваемая в целом, цепь гор, окаймляющая с внешней стороны Тибетское плоскогорье, тянется «в форме палаша» на севере и на северо-востоке Индустана, обращая свою выпуклость к равнинам. Общая длина её наверно превышает 2.200 километров, а средняя ширина, от предгорий равнины Ганга до глубокой долины Тибета, в которой протекает река Цангбо, никак не менее 250 километров. Следовательно, пространство, покрываемое этими горами, гораздо больше площади всей Франции; распределенная однообразно по всей поверхности материков, масса Гималайских гор, считая среднюю её высоту только в 4.000 метров, образовала бы слой толщиной в 18-ть слишком метров. Но в этом исчислении еще не взята в рассчет собственно краевая цепь высокого плоскогорья Хачи. Эта цепь, как известно, продолжает собою, следуя параллельно Гималаю, гряду гор Каракорум, и под разными именами тянется на север от истоков Сетледжа и долины Цангбо, затем, на юге от озера Тенгри-нор, сливается с массивом Нинджин-танг-ла: это тот самый хребет, который многие географы, со времен Клапрота, означают под именем Ганг-дис-ри. Одна из гор, наиболее прославленных в индийской мифологии, пирамида Кайласа, снежный венец которой отражается в водах озера Мансараур, есть одна из вершин этой цепи Ганг-дис-ри и, следовательно, находится уже вне пределов гималайской системы, начертанных географами; а между тем, в поэтической и религиозной истории Индии это самая священная гора, и имя её смешивается с именем неба.
Гималай, без Ганг-дис-ри, состоит из двух параллельных цепей, собственно Гималая, т.е. южной гряды, которая поднимается непосредственно над равнинами Инда, и Загималайского хребта, который ограничен на севере понижением или широкой долиной, где течет река Цангбо. Из этих двух цепей, последняя, т.е. Загималайская, должна быть рассматриваема как линия водораздела, хотя её главные вершины, или лангур, не достигают, может быть, высоты вершин южного Гималая. На пространстве около 800 километров Загималайские горы тянутся непрерывно, не оставляя между собою ни одной бреши, через которую могли бы уходить воды среднего понижения, находящагося между двумя цепями. Напротив, южная гряда, та, над которой господствуют колоссы Чумалари, Кинчинджинга, Гауризанкар, Давалагири, перерезана глубокими долинами и ущельями, дающими проход многочисленным притокам Ганга: рекам Косси, Гандак, Каркали, Кали, и верхним притокам, Алакнанда и Багиратиганга. Таким образом, эта цепь разрезана на многочисленные отрывки или массивы, из которых иные имеют вид совершенно отдельных групп и которые не тянутся по прямой линии с правильностью обыкновенных гребней. Непосредственно на западе от истоков Ганга открывается пролом, более глубокий, чем предыдущие, проходящий не только через Гималай, но также и через северную параллельную цепь; горный вал перерезан по всей ширине течением Сетледжа, который в начале следует общему направлению гималайской оси, с юго-востока на северо-запад, а затем через ряд узких поперечных долин выходит из гор, чтобы идти к юго-западу на соединение с Индом. Далее, за этим притоком,—Чинаб, менее могучий, чем Сетледж, берет начало между двумя параллельными цепями, так что ему нужно перейти только через южную гряду Гималайских гор; то же самое нужно сказать о Джиламе, который зарождается в Кашмирском бассейне; но Инд получает свои первые воды на самом плоскогорье Тибета, на севере от всей гималайской системы. Как и Сетледж, он течет сначала в северо-западном направлении, чтобы отыскать себе выход; однако, нигде не встречает бреши до того места, где он приближается к полуденным контрфорсам Гинду-куша. Шайок, или «женский Инд», который соединяется с «мужским Индом» на большом расстоянии выше пролома, принадлежит уже, по своим северным притокам, к области Каракорума, к цепи «Черных обвалов».
Таким образом размытые водами бреши разрезали весь западный скат Тибета на отдельные гряды, вообще ориентированные в ту же сторону, как Гималайские и Загималайские горы; но эти хребты так многочисленны, и их разветвления до такой степени переплетаются между собой, что трудно определить везде с достоверностью их нормальное направление. Гималай в собственном смысле продолжается по ту сторону Сетледжа горами, которые ограничены на севере обвалами и песчаными откосами долины реки Спити; затем, далее, он образует хребет южного Лагула и хребет Панджаль, который господствует на юге над Кашмирской равниной. Это та цепь, которую Куннингам называет, взятую в целом, средним Гималаем, и которую сопровождает на юге, в одной части её протяжения, гряда Даоладар, или «Белых гор». Что касается Загималайской цепи, то она продолжается хребтом Бара-лача, или Занскар, затем, по сю сторону ущелий Инда, опять поднимается, чтобы образовать величественную пирамиду Нанга-Парбат, или Диярмир, северо-западную границу Индустана. В западной части системы первенство относительно высоты вершин принадлежит Загималайским горам. На севере от этой цепи другой хребет, который можно бы назвать «Лехскими горами», по имени города, лежащего при южной его подошве, тянется в виде длинного, почти островного выступа, ограниченного с одной стороны Индом, с другой—Шайоком, Панконгом и притоком этого солоноватого озера. Наконец, и самый Каракорум, которого цепи и отроги были отделены от однообразной массы плоскогорья и, так сказать, иссечены размывающим действием вод, походит на параллельные гряды Гималая формой и ориентировкой своего рельефа; только его пики гораздо выше вершин западного Гималая; снега и льды, от которых он получил имя Мустаг, или «Снеговых гор», покрывают гораздо более обширную поверхность, и переход через него труднее. Одна из гор Каракорума, Дапсанг, уступает по высоте только Гауризанкару, она превосходит даже Кинчинджингу; средним числом, известные пороги, чрез которые путешественники проникают из долины Инда в долину Кара-каша, или Ярканд-дарьи, поднимаются не менее как на 5.700 метров над уровнем океана, тогда как проходы Гималайского и Загималайского хребтов открываются на высоте 5.425 метров, то-есть на высоте, превосходящей на 600 метров высоту европейского Мон-Блана. Как водораздельный хребет покатости между бассейнами Инда и Тарима, Каракорум тем самым сделался истинной границей Индустана. Вся область гор и оврагов, продолжающая на северо-западе угрюмые плоскогорья Большого Тибета, и часть которой иногда означается именами «Малого», «Абрикосового», «Кашмирского» Тибета, вошла в круг притяжения индийской истории и находится под британским владычеством чрез посредство кашмирского раджи; Индустан, как группа политических государств, подвластных Англии, сделался таким образом сопредельным китайскому Туркестану через пороги Каракорума. Но на востоке от кашмирских провинций граница английской Индии, Непала и Бутана, обозначена в большей части её протяжения не сплошной цепью Загималайских гор, но отрывочными массивами Гималая в собственном смысле.
Бреши, через которые уходят реки, слишком загромождены скалами, слишком изрезаны пропастями, чтобы дороги могли следовать вдоль их течения, и потому к цоколю, поддерживающему две Гималайские цепи, нужно подниматься почти единственно через проходы, открывающиеся между снеговыми вершинами; самые низкие пороги между противоположными склонами находятся то на Гималайских, то на Загималайских горах или даже в промежуточном пространстве. Эти перевалы, менее возвышенные сравнительно с проходами Каракорума, представляют путешественникам еще и ту выгоду, что они лежат под более южной широтой (от 6 до 8 градусов ближе к экватору); но, тем не менее, большая часть их совершенно непроходимы в период юго-западного муссона, когда ветер поднимает снежные вихри. Разница климатов между плоскогорьями и нижними равнинами так велика, что жители тех и других стран были бы менее разделены друг с другом, если бы между ними проходил широкий рукав океана. Земледельцы Индии никогда не имели причины опасаться набегов со стороны бодов, или тибетцев, обитателей возвышенностей; им приходилось защищаться только от воинственных народцев, живущих на склонах гор и в долинах, до высоты 2.000 или 3.000 метров; выше простирается почти необитаемый пояс камней, дерна и снега. Одни только путешественники, привыкшие уже, либо по образу жизни, либо благодаря частым восхождениям, дышать воздухом высоких гор, могут отваживаться на переход через Гималайские вершины; разреженность воздуха делает там малейший физический труд крайне тягостным; путешественники из туземцев рассказывают, будто бы при восхождении на высокие горы человек отравляется испарениями биса или сорана, под которым они понимают то цветок,—преимущественно один вид аконита,—то особенный горный воздух. В 1855 году, Адольф и Роберт Шлагинтвейты, первые между европейскими путешественниками, перешли через перевал Иби-Гамин, высота которого равняется возвышению, какое имел бы Пюи-де-Дом, поставленный на Мон-Блан. Впоследствии Джонстон взобрался еще гораздо выше: вершина, на которую он совершил восхождение, имеет не менее 6.900 метров. До настоящего времени ни один путешественник, если не считать тех, которые поднимались на аэростатах в воздушные пространства, не достигал более значительных высот.
Система Гималайских гор, повидимому, не может быть признана столь же древней, как Куэнь-лунь, в истории земли. Насколько можно судить по тем наблюдениям, которые были сделаны редкими путешественниками относительно части Куэнь-луня, соседней с Хотаном, средний хребет азиатского континента есть в тоже время первоначальный выступ его рельефа; этот хребет состоит из древних формаций, тогда как все горные цепи, следующие одна за другой по направлению с севера на юг от этой первой гряды, представляют складки земной коры, образовавшиеся в более близкую к нам эпоху. Граниты в собственном смысле редки в Гималайских горах. Кристаллические горные породы, составляющие центральную массу, суть, по большей части, гнейсы и метаморфические сланцы; некоторые области Гималая в миоценовую эпоху, по всей вероятности, мало возвышались над уровнем моря и пользовались климатом столь же умеренным, как и центральная Европа: в Тибете нашли ископаемые остатки бегемота на высоте слишком 4.850 метров. Впрочем, различные изследователи открыли в пластах этой цепи окаменелости, принадлежащие к целому ряду геологических образований, начиная с силурийской эпохи; там и сям некоторые плутонические формации пробились на свет божий через налегавшие на них верхние пласты, но нигде не найдено следов существования вулканических кратеров. Каков бы ни был возраст этих двух цепей, Гималайской и Загималайской, слои, которые отложились на полуденных склонах гор, обращенных к равнинам Индустана, несомненно принадлежат к последним периодам третичных веков. Расположенные в виде цепей, параллельных главной оси горба Азии, предгорья, известные у геологов под именем Подгималая или Нижнего Гималая, состоят почти все из массивных песчаников, соединенных разнообразно с конгломератами и с глинами. От берегов Брахмапутры до берегов Инда, эти цепи следуют одна за другой в правильном порядке по направлению к западу, затем к северо-западу, прерываемые только, в разных пунктах своего протяжения, так называемыми «воротами», которые там открыли себе горные потоки, чтобы найти выход из продольных долин, проточенных водами у основания верхних гор; в некоторых местах масса воды, которая льется с верхних ледников и образует блуждающие речки, попеременно то соединяющие, то разделяющие свои каменистые русла, была достаточна, чтобы смыть на обширных пространствах холмы передовой цепи.
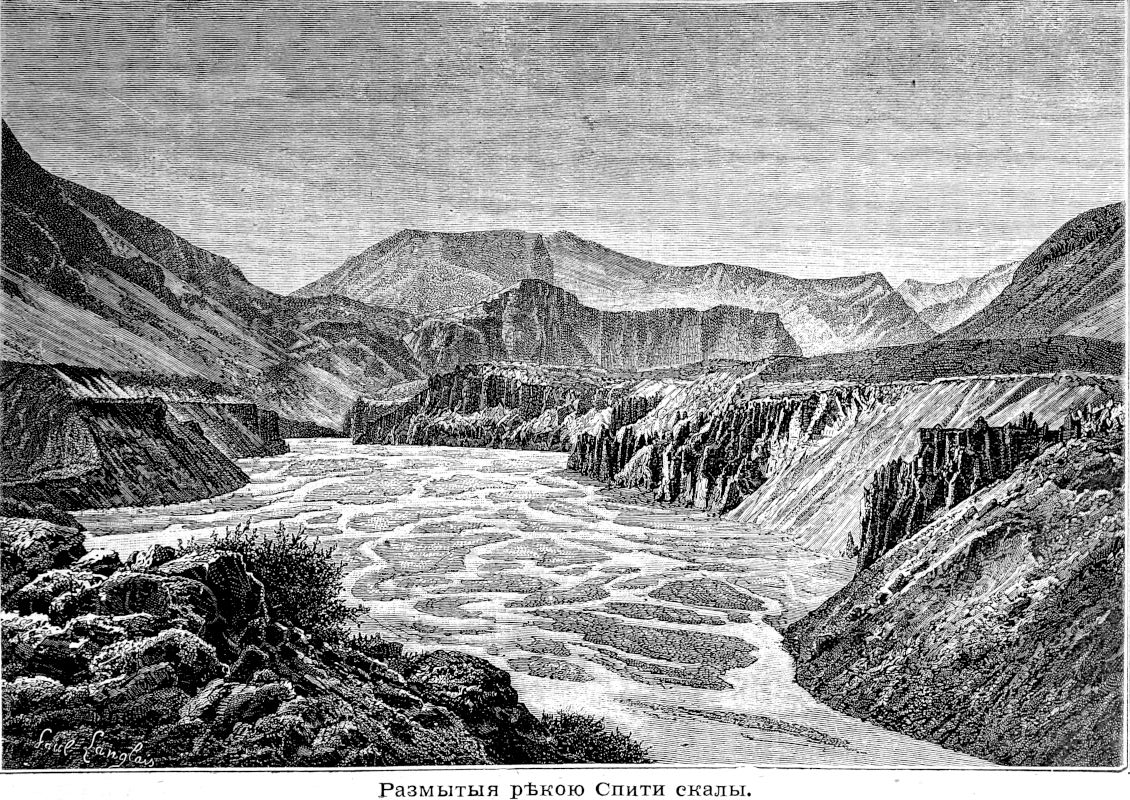
Самая знаменитая и самая правильная из этих цепей Нижнего Гималая—хребет Сивалик, который тянется, от юго-востока к северо-западу, на пространстве слишком 300 километров, между воротами Ганга, у Гардвара, и воротами Биаса, одной из «пяти рек» Пенджаба. Реки Джумна и Сетледж разрезывают эту цепь на отрывки, неравные по размерам, но похожие один на другой свойством горных пород и формой крутых скатов и оврагов. Так называемые дуны, подобные доарам Бутана и мари Сиккима, то-есть продольные долины, отделенные от равнин Индии цепью Сивалик, средняя высота которой около тысячи метров, были некогда озерами. Опорожненные мало-по-малу вытекающими из них реками, некоторые из этих долин имеют слишком узкое дно и слишком загромождены джунглями, чтобы представлять живописные картины; но другие, напротив, превратились в очаровательные местности, напоминающие англичанам ландшафты их родины богатством зелени, живописной красотой лесков, рассеянных по берегам ручьев и на бывших островных пригорках, грациозным контуром холмов, увенчанных селениями. В былые времена воды замкнутых озер часто выбрасывали на свои берега тела больших млекопитающих, кости которых теперь находят в слоях песчаника цепи Сивалик, или Сивалай. Между этими животными, из которых иные были открыты в первый раз в этой области Индии, самое замечательное—исполинский сиватерий, которому дано такое название, как и самым холмам, по имени Сивы, бога, беспрестанно разрушающего и преобразующего землю новыми творениями.
В целом, Гималайские горы отличаются некоторым однообразием внешнего вида. Они более поражают своей массой, громадой, чем ласкают взор разнообразием своих пейзажей. Одни только путешественники, проникающие далеко вглубь «Области вечных снегов» и с невероятным трудом взбирающиеся на какую-нибудь вершину, равную по высоте колоссам европейских Альп, могут составить себе понятие о ясном, спокойном величии этих исполинских гор, которые жителям равнин представляются не более, как металлическими пластинками, блистающими вдали на горизонте под лучами солнца. Среди необозримых пустынь на высотах, превышающих на целые сотни, даже на тысячи метров самые возвышенные пункты, где встречаются человеческие жилища, видны еще вершины, высоко поднимающиеся из-за ряда других, более низких гор и господствующие над беспредельным пространством, наполненным облаками, льдами и скалами; нигде морены и ледники, снежные и фирновые поля, обвалы, зубчатые гребни и остроконечные верхушки пирамид, пики, нагроможденные один на другой, не являются в более грандиозном виде. Как справедливо говорят Веды, это—«третий мир», совершенно отличный от двух других миров, то-есть, нижних долин и равнины. Но между областью снегов и областью лесов почти везде видишь голые серые скалы, лежащие одна на другой неровными уступами; снежные лавины, горные потоки везде сглаживают и шлифуют поверхность скалы, позволяя только в редких местах расти дерну, подобному траве, покрывающей верхние склоны Альп. Целые горы, от подошвы до вершины, на пространстве нескольких верст в вертикальном направлении, представляют правильный скат, едва исцарапанный там и сям: словно видишь перед собой тусклую, испещренную полосами грань какого-то колоссального кристалла. Так, гора Ракипош, одна из западных вершин Мустага, поднимается в виде громадной каменной стены почти в 6 километров высотой, над ущельями, где соединяются реки Гильгит и Гунза.
В верхних слоях Гималайских гор, выше 5.000 метров (16.405 футов), наибольшая часть влажности, осаждающейся из облаков, состоит из снежных хлопьев, и все вершины главного гребня постоянно покрыты снегом и льдом. Но ниже, юго-западный муссон приносит обыкновенно только проливные дожди; даже на высоте 4.330 метров редко бывает, чтобы падал снег на Сиккимских горах во время летних месяцев. Только на высоте 2.000 метров (6.560 футов) можно видеть, в середине зимы, снежные кристаллы, смешанные с дождевыми каплями; в Катманду, главном городе Непала, лежащем на высоте 1.327 метров, «снег выпадает так, что никто об этом и не знает», то-есть с восходом солнца тотчас же растаивает легкий беловатый слой, покрывающий траву и листья. Нижний предел снегов спускается ниже на склонах восточного Гималая, нежели на скатах западных гор, несмотря на то, что эти последние лежат гораздо севернее. Причина тому—несравненно большее обилие влажности, которое получают части цепи, соседния с Бенгальским заливом. Значительная часть этих паров падает из атмосферы в виде снега, который не успевает растаять совершенно в течение года; новые снежные слои прибавляются к старым и превращаются постепенно в фирны. Тогда как в среднем Гималае, на горах Кумаона, высота нижнего предела вечных снегов не превышает 4.800 метров,—что уже равно высоте Мон-Блана,—тот же самый предел в Кашмирских горах лежит, по меньшей мере, на высоте 5.650 метров; в октябре месяце братья Жерар нашли только свежий снег на высоте 5.910 метров, на одной из гор тибетской границы, Поргиале; даже на высоте 6.150 метров, на одной соседней вершине, почва была голая, без снежного покрова. Само собою разумеется, что всего меньше снега на склонах, обращенных к северу; влажные ветры, задерживаемые на противоположной покатости, приносят им лишь редкие хлопья, увлекаемые вихрем бурь. Некоторые промежуточные второстепенные цепи, менее высокие, чем внешние горные валы, совершенно лишены снегов.
Ледники Гималайской цепи по протяжению уступают только ледникам гор Гренландии и других полярных стран. Наиболее благоприятные условия для образования и развития значительных глетчеров встречаются в цирках или котловинах и долинах Западного Гималая, то-есть именно в тех горах, где нижний предел постоянного снега находится на наибольшей высоте над морским уровнем. Причина тому—быстрое таяние снегов в Гималайских странах, ближайших к экватору; снежные слои там, правда, толще и относительно обширнее, но они прямо превращаются в жидкие потоки, не переходя через промежуточные формы обширных фирновых полей и длинных ледников. Кроме того, северо-западные цепи, с их многочисленными промежуточными долинами, имеющими незначительный скат, долинами, где скопления снега постоянно остаются под защитой от солнечных лучей, гораздо лучше расположены, чем крутые склоны Восточного Гималая, чтобы удерживать в своих углублениях медленные потоки ледников. Цепь Занскар, или Бара-Лача, которая направляется на северо-запад к Кашмиру между притоками Инда и притоками Чинаба, наверху кругом обложена, словно бахрамой, ледниками, из которых очень многие имеют около 25 верст в длину и, следовательно, превосходят, по протяжению, Алечский глетчер, самый значительный в Европе. Но и эти исполинские ледяные реки, в свою очередь, далеко уступают по величине громадным кристаллическим потокам Балтистана, которые спускаются со склонов Каракорума в нагорные долины, впадающие в долины рек Шайока и Инда. Ледники, или гансе, Сайчар, Балторо, Биафо, Чого имеют каждый около 50 верст в длину, считая от начальной котловины, где скопляется снег, до фронтальной морены, и каждый из них принимает в себя десятки второстепенных глетчеров, имеющих, по меньшей мере, такие же размеры, как самые обширные ледяные поля швейцарских Альп; если бы идти по верхней линии фирнов и ледников, то, вероятно, можно бы не покидать области сплошного льда на пространстве 150 километров. Все явления, наблюдаемые на замерзших реках центральной Европы, замечаются и на Гималайских горах, только в более обширных размерах. И там тоже наблюдатели могут изучать трещины продольные и поперечные, выступы ледяной массы, иногда принимающие вид различных фигур, колодцы, или так называемые мельницы, морены срединные, боковые и фронтальные или конечные. Точно так же, как на Альпах, многие реки, вытекающие из гималайских ледников, низвергаются на вольный воздух через ворота с дугообразным сводом, которые придают их выходу на свет Божий нечто героическое и триумфальное; в виду этой шумящей реки, которая вырывается из-под темной аркады и высоких хрустальных стен, изборожденных трещинами, указывающими на давление движущейся ледяной массы, легко понимаешь чувство обожания, которое испытывают пилигримы, падающие на колени перед этими грандиозными картинами природы. Что всего более отличает ледники Гималая и Каракорума от ледников европейских Альп,—это необычайное обилие каменных обломков, которое несут первые, по крайней мере большинство из них, такое обилие, что нижнее течение ледяной реки покрыто почти сплошным слоем камней; груды обломков, скрывающие лед, исключая тех мест, где глубокия трещины разверзли свои пропасти, сами, в свою очередь, покрыты землей, где растет трава, цветут многочисленные растения; поле ледника превратилось в сад. Ледник Балторо, одна ветвь которого берет начало в фирнах Дапсанга, в нижней своей части сплошь покрыт обломками, так что поверхность его представляет целое море камней, образуемое соединением пятнадцати морен из скал, различно окрашенных, серых, коричневых, желтых, красных, синеватых, которые тянутся в виде параллельных линий на потоке ледяной реки.
Нижния долины Гималайских гор сохранили еще следы ледников, гораздо более значительных, чем нынешние. Там и сям встречаются боковые морены на террасах, возвышающихся над речным ложем на несколько сот метров; фронтальные морены—менее многочисленные, потому что они были, по большей части, смыты горными ручьями—тоже сохранились во многих долинах на высоте не более 1.500 метров над уровнем моря. Ледяные реки, спускающиеся с Каракорума, разливались до Кашмирского бассейна, оканчиваясь на расстоянии 200 слишком километров от фирновых полей, где они получали свое начало; так, глетчер Нубра, данник льдов Шайока, или женского Инда, имел не менее 1.300 или 1.400 метров толщины, при слиянии двух долин, теперь усеянных живописными деревеньками. Точно также в южной части Гималайского хребта долина Кангра, по которой течет река Биас, покрыта эрратическими камнями, глетчерного происхождения, до высоты всего только 600 метров; центральный ледяной поток этой долины, питаемый другими второстепенными ледниками, спускавшимися с кристаллической цепи Белых гор, или Даола-дар, простирался в длину более, чем на 190 километров, т.е. около 175 верст. Но следы древнего ледяного периода исчезают в Гималайских горах скорее, чем во всех почти других гористых странах земного шара, по причине быстрого хода процесса размывания и выветривания в долинах, несущих свои воды в Инд и Ганг. Кремнистые слои высоких вершин и средних склонов, песчаники Подгималайских гор очень рыхлы, рассыпчаты и легко уступают действию воды; растрескавшиеся гнейсы также раскалываются быстро под чередующимся действием морозов, оттепелей, солнечной теплоты и дождей; что касается каменных обломков, накопленных некогда глетчерными ручьями, то они подхватываются снова каждым наводнением и переносятся далее все ближе и ближе к выходу долин. Русла, которые реки Гималайской цепи вырыли себе в кучах мелкого камня или даже в живой скале, достигают во многих местах глубины 900 метров ниже древних берегов, и малейшие притоки должны были постепенно проточить гору на толщинах пятисот и шестисот метров, чтобы соединиться с главным потоком. Сетледж в своем верхнем течении по плоскогорьям Тибета и ниже в земле Ладак, Инд и различные его гималайские притоки, Ганг выше Гардвара, представляют замечательные примеры этих глубоких промоин в виде узких пропастей, спускающихся почти на тысячу метров ниже плоскости их прежнего ложа, остатки которого и теперь еще виднеются там и сям на боковых террасах. Мало стран на свете, где бы было так необходимо и вместе с тем так легко устраивать на реках висячие мосты, ибо многие расселины, хотя глубину их нужно считать сотнями метров, имеют очень незначительную ширину, такую, что, стоя на одном берегу, можно добросить камнем до другого. В индийских долинах Гималайского хребта некоторые снаряды для переправы, подобные употребляемым в Восточном Тибете, состоят из простых чука, то-есть веревок, по которым скользит кольцо, переносящее путешественника с одного берега на другой; но большая часть висячих мостов, или джула, сплетены из свитых из древесной коры или из лиан канатов, качаемых ветром, но достаточно крепких для того, чтобы путешественники, не подверженные головокружению, могли безбоязненно пускаться по такому мосту и даже для того, чтобы переправлять коз и овец; эти джулы служат, средним числом, в продолжение трех лет. Образовавшиеся вследствие размывания откосы, часто вновь проточенные дождевыми потоками или засыпанные обвалами, следуют один за другим вдоль рек, в виде серых или красноватых конусов, которые в сумерки или издали похожи на ряды гигантских палаток.
В песчаниковых скалах Подгималайских гор работа размывания проявляется не столько образованием откосов, сколько образованием вертикальных стен; целые плоскости или грани склона отделяются и обваливаются разом, придавая утесам вид цитаделей, построенных рукой человека, с правильными башнями, оградами, террасами. Ни кубические массы «саксонской» Швейцарии, ни прямоугольные каменные глыбы некоторых частей Новой Мексики и Колорадо не имеют большей симметрии в своих формах, чем многие скалы Подгималайской цепи. Некоторые из этих высот, с гладкими, точно обрезанными стенами, представляют поверхность не менее ровную, чем поверхность белых бесплодных холмов (causses) в Южной Франции. Другие каменные массы, поверхность которых заключает несколько сотен или даже тысяч квадратных километров, состоят из лежащих один на другом пластов, постепенно съуживающихся кверху, и представляют со всех сторон вид пирамиды с громадными ступенями.
Большие обвалы, следы которых видны повсюду в Гималайских горах, также принадлежат к текущему геологическому периоду. Современная история Инда, Чинаба, Сетледжа дает замечательные примеры этого явления. Часто случается, что эти три реки, задержанные в своем верхнем течении падением ледяных масс и камней, превращаются в озера, тогда как ниже этой временной плотины русла их мало-по-малу высыхают; но после нескольких дней или даже недель остановки, задержанные озера, наконец, переходят через запруду, и вскоре массы обломков и грязи, смешанные с водами наводнения, страшным потоком низвергаются на ниже лежащие земли, опустошая прибрежные местности, снося дома, вырывая с корнем деревья. Когда эти запруды от обвалов образуются в верхних долинах, ручьи и речки, ниже впадающие в главную долину, продолжают питать реку, и прибрежные жители более низменных местностей узнают о событии только по незначительному понижению уровня воды в реке; но иногда случается, что падение снежных масс и скал произошло в ущельях, близких к равнине, и тогда река вдруг иссякает совершенно. Исследователь Годуин Аустен и его спутники, неожиданно застигнутые порывом такой запруды, образовавшейся вследствие обвала, едва успели убежать с места катастрофы, извещенные об опасности громом обрушившихся и ударяющихся одна о другую скал. Лавина или, как ее называют туземцы, шва камней, грязи и воды устремляется в долины в виде высокой, прямой стены, с которой летят в ту и другую сторону камни, точно бомбы с вала движущейся крепости: отрывки разбившихся скал отлетают очень далеко, тогда как на высоких берегах самые большие каменные глыбы кружатся, затем низвергаются в черный поток.
Эти явления размывания имели то следствие, что они сообщили потокам и рекам Гималайской цепи нормальную кривую и уничтожили водопады и озера, которые некогда прерывали их течение. В этом отношении индийские горы составляют резкий контраст с европейскими Альпами: первые, если можно так выразиться, утратили свою молодость, так как первоначальные черты их долин давно уже изгладились. Выступы скал, задерживавшие воды в озерных бассейнах, и с которых потоки лились каскадами, были постепенно разрушены действием воды; в то время, как озера опоражнивались, катаракты понижались. В настоящее время Гималайская цепь сохранила лишь небольшое число этих льющихся водяных столбов, которые придают столько прелести горным странам, и большая часть тамошних водопадов не что иное, как временные каскады, простые струи воды, образующиеся из тающего под лучами летнего солнца снега и обращающиеся в пар в воздухе, где они клубятся. Единственные большие озера Гималая находятся на севере цепи, в понижении, отделяющем эту цепь от Загималайских гор, и на западе, в многочисленных параллельных долинах Ладака и Кашмира. Но не подлежит сомнению, что в этих западных областях многие озера уменьшились в протяжении, не по причине постепенного углубления их истока, но вследствие постепенного осушения страны. Некоторые из озер этой части Гималайского хребта утратили всякое истечение и, сделавшись замкнутыми бассейнами, мало-по-малу превратились в резервуары соленой воды. Обширные равнины, некогда покрытые пресной водой, теперь имеют лишь кое-где маленькия «горькия озера», окруженные соляным налетом, сливающимся иногда с площадью снегов.
Поясы растительности на склонах Гималайских гор, естественно, соответствуют поясам температуры. Через каждые 200 метров (656 футов), в вертикальном направлении, степень тепла уменьшается на один градус, и в то же время изменяются все климатические условия; тропические или полутропические растения, которые мы находим у подошвы гор, заменяются выше растениями умеренного пояса, затем растениями арктического пояса. Но кроме этих главных делений климатических и ботанических, сходных с делениями этого рода, наблюдаемыми на скатах всех других горных цепей, в Гималайских горах существуют еще, у основания и на первых возвышениях этой системы, другие поясы, резко разграниченные между собой свойством почвы и произведениями и обязанные своими контрастами не различию высоты, но расположению поверхностных слоев и истечению вод. Поясы эти, хорошо известные во все времена туземным жителям, которые гоняют свои стада коров и буйволов в нижния долины Гималайской цепи, следуют один за другим параллельно оси гор, от нижних равнин до первых круч. Крайняя южная зона—это полоса земли, называемая терай, тарай, тари или моронг, то-есть «сырая страна», болотистая область, покрытая джунглями, камышами и купами деревьев, которые задерживают дуновение ветров, вследствие чего там постоянно стоит туман из миазмов, поддерживаемый испарением влажной почвы; если верить туземцам, некоторые части терая заключают атмосферу до того удушливую, что дикие звери и птицы не могут дышать тамошним воздухом. Однако, к северо-западу полоса земли, составляющая продолжение терая, суживается мало-по-малу, и в Пенджабе это уже не более, как песчаное пространство, где вода быстро исчезает в почве, и которое на известных расстояниях изрезано многочисленными оврагами и рытвинами; высокие травы, среди которых прячется антилопа, заменяют там чащи джунглей и камышей, покрывающие собственно терай. Второй параллельный пояс, который тянется между болотами и основанием песчаниковых скал Подгималая, резко отличается от терая сухостью почвы: это так-называемый бхавер, блабхар или джхари, лесная область, почти сплошь покрытая шореями (shorea robusta), красивыми развесистыми деревьями, обвитыми лианами, которые соединяют их между собою и с растениями подлесья. Продольные долины, дун, мари или доар, продолжающиеся параллельно двум предыдущим поясам, тераю и бхаверу, от которых их отделяет выступ песчаниковых скал (гряда Сивалик или Сивалай), первое, едва обозначившееся ребро громадного скелета Гималайских гор, тоже принадлежат к нездоровым местностям в большей части своего протяжения. Путешественники не без опасности проезжают, во всю скачь своих верховых животных, три, следующие одна за другою, полосы терая, бхавера и дунов, чтобы пробраться из прибрежных равнин Ганга в область гор, выше вредных туманов, которые стелются по нижним склонам до средней высоты 1.200 метров (около 3.940 футов); указывают многочисленные примеры англичан, которые сделались жертвою злокачественной лихорадки, схваченной во время быстрого переезда через пояс терай. В некоторых местах контраст терая и области культур так же резок, как противоположность земли и моря вдоль отвесного берега.
Нездоровость этих низменных областей объясняется легко. Воды, задерживаемые в дунах выступами опоясывающих их песчаниковых предгорий, скопляются там в виде стоячих площадей; ниже, бхавер, который состоит из гравиевой почвы, очень сух, напротив, благодаря рыхлости грунта, но крупный песок там залегает на слое непропускающей воду глины, и пары, поднимающиеся с земли после падения дождей, остаются запертыми под густыми ветвями деревьев; наконец, в полосе терая, водяная скатерть, которая скользила по глинистому слою под гравием бхавера, снова появляется на поверхности и разливается в виде болот среди джунглей. В этом низменном поясе спускающиеся с Гималая реки, которые перед тем прошли через область бхавера по глубоким и вполне определенным руслам, широко разливаются в терае, передвигая с места на место мелкие камни и пески, перенося стволы деревьев и обломки всякого рода; все эти препятствия образуют там и сям естественные плотины, выше которых речная вода разливается направо и налево в виде болот, постоянных или временных. Средство улучшить это положение дел, то-есть ассенизировать край, то же самое, какое применяется с успехом в болотистых местностях Европы; оно состоит в урегулировании стока вод, в расчистке и обработке почвы. Уже многие семьи переселенцев, доставляемых сопредельным населением, которому, впрочем, ауаль, или малария (болотная лихорадка) менее опасна, нежели европейским путешественникам, начали там и сям расчищать под пашни наиболее здоровые лесные прогалины в полосах терая и бхавера. С другой стороны, пастухи на зиму спускаются с гор со своими семьями и стадами, чтобы, по местному выражению, «кормиться солнцем», и вслед затем на местах их стоянки появляются пашни и селения. Таким образом, эти распаханные прогалины, число которых возрастает с каждым годом, прибавляются к относительно здоровым пространствам, прерывающим во многих местах, преимущественно на юге Сиккима, опасные поясы терая и бхавера. Дорога, ведущая с берегов Ганга в Дарджилинг, давно уже потеряла свои ужасы. Напротив, было время, когда население равнины нарочно давало разростаться полосе терая на счет своих культурных земель, чтобы расширить таким образом «мархию», которая отделяла их от их врагов, разбойничьих горных народов.
В северо-западном углу Индии, вся верхняя область Пятиречья (Пенджаба), между передовыми горами Гималайского хребта и Сулейман-дагом, занята невысокими плоскогорьями и небольшими отрогами, замечательными геометрическою правильностью их линии протяжения. Тогда как Панджал, последняя Гималайская цепь, огибаемая на западе рекою Джилам при выходе её из Кашмирской долины, следует нормальному направлению всей системы, т.е. от юго-востока к северо-западу, отроги области Хазара и верхнего Пенджаба расположены, по большей части, перпендикулярно к оси Гималая, по направлению с северо-востока на юго-запад. Высшая точка этой Заджиламской области, гора Марри, есть еще одна из больших вершин внешнего Гималая, так как она достигает высоты 2.272 метров; но к югу от этого межевого столба, поставленного между двумя различными областями, плоскогорья имеют среднюю высоту, постепенно уменьшающуюся, от 500 до 300 метров, и гребни холмов поднимаются над ними почти на такую же высоту. Слишком мало возвышенные, чтобы поражать народное воображение, эти каменные выступы земного рельефа не имеют точных географических наименований. Они называются по имени живущих на них племен, близ лежащих городов или деревень, горных проходов, служащих перевалами для путешественников, крепостей, господствующих на той или другой возвышенности, или по какой-нибудь местной особенности. Наиболее известные названия применяются к целым областям: таково наименование Потвар, даваемое всему гористому плоскогорью Раваль-Пинди.
На поверхности нашей планеты нет каменных масс, которые были бы более изгрызены стихиями, чем хребты Потвара и других горных цепей страны по сю и по ту сторону Инда; многие из них оканчиваются на верхушке острыми клинками, дотого тонкими и местами дотого разорванными, что можно подумать, что это искусственная ажурная резьба на камне.
Все легко раскалывающиеся и выветривающиеся, части скалы, были унесены дождевыми водами: остался только скелет горы; так как поверхностные обломки все снесены водой, то геолог может с первого взгляда определить свойство горных пород, составлявших первоначальное ядро; но некоторые гребни отличаются такою изумительною правильностью форм, что там легко смешать произведения природы с делом рук человеческих: иная гора показана на карте генерального штаба с крепким замком на вершине, хотя в действительности стены и бастионы этой твердыни суть не что иное, как продукт разрушительной силы атмосферных деятелей. В этом отношении одна из самых замечательных горных цепей та, которая ограничивает с южной стороны эти изрытые оврагами плоскогорья Пятиречья и которая получила от англичан название Salt-range, или «Соляной цепи». Она тянется с востока на запад между Джиламом и Индом, течение которого она съуживает в Калабагском дефилее, затем продолжается за Индом под разными именами: Чичали, Шингар, Кафир-кот, Шейк-будин. Она была некогда южной границей азиатского континента, и её крутые склоны, подточенные при основании водами моря, и теперь еще представляют там и сям вид высоких береговых утесов. Соляная цепь—одна из самых любопытных возвышенностей Индии по образованию её пластов, так как там можно изучать горные породы, принадлежащие всем геологическим векам; силурийские слои представлены в этой горной массе так же, как каменноугольная формация, триас, юра, мел; наконец, пласты третичной эпохи прикрывают другие геологические образования, и между этими пластами особенно часто встречаются залежи нуммулитовых, или раковистых известняков; даже диориты показываются кое-где поверх осадочных слоев. Разнообразие рудных месторождений в этой цепи не менее велико, чем разнообразие горных пород; до сих пор там открыты, в различных количествах, золото, медь, свинец, железо, а также сера, квасцы, селитра, нефть, каменный уголь, и во многих местах из земли бьют горячие минеральные ключи. Гипс находится там в изобилии, а соли так много, что англичане совершенно справедливо дали этим горам название Соляной цепи. Слои каменной соли, белые, серые, красноватые, и различные по степени чистоты, как и по цвету, имеют до 30 метров (100 футов) мощности, а в некоторых местах солекопы могут разрабатывать скалу самородной соли толщиною в 150 слишком метров (70 сажен). В одной части Пенджабской цепи есть соляные пласты, представляющие, по измерениям Уинна, массу в 28 куб. километров,—количество, достаточное для удовлетворения потребности всех людей в течение тысяч лет.
Точно также на продолжении цепи к западу от Инда холмы в большей части состоят из каменной соли, и местами там встречаются огромные глыбы в 40 метров (130 футов) высоты, сплошь образованные из соляных кристаллов. Просачивание воды сквозь горные породы, действие дождей на внешния стены соли и давление верхних пластов имели следствием сгибы, разрывы и перемещения ниже лежащих слоев и произвели провалы и опрокидывания, которые часто сбивают с толку геологов. Между достопримечательностями этой интересной горной цепи встречаются также большие гранитные валуны, которые носят на себе явные следы действия ледников. Один валун из красного гранита, месторождение которого на Гималае до сих пор еще не могли открыть, был найден Теобальдом в Соляной цепи и доставлен в калькутский музей; шлифованные полосы и борозды на его поверхности не оставляют ни малейшего сомнения относительно его происхождения. Вся поверхность плоскогорья, простирающагося на север от Соляных гор, покрыта гравием и песком, среди которых рассеяны во множестве эрратические камни; кроме того, валуны встречаются также в большом числе на берегах всех рек, особенно на берегах Согана и Инда до Аттока и даже ниже. В течение новейшего геологического периода произошли значительные перемены в гидрографии страны; весьма вероятно, что почти вся она была покрыта озером.
На западе от Инда, разные горные цепи, составляющие географическую границу Индустана, суть, как и Гималай, краевые хребты плоскогорья, а не отдельные, независимые горы, за исключением, однако, гряд, которые продолжают на востоке цепь Сафид-кох, или «Белых гор», и которые разделяют, перпендикулярно к течению Инда, два бассейна, некогда озерные, Пешавера и Банну. Главная цепь за Индом, носящая турецкое имя Сулейман-даг (Соломонова гора), или Кох-и-Сурх, то-есть «Красная цепь», прилегает на западе к возвышенностям страны племени вазири; она перерезана, через известные промежутки, брешами, откуда вытекают во время дождей воды горных речек, получающих начало на скатах одной параллельной цепи, которую можно было бы назвать западным Сулейман-дагом или Джадрамом, по имени племен, живущих в её долинах. Из всех потоков, проходящих через восточный Сулейман, только один Курам достигает Инда, не теряясь совершенно по дороге в песках; другие ручьи и речки, направляющиеся к главной реке, откуда бы они ни вытекали, иссякают у подошвы горы, в своих каменистых ложах, которые перемещаются и перепутываются при каждом новом наводнении. На севере хребет Соломоновых гор примыкает к высокому массиву Сафид-кох (Белые горы), который отделен от предгорий Гинду-куша глубокой долиной реки Кабул; на востоке Сулейман-даг тоже соединяется, посредством боковых отрогов, с массивами высот, принадлежащих к продолжению Соляной цепи; но на юге от реки Курам, Соломоновы горы отделяются от других возвышенностей и образуют правильный хребет, который тянется по направлению с севера на юг. Если смотреть с равнины Инда, эти горы представляют величественный вид: высшая вершина их, гора Биргул (3.560 метров), находится в земле вазирисов; самая знаменитая вершина, известная под именем, столь часто встречающимся в магометанских странах, Тахт-и-Сулейман, или «Соломонов трон», немного ниже предъидущей; она достигает 3.343 метров. Все скалы её крутых склонов состоят из голого камня, лишенного всякой растительности: белые днем, они кажутся прозрачными в вечернем воздухе.
Постепенно понижаясь к югу, цепь Соломоновых гор исчезает в при-индской равнине, пройдя пространство длиною около 600 километров, и Инд, который незадолго перед тем принял в себя воды «Пятиречья», огибает на юге последние утесы хребта, после чего ударяется об основание другой краевой цепи, ограничивающей на востоке плоскую возвышенность Белуджистана, населенную племенем брагуи. Эта цепь, означенная на большей части карт под именем Гала, которое применяется только к одному перевалу, и вообще называемая туземцами Хиртар, тянется, как и Сулейман-даг, по направлению меридиана; она составлена из нескольких параллельных хребтов, состоящих, главным образом, подобно грядам Синда, из нуммулитового известняка. Даже на восточной стороне Инда некоторые каменистые выступы рельефа, окруженные либо наносами реки, либо песками пустыни, принадлежат к той же формации и могут быть рассматриваемы как часть той же самой орографической системы. Менее высокий, чем Сулейман-даг, хребет Хиртар достигает только 2.100 метров своей высшей точкой: большинство же его остроконечных вершин едва превышает 1.800 метров. В южной своей части он постепенно понижается и представляет не более, как ряд холмов высотой около 600 метров, затем простое повышение почвы над уровнем окружающих равнин. Однако, этот выступ рельефа страны сохраняется до мыса Монз, географической и политической границы Индустана, и даже продолжается в море скалистым островом Чурна. Подобно Сулейман-дагу, хребет Хиртар перерезан рекой, которая берет свое начало на западе, на плоскогорьях, и изливается в Инд: это Гадж, долина которой представляет удобный проход для путешественников, отправляющихся с равнин Инда на возвышенности Белуджистана. Прежде думали, что горные цепи, окаймляющие с западной стороны долину Инда, противопоставляли почти непреодолимое препятствие проходу караванов и войск, и что только небольшое число ущелий между горами могли быть переходимы. Перевалы Хайберский и Пайварский на севере Сулейман-дага, Гумульский и Сангарский посередине, Боланский на юге, были, как тогда полагали, единственные проломы этого горного вала. Исследования, сделанные недавно английскими геометрами, доказали, что краевые цепи, напротив, перерезаны большим числом удобных для перехода брешей: Маркгам насчитывает там более пятидесяти проходов. Не трудности перехода, а затруднения относительно продовольствия ограничивали во все времена несколькими наиболее удобными горными дорогами сообщения между двумя сопредельными странами. Каменистые поля, пески, безводные, лишенные всякой растительности, пространства гораздо более, чем трудные для подъема крутизны скал, составляют с этой стороны истинную оборонительную границу.
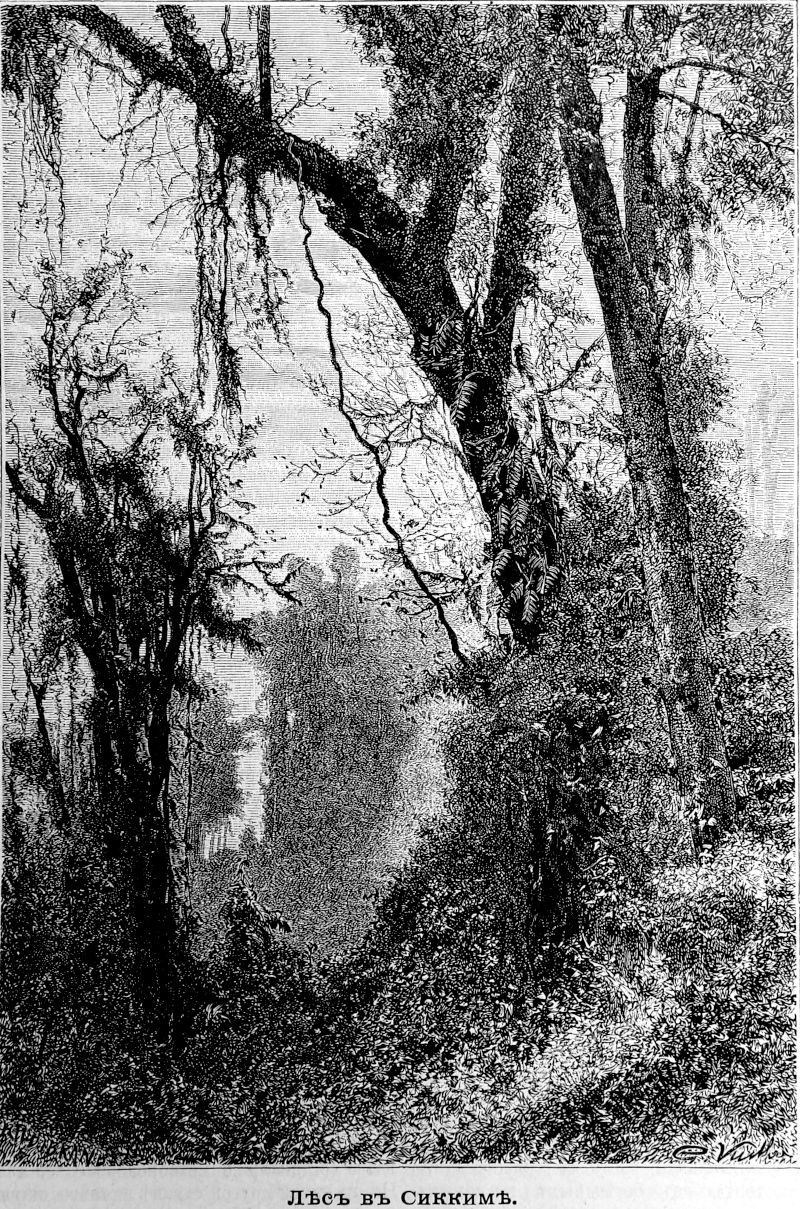
Проточные воды распределены весьма неравномерно в Индустане, что зависит от хода ветров, направления и обилия дождей. Рассматривая индийскую гидрографию в целом, находим, что покатость Бенгальского залива орошается количеством воды, гораздо более значительным, чем покатость Аравийского моря; даже можно сказать с полной уверенностью, что северная оконечность этого залива получает более половины вод полуострова. Приходя с противоположных сторон, одна с запада, другая с востока, две большие реки, Ганг и Брахмапутра, соединяют в своих долинах все второстепенные реки и речки, получающие начало в Гималайских горах, на протяжении более 2.000 километров, и изливают их в море сотнями блуждающих каналов, которые образовались между холмами Раджамагал и горами Гарро. Через эту брешь утекает жидкая масса, по малой мере вчетверо большая той, которую вся Франция дает Средиземному морю и Атлантическому океану. Область общей дельты переплетающихся бесчисленных рукавов этих двух рек, кажется, как будто принадлежит двум стихиям, земле и морю: берега, острова едва выступают из-под воды, а илистые или песчаные мели поднимаются почти до самой поверхности вод; деревья корнями принадлежат к водяному царству, тогда как слой грязи, скопившийся вокруг стволов, указывает уже на близкие захваты материка. В другом углу Индустана, главная река, название которой сделалось именем всей Индии, соответствует симметрически Гангу и Брахмапутре; она питается снегами Западного Гималая, смешанными со снегами Гинду-куша, Каракорума, Загималайской цепи и даже Тибетского плоскогорья; площадь её бассейна наверно превышает миллион квадр. километров; но, протекая через страны с климатом гораздо более сухим, нежели Бенгалия и Ассам, она катит количество воды несравненно меньшее, чем две восточные реки, и даже значительная часть её области истечения состоит из безводных песчаных пустынь; тем не менее, однако, она служит водным путем, которым пользуются суда, и образует, вместе с Гангом и морем, линию судоходства, доставившую Индустану имя «Полуострова», которым эта страна часто обозначается. В некоторых отношениях Инд, который обыкновенно сравнивают с Гангом, как двух близнецов, представляет поразительный контраст со своим братом. Тогда как последний, то-есть Ганг, течет преимущественно с запада на восток, следуя вдоль южных предгорий Гималая, первый течет, главным образом, с севера на юг, по выходе из области гор. Инд так же, как и его главный приток, Сетледж, берет свое начало на задней, обращенной к материку, стороне собственно Гималайской цепи, в тибетских областях; наконец, в своем нижнем течении он не получает более притоков: он уже, так сказать, окончательно сформировался, отличаясь в этом отношении от Ганга, который соединяется в низовьях с могучей Брахмапутрой. Вообще нужно сказать, что черты сходства, которые индусские поэты, а по их следам и многие современные географы, хотели установить между двумя священными реками Индии, как будто между ними существует нечто в роде мистического родства, по большей части не что иное, как игра воображения.
Реки, протекающие в полуостровной Индии, на юге от перегородки из гор и холмов, образуемой цепью Виндиа, представляют также, от одной до другой покатости, замечательный контраст. С одной стороны, две реки-близнецы, Нарбада и Тапти, зарождающиеся недалеко от географического центра Индустана, текут параллельно одна другой и изливаются в один и тот же залив Аравийского моря; хотя устья у них отдельные, однако, они как будто принадлежат к одной и той же гидрографической системе. Но эти две реки—единственные на всем западном берегу имеющие некоторую важность; везде в других местах скат Гатских гор слишком узок, чтобы на нем мог образоваться значительный бассейн. Все большие реки системы Гатской цепи, как восточной, так и западной, Маганадди, Годавери, Кришна, две реки Панар, Кавери, спускаются к Бенгальскому заливу, раскладывая свои наносы в форме широких дельт перед своими устьями. Мало найдется рек, которые представляли бы более правильное, более ритмическое чередование между периодами мелководья и полноводья: все колебания уровня этих индийских рек регулируются движениями атмосферы; прежде чем появиться на поверхности земли, эти потоки образуются уже в воздушных пространствах: они прежде всего составляют метеорологическое явление. Ни в какой другой стране земного шара земледельцы не заботятся так много о сбережении своих рек, чтобы не зависеть от перемены времени года; это вопрос жизни или смерти для многочисленного сельского населения, скученного густыми массами в прибрежных местностях. Тогда как в Северной Индии незначительное падение рек сделало необходимым, для орошения земель, прорытие длинных каналов, разветвляющихся до бесконечности в равнинах, неровный характер почвы на плоскогорьях Декана и на покатости Коромандельского берега заставил жителей прибегать к устройству, запасных резервуаров; они восстановили, так сказать, первобытное состояние страны, каким оно было в то время, когда реки, не успев еще урегулировать свое русло, текли уступами, спускаясь из одного озерного бассейна в другой порогами или водопадами; таким образом, человеческая индустрия воспроизвела в полуденной Индии виды местности, напоминающие, по крайней мере рельефом, ландшафы Скандинавии. Некоторые из этих 35.000 озер, реставрированных земледельцами Декана и Коромандельского берега, имеют площадь, измеряемую сотнями квадратных километров; это самые обширные озерные бассейны, какие встречаются в Индустане, вне области Гималайских гор. Воды резервуаров, сберегаемые для сухого времени года, удерживаются при помощи плотин, называемых anicuts англо-индийцами; излишек воды, выливающийся через порог калингал (calingalas), служит для наполнения лежащего ниже второго пруда, и таким образом, от уступа к уступу, ряд бассейнов обозначает линию ирригационных каналов, от начальной до конечной их точки, как узлы на нервной сетке. Во время больших дождей часто случается, что аникуты, или плотины, плохо поддерживаемые в период угнетения, войны или народного обеднения, уступают на каком-нибудь пункте напору воды: тогда резервуар разом опоражнивается; воды, смешанные с камнями, с грязью, с обломками всякого рода, захваченными на их берегах, устремляются в следующий, ниже лежащий пруд; последний тоже не выдерживает напора, стены его разрываются, и жидкая масса, переходя с уступа на уступ и на пути постоянно увеличиваясь в объеме, изливается на низменности в виде страшных наводнений.
В Индустане можно наблюдать весь ряд земных температур, следующих одна за другой с юга на север, от берегов Цейлона, лежащего в соседстве с экватором, до вечных снегов Каракорума, покрывающих, на расстоянии около 3.500 километров (3.290 верст) от равноденственной линии, горы, поднимающиеся от 6.000 до 8.600 метров (от 20.000 до 28.200 футов) над уровнем океана. Тогда как в некоторых областях Полуострова воздух, которым дышишь, кажется раскаленным, есть другие местности, где человек не может жить, или куда он не мог бы даже взобраться, по причине холода и разреженности атмосферы. Однако, если рассматривать горный вал, возвышающийся над равнинами Инда и Ганга, как составляющий часть особой географической области, то оказывается, что поясы средней температуры следуют один за другим довольно правильно, от Цейлона и мыса Коморин до первых Гималайских долин. В своей совокупности полуостров по сю сторону Ганга, не будучи знойным, как некоторые области центральной Африки, есть, тем не менее, одна из самых жарких стран земного шара: экватор наибольшей средней теплоты проходит непосредственно на юге от Полуострова, и даже изотермическая линия 24 градусов изгибается в северных равнинах так, что идет вдоль первых возвышенностей Гималайской цепи. Разность средней годовой температуры от одного до другого конца Индии, на пространстве более 3.000 километров (2.811 верст) по ширине, составляет всего только 5 градусов стоградусного термометра, если, не принимая в рассчет различия высоты мест, приведем все станции к уровню моря. В разные времена года разности средних температур в обратную сторону более значительны, около 8 градусов во время жаров и 10 градусов в период прохлады; но это небольшие уклонения сравнительно с обширным протяжением страны. Более 250 метеорологических станций, учрежденных во всех частях Полуострова, дают возможность изучать все колебания климата Индии и изображать их графически с такою точностью, какой еще не достигли во многих странах Западной Европы.
Наибольшая равномерность температуры поддерживается естественно в областях полуденной Индии, благодаря соседству экватора и умеряющему влиянию морских вод и ветров (бриз). Так, в Коломбо, на острове Цейлоне, изменение температуры от одного месяца до другого не превышает двух градусов, колеблясь между 26° и 28° Ц.; на Малабарском берегу, между Мангалором и Кочином; вариация термометра не достигает даже 4 градусов: но по мере удаления от моря, неравенства температуры по временам года становятся все значительнее: в теплый сезон, именно с марта по май, жары гораздо сильнее на плоскогорьях Декана, нежели на берегах Малабарском и Коромандельском; однако, воздух там в то же время суше, и ощущение удушливости, которое испытываешь на этих возвышенностях, менее тягостно; на морском же берегу кажется, что дышишь стоя против устья огромной пылающей печи, особенно, когда прекращается морская бриза и начинает дуть «земной ветер», то-есть ветер с материка. Само собою разумеется, разность температуры между различными временами года увеличивается с юга на север, пропорционально возрастанию географической широты, и горная цепь Сатпуры, составляющая как бы перегородку Индустана, может быть также рассматриваема, с метеорологической точки зрения, как второстепенная граница между Северной Индией и Деканом. Так, в Пенджабе, в городе Дера-Измаил-хан, который находится далеко внутри материка и почти в 1.000 километрах (937 верст) к северу от тропической линии, разность между температурой самого холодного месяца, января (9°), и температурой самого теплого, июля (35°,4), составляет около 26 градусов. Это область Индии, где жара летом самая сильная; в это время года термический экватор изгибается к северу так, что проходит над Пятиречьем; температура там бывает тогда так же высока, как в самых жарких странах земного шара, не исключая даже Сахары. Что касается крайностей тепла и холода, которые случалось наблюдать в разные эпохи, то они представляют в Пенджабе общую разность немного более 50 градусов между точкой замерзания и исключительными жарами, доходившими до 50 и 52 градусов стоградусного термометра. В Мадрасе, имеющем климат экваториальный и морской, длинный ряд термометрических наблюдений, производившихся начиная с первых времен занятия страны англичанами, показывает в разностях температур амплитуду вдвое меньшую, именно—между 17 градусами Цельзия, крайностью холода, или низшей температурой, и 42°,5, крайностью тепла, или высшей температурой.
Средние и крайния температуры некоторых городов Индустана, по направлению с севера на юг:
| Станции | Широта | Средняя температура | Самый теплый месяц (июль) | Самый холодный месяц (январь) | Разность |
| Пешавар | 34°1'45'' | 22°,7 | 33°,2 | 11°,3 | 21°,9 |
| Дера-Измаил-хан | 31°39'36'' | 24°,6 | 35°,3 | 9°,4 | 25°,9 |
| Лагор | 31°31'10'' | 23°,9 | 33°,4 | 11°,3 | 22°,1 |
| Амбалла | 30°21'24'' | 23°,5 | 32°,8 | 12°,5 | 20°,3 |
| Дели | 28°38'54'' | 23°,2 | 32°,8 | 12°,8 | 20°,0 |
| Агра | 27°10'12'' | 25°,6 | 34°,9 | 14°,2 | 20°,7 |
| Лакнау (Лукноу) | 26°51'12'' | 24°,3 | 32°,5 | 15°,6 | 16°,9 |
| Аджимир | 26°27'12'' | 26°,4 | 34°,6 | 16°,5 | 18°,1 |
| Патна | 25°37'12'' | 25°,3 | 36°,6 | 16°,0 | 20°,6 |
| Аллахабад | 25°26' | 27°,2 | 36°,4 | 17°,9 | 18°,5 |
| Бенарес | 25°18'24'' | 26°,6 | 35°,2 | 16°,7 | 18°,5 |
| Дакка | 23°42'42'' | 25°,8 | 29°,5 | 18°,7 | 10°,8 |
| Джабальпур | 23°9'42'' | 24°,6 | 32°,9 | 16°,0 | 16°,9 |
| Калькутта | 22°33' | 25°,7 | 29°,6 | 18°,7 | 10°,9 |
| Джиттатонг | 22°20'30'' | 24°,4 | 28°,3 | 17°,6 | 10°,7 |
| Барода | 22°16' | 26°,9 | 34°,8 | 20°,7 | 14°,1 |
| Нагпур | 22°10' | 27°,6 | 35°,7 | 21°,9 | 13°,8 |
| Ахмаднагар | 19°6' | 25°,6 | 30°,8 | 21°,2 | 9°,6 |
| Бомбей | 18°53'30'' | 26°,8 | 29°,8 | 23°,6 | 6°,2 |
| Махабалешвар | 17°54'24'' | 19°,2 | 23°,6 | 17°,3 | 6°,3 |
| Визагапатам | 17°41' | 28°,3 | 34°,1 | 22°,3 | 11°,7 |
| Беллари | 15°8'54'' | 26°,8 | 30°,8 | 23°,4 | 7°,7 |
| Бангалор | 12°57'36'' | 23°,4 | 27°,0 | 20°,1 | 6°,4 |
| Аркот | 12°54'18'' | 27°,5 | 31°,1 | 22°,6 | 8°,3 |
| Мангалор | 12°51'42'' | 27°,2 | 30°,1 | 25°,5 | 4°,6 |
| Пондишери | 11°56' | 29°,2 | 30°,6 | 26°,7 | 3°,9 |
| Кананор | 11°51'12'' | 27°,1 | 29°,4 | 25°,7 | 3°,7 |
| Утакамунд | 11°23'42'' | 13°,3 | 16°,0 | 10°,8 | 5°,2 |
| Каликут | 11°15'12'' | 27°,4 | 29°,7 | 25°,9 | 3°,8 |
| Карикал | 11°5' | 28°,0 | 31°,5 | 24°,8 | 6°,7 |
| Коимбатур | 11°1' | 24°,8 | 27°,6 | 22°,6 | 5°,0 |
| Трихинополи | 10°49'48'' | 29°,3 | 32°,6 | 25°,3 | 7°,3 |
| Кочин | 9°58'6 | 26°,9 | 29°,3 | 25°,1 | 4°,2 |
| Мадрас | 9°55'18'' | 27°,8 | 30°,9 | 24°,4 | 6°,5 |
| Канди | 7°17' | 22°,7 | 23°,7 | 21°,4 | 2°,3 |
| Коломбо | 6°56' | 26°,8 | 28°,0 | 25°,6 | 2°,4 |
| Пойнт-де-Галь | 6°2'30'' | 27°,1 | 28°,1 | 26°,1 | 2°,0 |
Арийцы, поселившиеся в равнинах севера Индии, разделили год на шесть времен: это «шесть юношей» древней мифологии, которые вертят колесо года, увлекая непрерывно круг всего живущего и всех миров. Но это деление года, которое, под влиянием песен и священных поэм, было принято в Индустане и даже на холодных плоскогорьях Тибета, не может быть одинаково применено ко всем областям Полуострова, в особенности потому, что сезоны не сменяются таким образом, чтобы представлять на юге, как и на севере, один и тот же характер и одинаковую продолжительность. Весна, или васанта, которая соответствует месяцам марту и апрелю, есть пора любви и наслаждения, воспетая поэтами: воздух ясен, небо чисто, безоблачно, ветерок, дующий с полудня, тихо шелестит листьями деревьев и приносит в хижины опьяняющее благоухание цветов манговой пальмы; тяжелые полевые работы кончены; настало время для свадеб и праздников в честь богов. Но вскоре приходит гришма, «время пота», в сопровождении облаков пыли, поднимающейся с дорог и полей, в сопровождении частых пожаров, вспыхивающих среди иссохшей травы и бамбуков: это знойные месяцы май и июнь. В воздухе тихо, но уже собирается гроза; черные тучи мало-по-малу скопляются на горизонте; вот, наконец, блеснула молния и ударил гром, возвещая о появлении муссона, который начинается с наступлением варши, периода дождей: реки широко разливаются и орошают прибрежные равнины; природа обновляется, посеянное зерно проростает на запаханных полях. За этими двумя месяцами, июлем и августом, следует четвертый сезон, шарад, осень, продолжающаяся два месяца, сентябрь и октябрь, во время которой вызревают плоды, под влиянием тепла, еще влажного от дождей предыдущего периода. Гиманта, или зима, соответствующая двум последним месяцам европейского года, отличается холодными ночами и утренниками, но великолепными, ясными днями, во время которых производится жатва на полях, и земледельцы молотят и собирают свое зерно. Затем идет саси или сисира, последнее время года, период росы и туманов, который оканчивается февралем месяцем западных народов. После того цикл года снова начинается в том же порядке.
В действительности резко разграниченные деления климата для всего Индустана сводятся к трем временам года—теплому, дождливому и холодному. Великий годовой кризис, метеорологическая драма, о которой повествуют древние поэмы и которая получила капитальную важность в мифологии индусов, это—наступление дождливого муссона; как показывает буквальный смысл его арабского названия моссим, муссон есть «сезон» по преимуществу, важнейшее время года. Большие жары, сопровождающие шествие солнца, которое мечет вертикально свои лучи над Индустаном, расширяют атмосферу страны и заставляют ее подниматься столбами в верхния области; вся Индия превращается в громадную пылающую печь с сильною тягой; стоящие над океаном воздушные массы, насыщенные водяными парами, приходят в движение и устремляются к Полуострову. На берегах Малабарском, Конканском и Бомбейском воздушный ток дождливого муссона идет с юго-запада и движется прямо в противоположном направлении с северо-восточными пассатными ветрами. Можно подумать, что он обязан своим прохождением противо-пассатам, или обратным пассатам, спускающимся из верхних областей атмосферы, чтобы дуть на поверхности земли; вероятно, однако, что его следует считать, по крайней мере отчасти, продолжением пассатных ветров южного полушария, привлекаемых на север сильно нагреваемою поверхностью Индии и постепенно отклоняемых к северо-востоку вращением земного шара на оси. Наблюдения, сделанные в разных метеорологических станциях Полуострова, равно как на борте кораблей, доказывают, что воздушные волны южного муссона обязаны своим происхождением также местному отливу атмосферы над Индийским океаном: часто бывает, что пояс штилей и неправильных ветров, занимающий экваториальные моря, совершенно разделяет пояс юго-восточного пассата и пояс южного муссона. Что касается направления этого последнего ветра, то нельзя сказать, чтобы оно было однообразное, от юго-запада к северо-востоку, на всех берегах Индии; часто он движется прямо с юга на север. В долине Инда, в долине Иравадди, на берегах Сандербанда и Ориссы, на северной стороне Бенгальского залива воздушный поток направляется перпендикулярно к притягивающим его морским берегам: иногда он приходит с юго-востока. Тогда как пассатные ветры представляют явление космического порядка, зависящее от движения планеты и её положения относительно солнца, муссоны происходят от неравномерного распределения материков на поверхности земного шара; пусть земли и моря распределятся как-нибудь иначе, и этого будет достаточно, чтобы изменилась вся география муссонов.
Несмотря, однако, на свой отчасти местный или областной характер, муссон есть, бесспорно, одно из замечательнейших явлений нашей земли по своей силе и по величественности своего наступления. С Матерана, близ Бомбея, с Магабалешвара или с какого-нибудь другого мыса западной Гатской цепи, откуда видны разом море, берега и ущелья гор, можно обнять взором во всей его совокупности грандиозное зрелище, представляемое появлением этого метеора. С 6 по 18 июня, смотря по годам, скопляются первые грозовые облака, предвестники муссона. На одной стороне небосклона медно-красные пары скучиваются в виде башен, группируются в форме «слонов», по местному выражению, затем медленно придвигаются к земле; туча сгущается, растет и, наконец, покрывает половину неба, тогда как другая половина не имеет ни одного пятнышка на своей великолепной лазури. С одной стороны мрак окутывает скоро горы и долины, тогда как вдали очертание берегов обрисовывается с поразительною ясностью, и море, реки, похожия на серебряные ленты, поля и деревни, рассеянные там и сям города кажутся сверкающими каким-то сверхъестественным блеском. Вот, наконец, послышались первые громовые удары; тучи ударяются о крутые склоны Гатских гор, и буря разражается, молнии следуют без перерыва одна за другою, гром гремит беспрестанно и перекатывается в пространстве, дождь льет потоками. Затем в толще туч образуется разрыв, свет возвращается мало-по-малу, природа снова озаряется под лучами заходящего солнца, и от всех этих масс, обрушившихся с неба, не осталось ничего, кроме легкого тумана, поднимающагося вверх по долинам, или повисшего в виде бахромы на верхушках деревьев. Такова обыкновенно первая гроза муссона, предшествующая правильным дождям; но бывает и так, что появление дождевых туч не сопровождается громом; темнота вдруг охватывает пространство, и начинается ливень. Иногда облака дефилируют в продолжение одного или двух дней вдоль мысов, точно военные корабли, проходящие в открытом море мимо крепости; огибая мыс, каждое облако посылает из себя молнию и гром; можно подумать, что небо ведет войну с горами.
Правильность явления муссонов, продолжающагося с июня по сентябрь, конечно, имела, так сказать, регулирующее влияние на работы и заботы живущих внутри материка племен, точно так же, как она долгое время определяла движения торговли вдоль берегов Полуострова. Пока не были введены пароходы на Индийском океане, времена года служили точными регуляторами для прихода и отхода судов на берегах Малабарском и Коромандельском. Задолго до Неарха арабы, привозившие богатства Индии в порты Красного моря, познакомились с ходом правильных ветров, меняющихся от одного берега до другого; это явление периодической перемены направления воздушных течений должно было поразить мореходов с самых первых времен мореплавания; оно дало им смелость распускать свои паруса при попутных ветрах в полной уверенности, что будущий муссон позволит им благополучно вернуться в отечество. Но как ни велико было влияние муссона на торговые сношения Азии, оно, однако, представляется второстепенным в сравнении с его важностью для орошения почвы, без которого не было бы ни культуры, ни заселения страны. Летний муссон приносит проливные дожди с грозой. Северо-восточный пассат, который спускается с плоских возвышенностей Тибета, после того как он прошел через пустыни центральной Азии, не дает никакой влажности; редкие зимние дожди, падающие на равнины Северной Индии в течение периода, когда господствует этот ветер, происходят от местных круговращений воздуха и от облаков, которые приносят с Бенгальского залива противо-пассаты, или верхние пассаты, дующие в пространстве над нижними воздушными потоками. Летние дожди, приносимые муссоном, питают реки Индустана, вызывают к жизни пышную растительность в лесах и на полях, поддерживают земледелие; давая хлеб населению, они тем самым были главным деятелем и двигателем цивилизации на Полуострове. Это беспрестанно повторяют первые песни Риши, взывающие к Индре, который рассекает тучу, чтобы освободить небесные стада и пролить на своих обожателей богатство и изобилие. «Дождь посылают нам боги—говорит Магабгарата;—он дает нам растения, от которых зависит благосостояние людей».
Количество дождей, приносимых летним муссоном, неодинаково по годам: в один год бывает больше, в другой меньше, и при том оно сильно разнится в разных областях Индустана. На западных склонах Гатских гор выпадает такая масса дождевой воды, что в продолжение года она образовала бы слой толщиною в несколько метров, или, средним числом, около 31/2 сажен (в Петербурге годовое количество дождевой воды составило бы слой только в 10 вершков). Гонимые ветром на крутизны и в узкия долины этих гор, составляющих внешний край Декана, облака превращаются в потоки, которые быстро спускаются к морю, совершая таким образом в несколько дней полный кругооборот воды, происходящий между океаном, атмосферой и материком; но в своем коротком переходе воды западной покатости Индии вызывают к жизни на своих берегах густую, пышную растительность и обновляют кормилицу-землю прибрежных местностей, принося ей обломки обрушившихся лав. Эти-то проливные дожди, извергаемые муссоном на западный бок Гатской цепи, и придали этим горам такой разорванный вид; они разрезали их на башни и остроконечные пирамиды, размыли в толще их ущелья и глубокия пропасти. Но далее, за выступами, венчающими вал Гатского хребта, облака, приносимые муссоном, являются уже облегченными от большей части своей влажности, и сильные дожди выпадают только на самых высоких вершинах холмов, которые поднимаются там и сям над общим уровнем возвышенностей Декана. Тогда как среднее годовое выпадение дождей превышает 7 метров в некоторых местах западного ската Гатских гор, оно составляет только 4 метра в Меркаре, на холмистом плато Кург; далее на восток оно еще меньше. Даже на одной и той же горе разница весьма значительна между противоположными склонами; так, например, на горе Чамбре, принадлежащей к цепи Гатских гор и возвышающейся на западе от цепи Нильгири, западные скаты получают в продолжение года, средним числом, 472 сантиметра дождевой воды, почти на целый метр больше, нежели восточные. И не только пропорция падающей из воздуха воды уменьшается от запада к востоку в области Гатских гор,—она убывает также, начиная от Бомбея, по направлению с севера на юг, что происходит, без сомнения, от постепенного съужения полуостровного тела и уменьшения, вследствие того, собирательной силы, обнаруживаемой нагретою атмосферою в отношении прилегающих воздушных масс. Так, в низменных равнинах Траванкорских среднее годовое падение дождей не менее 2 метров (2,8 аршина), а на мысе Коморине, на южной оконечности Полуострова, оно не превышает одного метра (1,4 аршина). Замечательно, что количество дождевой воды, совершенно достаточное в более умеренных странах, чтобы поддерживать богатую лесную растительность, не довольно велико в полуденной Индии, чтобы питать большие деревья. Подобно тому, как в России и в Северной Америке большее или меньшее количество дождевой воды производит контраст лесов и лугов, так точно в верхнем бассейне реки Кавери густой лес чередуется, соответственно выпадению дождей, с бамбуковыми порослями: где средний годовой слой дождевой воды достигает толщины от 3 до 3,75 метров, там развивается во всей силе и пышности непроницаемый тропический лес; напротив, в тех местах, где падение дождей варьирует от полутора до двух с половиною метров, скаты холмов представляют лишь чащу бамбуков, усеянную небольшими деревцами.
На севере Индустана обилие дождей уменьшается в обратном порядке, т.е. по направлению от востока к западу. У подошвы Сулейман-дага и в пустынях, простирающихся на восток от Инда до основания горы Абу, ливни редки, и выпадение их не имеет правильного характера: сплошной сезон дождей заменяют там периоды засухи, чередующиеся с грозами. Даже в Пятиречьи, у подошвы предгорий Гималайской цепи, земледельцы часто обращают взоры к небу в ожидании желанного дождя, и горячия молитвы, которые древние арийцы возносили богам-громовержцам, доказывают, что в ту эпоху, когда они населяли эту страну, облака были, как и в наши дни, слишком скупы на свою плодотворную влагу. Но на востоке муссон Индийского моря, правильно отклоняемый к северо-востоку, изливает на землю свою тяжелую ношу дождей, падение которых совпадает как раз с таянием снегов, ручьи и реки растут и разливаются одновременно от притока вод, приносимых ветром, и от притока вод, посылаемых горами. Как ни значительны, за целый год, атмосферные осадки, в виде снега и дождя, на склонах Гималайских гор, особенно в Сиккиме, количество, их, однако, гораздо меньше, нежели выпадение атмосферной воды на северо-востоке Индустана, в глухой горной котловине, куда низвергается, как в пропасть, летний муссон. Тогда как в Калькутте, в низменных равнинах Ганга, дождевые облака изливают на землю только 2 метра (2,8 арш.) воды в средний год, они приносят жидкую массу, почти вдесятеро большую, на горы Гарро и Хази, образующие выступ или мыс над местностями по течению Брахмапутры. Станция Черапонджи, в одной долине гор Хази, занимает первое место в свете по количеству атмосферных осадков, которые представляют там годовой слой дождевой воды наиболее значительный, какой до сих пор случалось наблюдать метеорологам: в среднем выводе, толщина этого слоя равняется 16 метрам (почти 71/2 сажен); в 1861 году она достигла даже 20,44 метров (более 91/2 сажен), так что в тех странах иногда выпадает больше дождевой воды в двенадцать месяцев, чем, например, в Шампани в продолжение пятидесяти лет. При том, еще весьма вероятно, что эта огромная масса падающей из атмосферы воды бывает иногда превзойдена в некоторых воронках или котловинах долин, лучше расположенных для принятия облаков и превращения их в дожди, льющие ручьями. По словам Гукера, один только ливень, который можно было сравнить с обрушением морского смерча, покрыл землю жидким слоем толщиною в 760 миллиметров, т.е. таким слоем, какой во Франции выпадает в продолжение целого года. Так же, как и западный склон Гатской цепи, горы Ассама, принимающие удар проливных дождей, изрезаны глубокими оврагами и загромождены обвалами: нигде во всем свете скалы не носят на себе более явных знаков постоянной работы разрушения, производимой атмосферными деятелями и преимущественно дождями.
Малейшая неправильность в годовых колебаниях климата, зависящая от перемены атмосферного давления, хода ветров и облаков, имеет чрезвычайно важные последствия в Индустане. Когда дождей нет или они недостаточны и, вместо обильного поливания почвы, только слегка спрыскивают ее, когда реки пересохли и каналы иссякли, голод неизбежен, и миллионам людей грозит смерть от истощения вследствие недостатка пищи. Всего чаще нужно опасаться неурожаев и голодовок в Синде и Пенджабе, в равнинах Гангского бассейна и на восточных берегах Полуострова, т.е. в областях, где среднее годовое количество дождевой воды от 1 до 11/2 метра; эти страны должны были бы подвергаться периодически обезлюднению, если бы не ирригационные каналы, позволяющие восполнять недостаток дождей; искусственные орошения считаются бесполезными только в тех местностях Индии, где количество атмосферных осадков достигает 2 метров (2,8 аршина) в год. Метеорологи полагают, что существует постоянное соотношение между учащением пятен на солнце и колебаниями дождей; по их наблюдениям, цикл этих двух порядков явлений один и тот же, именно: он обнимает одиннадцатилетний период, так что, следовательно, зная наперед время наступления опасности, можно было бы предотвратить ее, по крайней мере отчасти; но полная утилизация текучих вод, берущих начало по большей части в областях, где дожди выпадают в обилии, есть единственное средство обеспечить успех урожаев, а с тем вместе и существование сельского населения в Синде и во всех местностях восточной покатости Индии.
Менее опасные в действительности, нежели недостаток дождей, циклоны внушают, однако, больше страха, потому что их дело разрушения совершается внезапно, быстро, и сцены гибели, раздирающие душу катастрофы, оставляемые ими на своем пути, выказываются сразу во всем их ужасе. При том же, если от неурожая и голода гибнут иногда миллионы индусов в течение нескольких месяцев, то и циклоны нередко потопляют более сотни тысяч людей в несколько часов, и эпидемии, местные голодовки тоже являются неизбежными следствиями этих страшных метеоров. В морях Индии, к северу от экватора, большинство циклонов развертывают свою спираль на севере от Андаманских островов, между берегами Ориссы и берегами Арракана; но они потрясают воды также у Коромандельского берега и, по другую сторону Полуострова, в Аравийском море. Эти ураганы происходят либо в начале, либо, еще чаще, в конце периода летнего муссона. Обыкновенно, нарушению равновесия атмосферы предшествует затишье, сопровождаемое барометрическим давлением, почти одинаковым на значительном пространстве. Нагретые водяные пары, поднимающиеся в этих морях, не находя в верхних слоях атмосферы выхода, который позволял бы им разливаться вправо и влево, снова сгущаются, скрытая теплота освобождается, и холодный воздух устремляется со всех сторон к этому очагу высокой температуры: таким образом, от столкновения воздушных масс и рождается вихрь. Самыя ужасные катастрофы, естественно, разражаются на низменных берегах, где внезапные приливы, поднимающиеся всего только на несколько метров выше среднего уровня морских вод, достаточны для того, чтобы опустошить равнины и поля, простирающиеся на необозримое пространство внутрь твердой земли.
Всего больше разрушили циклоны человеческих поселений, всего больше потопили народу при устьях рек Кистны, Годавери, Маганадди, Ганга и Брахмапутры. Самым ужасным из всех ураганов, о которых повествуют летописи земного шара, был ураган, разразившийся в 1876 году над восточною областью Сандербанда, по обоим берегам реки Мегны; он известен под названием «Бакерканджского циклона», данным ему по имени округа, который он опустошил. В ночь с 31 октября на 1 ноября, около полуночи, три следовавшие одна за другой волны, от 3 до 6 метров общей высоты, подступили к берегам устья, и в несколько часов три большие острова, соседние островки и около 60.000 гектаров (54.900 десятин) суши были покрыты водами, более полумиллиона людей были в то же время внезапно застигнуты потопом. Несчастные, которые искали спасения на крышах своих хижин, были унесены волной вместе с хижинами. Только те, которые успели взобраться на деревья, растущие небольшими рощами вокруг селений, и спаслись от неминуемой смерти, да и эти счастливцы могли спуститься из своего убежища лишь на другой день под вечер. Почти все деревья были смыты до основания, весь домашний скот погиб, и первоначальные, на-скоро собранные статистические сведения о размерах катастрофы исчисляли цифру человеческих жертв слишком в 200.000 душ.
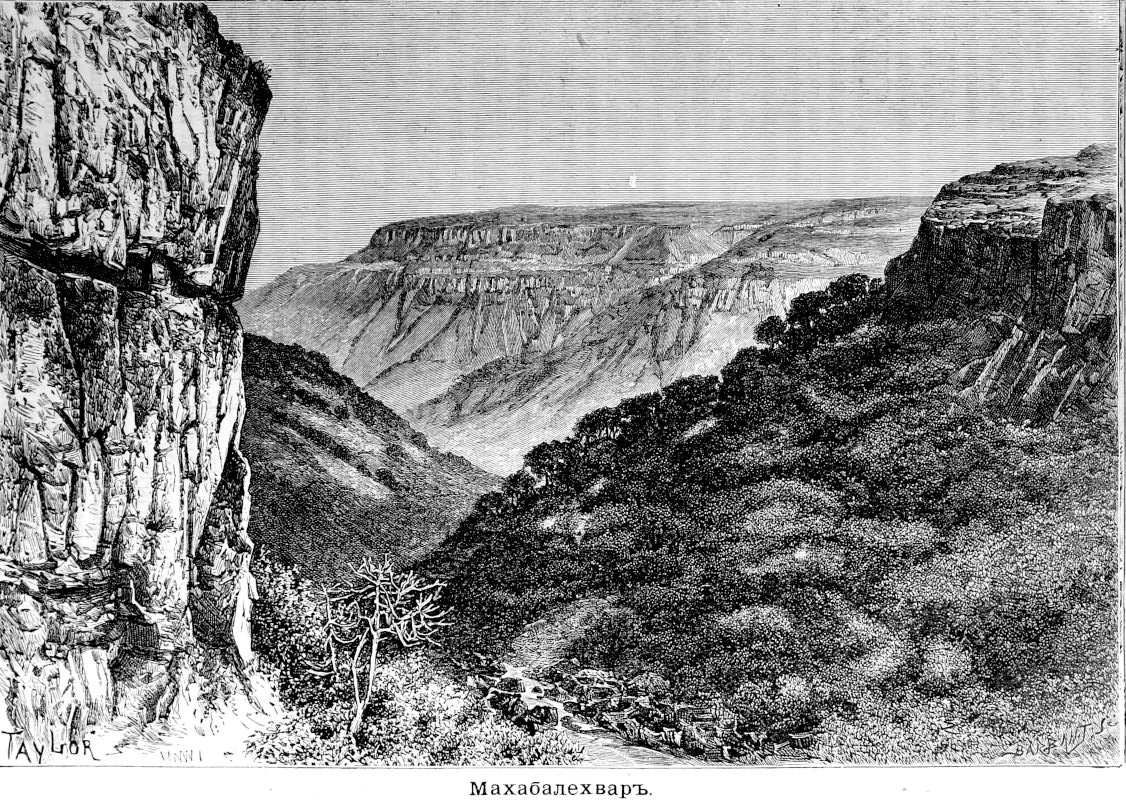
Почти везде, где прошла страшная волна наводнения, осталась только треть, в иных местах даже только четверть жителей; затем гниение огромной массы трупов породило холеру, и остальное, уцелевшее от потопа, население было еще истреблено более, чем на десятую часть развившеюся эпидемией. До сих пор еще только на незначительной части низменных берегов Сандербанда приступлено к сооружению оградительных валов, которые могли бы помешать повторению подобных ужасающих бедствий.
С своими различными климатами, от гор Ассама, где дожди льют потоками, до безводных пустынь Синда, Индустан представляет в своей флоре значительное разнообразие растений, но он не составляет особенной, совершенно самостоятельной области в отношении растительности. Не будучи центром рассеяния растительных форм, как Южная Африка, Малезия, Австралия, он есть, напротив, общая почва, где соприкасаются и смешиваются флоры сопредельных стран; за исключением нескольких видов, которые индивидуализировались под влиянием местных условий, но роды которых встречаются также и в других странах, растения, которые мы находим в Индии, принадлежат к растительным областям или флорам Персии, бассейна Средиземного моря, Египта, Малезии, Китая, центральной Азии. В совокупности индийской растительности, эти различные элементы, комбинируясь между собою, образуют четыре отдельные области, соответствующие различию климатов: область Гималайских склонов, бассейн Инда, почти не получающий дождей, Ассам, где атмосферная влага выпадает в чрезмерном обилии, и наконец полуостровная Индия в собственном смысле, область без крайностей в отношении засухи и дождей.
Гималайская флора, особенно в Кашмирских горах, заключает в себе наибольшую пропорцию европейских видов: во многих долинах путешественник, приехавший с дальнего Запада, из Европы, может подумать, что находится все еще на родине, видя окружающие его травы и деревья. Заключенные некогда в одной и той же области, затем постепенно удаленные друг от друга переменами климата, растения Европы и растения Гималайских гор сохранили, несмотря на разделяющее их теперь огромное расстояние, свою первоначальную физиономию и свое родство. Сосна, ель, можжевельник, тис и другие хвойные деревья, которые составляют большие леса Гималаев до высоты 3.600 метров, очень похожи на сродные виды европейской флоры; великолепный деодар, «дерево богов», который растет на Кашмирских и Кумаонских горах и который теперь введен в парках и в лесах Западной Европы, есть кедр, мало отличающийся от кедров Ливана и атлантических берегов, особенно когда он достиг полного роста. В восточной части Гималайского хребта представленные роды, как-то: магнолия, аукуба, абелия, принадлежат преимущественно к синическому (китайскому) поясу, и чайное деревцо, растущее в диком состоянии в лесах Ассама, есть не что иное, как разновидность китайского растения.
Северо-западная область Индустана, не получающая достаточного количества атмосферной влаги, естественно менее богата растительными видами, и существующие там представители растительного царства составляют часть флоры, которую мы находим по другую сторону Сулейман-дага, в Персии, в Аравии, в Египте. Более девяти десятых растительности Синда встречаются в туземной флоре Африки; джунгли, прилегающие к пустыне, состоят почти исключительно из тех же колючих кустарников, какие мы находим на песках Передней Азии, и евфратский тополь (populus euphratica), растущий по берегам оросительных каналов, есть то же самое дерево, что и знаменитые плакучия или «вавилонские ивы», на которых евреи, во время пленения, вешали свои арфы. Растение «арийское» по преимуществу, асклепия (asclepias acida), или саркостема (sarcostema viminalis), которая производила «божественный» гом, гома или сома, столько же персидское, сколько индийское, и мудрецы Зендавесты прославляли его с таким же восторгом, как и риши Вед; но опьяняющий сок гома давно уже перестал быть священным напитком, питьем жизни и бессмертия; теперь уж не ходят собирать это растение при лунном свете, чтобы выдавливать из него сок под священным камнем и примешивать его к очищенному коровьему маслу и к чистой муке; ни один поклонник не взывает уже к нему, как к божеству. Культ сомы уступил место культу вина, возливаемого в честь новых богов.
Флора областей Индустана, имеющих влажный климат, резко отличается от флоры Синда своей силой и блеском. Возвышенная равнина Ассама, пояс болотистых пространств, которые тянутся вдоль основания Гималайской цепи, долины гор Хази, нижняя Бенгалия, прибрежье Конкана и Малабарского берега, остров Цейлон и другие обильно орошаемые, земли Индии хотя заключают не совершенно одинакие виды, но общая физиономия их растительности точно такая же: природа в этих странах представляет с таким же богатством растительные формы, которые мы встречаем на Полуострове по ту сторону Ганга и на островах Сондского архипелага. Это пояс, который производит, по крайней мере в самых теплых своих частях, перечное и коричное дерево, кардамон, камедистые деревья, и откуда европейцы получили некоторые из своих драгоценнейших приобретений в растительном мире,—хлопок, индиго, сахар и многочисленные лекарственные растения; леса его доставляют сал и тек, наиболее ценимые сорты дерева, употребляемого для построек. Различные породы пальм, прямых и твердых, «словно дротики, пущенные с неба», которые удовлетворят все потребности населения, давая ему пищу, питье, одежду, мебель и всякую утварь, необходимую для домашнего обихода, растут преимущественно вдоль морских берегов; внутри материка, особенно в долинах притоков Ганга, широколиственная мхова (bassa latifolia) осыпает землю мириадами своих цветков, которые служат пищей людям и животным и которые нередко, в периоды неурожая и бесхлебицы, спасали от голодной смерти целые населения. Там растут также различные разновидности священного дерева, смоковницы, которая может укрыть под своей тенью целые толпы народа, собравшиеся на праздник, на рынок или на религиозные церемонии; каждое отдельное дерево смоковницы разростается в целый лес, так как отростки её ветвей пускают корни в землю вокруг первоначального ствола и обвиваются иногда вокруг соседних пальм или других деревьев. Постепенным переходом тип тропической флоры перемешивается с типом, который представляет более умеренная растительность внутренних областей полуострова и растительность склонов гор, характеризуемая деревьями медленного роста, но с крепким или душистым волокном, как железняк (железное дерево) или сандал. Бамбук (индийский тростник) покрывает почву густыми порослями там, где годовое количество дождей недостаточно для развития лесных дерев, и заменяет все эти деревья в домашнем обиходе жителей. Индусы удивляются, как могут существовать цивилизованные народы в тех обездоленных странах, где не растет бамбук.
Но распашка новых земель, искусственное орошение, все заботы, посвящаемые человеком возделыванию почвы, изменяют с каждым годом естественные границы поясов растительности. Земледельцы даже успели собирать жатвы зернового хлеба на высотах, почти достигающих линии вечного снега. Так, в стране Ладак сеют ячмень, в некоторых защищенных от ветра местах, на высоте слишком 4.500 метров (более 4 верст) над уровнем океана; на высоте 4.000 и 4.200 метров находятся деревни, население которых всецело зависит от успешного сбора этого хлеба. Почти все группы человеческих жилищ в верхней долине реки Сетледжа до высоты 3.400, а в некоторых местах даже до высоты 4.000 метров (33/4 версты) окружены ивами и абрикосовыми деревьями, к которым там и сям присоединяются можжевельник высокий (juniperus excelsa), священное дерево буддистов. В Гималаях верхний предел обработанных полей и дикорастущих растений возвышается постепенно от внешних скатов, спускающихся в равнину, к склонам, господствующим над долинами в сердце гор. Иное дерево, которое останавливается на высоте 2.000 метров (6.562 фута) к югу от Дарджилинга, поднимается до высоты 2.200, затем до высоты 2.500 метров на севере от этого города, в жаркой и влажной теплице, которую образует долина Сиккима, окруженная со всех сторон высокими горами.
Подобно флоре, и животное царство Индустана не отличается от фауны сопредельных стран; оно сходствует, смотря по границам, с одной стороны, с областью Тибета и Китая, с другой—с областью Передней Азии, Индо-Китая и Малезии.
Южный склон Гималайских гор, естественно, населен теми же видами животных, как долины Загималайской цепи и плоскогорья Тибета; границу распространения для каждого животного, в направлении нижних долин, составляют те препятствия, какие противополагают ему климатические условия, на различных высотах. Так, вся богатая фауна Тибета, яки. дикие и домашние, антилопы, газели, серны, кабарги, косули, овцы, ослы, джигетаи, медведи, волки, белые, черные и красные, шакалы, лисицы, дикия собаки, встречаются либо в снежных областях, либо в лесах Гималайских склонов; но эта фауна не переходит за пределы сухой области: там, где начинаются леса, питаемые влажным воздухом Сиккима, останавливаются горные звери. У подошвы больших гор лесная полоса области терая составляет, вместе с лесными чащами Ассама и гористой страны, отделяющей Бенгалию от Бирмании, главное убежище диких животных Индии; даже некоторые виды, истребленные в остальной части Полуострова, встречаются только в этом поясе; таков, например, маленький кабан (porculia salviania), который весит не более 5 килограммов (12 фунтов) и ростом бывает не выше 25 сантиметров.
Слон—одно из животных, которые могли сохраниться в большом числе в области терая и в горах Ассама, защищаемые лесными чащами и болотами. Он был выгнан почти из всех других областей Индустана; в других местах, кроме сейчас указанных, его находят только в земле Конд, в девственных лесах Курга, Майсура, Траванкора и на острове Цейлоне. Индийский слон не живет в равнинах, как африканский; его убежища находятся обыкновенно в холмистых местностях, и даже в гористых областях он предпочитает крутые гребни; быть может, это—недавняя перемена в условиях существования, вынужденная соседством людей. В Сиккиме он бродит по лесам до высоты 1.200 метров; однажды даже охотники поймали одного слона на высоте более 3.000 метров, затем, приручив его, отвели в Лассу через перевалы Гималайских и Загималайских гор. Слон, вероятно, скоро исчез бы из лесов Индии, если бы охота на него не была строго ограничена и если бы ловля в ямы, прикрытые ветвями деревьев, не была безусловно воспрещена. Ост-индское правительство оставило за собою право собственности на всех слонов Полуострова, как макни, т.е. неимеющих бивней, так и ганда, т.е. вооруженных длинными клыками. Хотя выбранные в число домашних животных Ганезы, бога мудрости, бедные слоны, однако, так неблагоразумны, что дают охотникам загонять себя в загороди, окруженные крепким частоколом, которые должны служить им тюрьмой. Там их мало-по-малу укрощают голодом, затем приручают при помощи товарищей, уже обращенных в домашнее состояние. Таким способом излавливают каждый год несколько сот слонов, которые почти все употребляются на работы при постройке дорог или на перевозку леса в кораблестроительных верфях или пушечных лафетов в арсеналах. Князья и знатные особы в Индии тоже не могли бы справлять празднеств, ни выезжать на охоту без того, чтобы в кортеже их не находилось нескольких слонов, покрытых богато убранными чапраками и несущих на спине гауды, или балдахины, украшенные драгоценными металлами, шелком и бархатом.
Носорог, другой представитель древней фауны, тоже стал редким в Индустане, хотя там существуют еще четыре разновидности его, с одним или двумя рогами. Это животное водится, главным образом, в лесах Джиттатонга, к востоку от устья Мегны, и в болотистых землях Сандербанда, где он любит валяться в грязи. В лесах и джунглях центральной Индии, Ассама и пограничных с Бирманией местностях рыскают также страшные звери из отряда жвачных, как-то: гаял, гаур (bos gaurus), обыкновенно называемые охотниками «бизоном», и дикий буйвол. Охота на этих животных не менее опасна, чем охота на тигра или на слона. Особенно опасен буйвол; он один только из всех диких животных Индустана, за исключением тигра, привыкшего к человеческому мясу, яростно бросается на человека, преимущественно на европейца; даже прирученные буйволы выказывают сильное отвращение к белокожим чужеземцам. Что касается кабана, то он редко нападает на человека, но это самое ненавистное для земледельцев животное, по причине вреда, какой он наносит полям; в нем видят врага по преимуществу, и во многих областях Индии тигра считают в некотором роде покровителем земледелия, потому что он избавляет крестьянина от диких свиней и других опустошителей посевов.
Тигр, прозванный «королевским» за его страшную силу и свирепость,—кровожадный зверь, который лучше всех других хищников сохранил свое господство во всех частях Индии, как в равнинах, так и в долинах гор, до довольно большой высоты на склонах Гималаев. Он нападает преимущественно на газелей, антилоп, косуль, кабанов и на всех мелких лесных животных; когда он находит эту дичь в достаточном количестве, он редко делает нападения на домашний скот. Но когда леса начинают пустеть, когда их население перевелось, или когда сами тигры, сделавшись старыми или немощными, не в состоянии больше гоняться за оленем или газелью, они принимаются за стада землепашцев и за самих поселян; раз отведав человеческого мяса, они уж не ищут другого. Как в отдаленные доисторические века, борьба между хищными зверями и человеком продолжается до сих пор, и во многих округах Индии еще недавно победа принадлежала кошачьему роду. Одна только тигрица в земле Чанда, в центральных провинциях, пожрала 132 человека в 1867 и 1868 годах. Про другого такого же «людоеда» рассказывают, что его годовой паек состоял из 80 человек; жители тех мест видели в нем нечто в роде бога, соединившего в своих членах силу всех своих жертв. Соседства таких тигров достаточно, чтобы прекратилось всякое сообщение по большим дорогам, пролегающим через местности, где они обитают; один из этих страшных хищников наводил такой ужас на все окрестное население, что тринадцать деревень были покинуты жителями, и пространство земли в 650 квадр. километров оставалось заброшенным без всякой обработки. Леопард, известный обыкновенно под именем «пантеры», еще более страшен охотнику, чем самый тигр; он храбрее, проворнее, ловче, что вознаграждает, и даже с излишком, его сравнительно меньшую силу мускулов. Когда он отведал человеческой крови, он становится истинным бичем края; ему беспрестанно нужны новые человеческие жертвы, так как он ограничивается тем, что высасывает из них кровь. Другой вид леопарда, чита, родина котораго—Декан, сделался союзником человека, как сокол; он сопровождает охотника в погоню за газелью и преследует эту дичь с такою быстротой, что глаз едва успевает следить за ним.
Кроме сейчас названных, в джунглях Индустана рыскают еще многие другие виды кошачьего семейства, но самый большой из всех, тот, которого народное воображение возвеличило как более могущественного, чем самый тигр, лев, с начала нынешнего столетия совершенно исчез в континентальной области Индии; еще в 1810 году охотились на этого зверя в Пятиречьи; в настоящее же время единственные представители индийского льва, отличающагося от африканского отсутствием гривы, живут в скалах Гир, около южной оконечности полуострова Катиавар; туземцы называют его «верблюдо-тигром». Близ этой же области, в соседстве Ранна, нашел себе убежище дикий осел; нильгау, или антилопа пестрая (portax pictus), которую, впрочем, встречают и в других частях Индустана, до Гималайских гор, тоже старается избегать охотников, бродя по окраинам этого пустынного края. Что касается волков то они удержались во всех открытых местностях Полуострова, и хотя их меньше боятся, однако они делают больше опустошений, чем тигры; некоторые дикия племена почитают их как богов и ждут себе величайших бед, когда кровь этих животных была пролита на их территории какими-нибудь чужими охотниками. Гиены тоже очень опасны для стад, а в голодное время и для детей поселян. Шакалы, очень обыкновенные, по ночам оглашают воздух своими завываниями; они такие же ловкие, всюду пробирающиеся бродяги и хищники, как европейская лисица, и эти качества доставили им место в индийских баснях, где они играют роль хитрых советников и составителей заговоров. Дикия собаки, или доле, тоже часто встречаются в лесных областях; они рыскают целыми стаями, не подавая голоса, и не боятся нападать даже на тигра; какова бы ни была преследуемая дичь, она никогда не уйдет от них; погоня может продолжаться по целым дням, но в конце-концов собаки настигают свою добычу и разрывают ее. Летяги (pteromys), или «летучия лисицы», как их называют англичане, белки, у которых кожа на боках широко растянутая, образует как бы парашют, висят массами на ветвях деревьев. Что касается обезьян, то виды их очень многочисленны, и в некоторых округах они сделались настоящими хозяевами страны, благодаря благоговению, которое туземцы питают к семейству бога Ганумана; они проникают в дома, накладывают руку на все, что им понравится. Чтобы сохранить провизию от этих непрошеных гостей, жители принуждены прикрывать ее ветками колючего терновника.
Статистические сборники, издаваемые в разных провинциях Полуострова, дают список, всегда, впрочем неполный, убитых в течение года крупных хищников и людей, пожранных зверями. Благодаря премиям, предлагаемым правительством, и легкому способу отравления, который дает стрихнин, число лютых зверей, от которых избавляются индусы, увеличивается, тогда как число человеческих жертв уменьшается. Так, в шестилетие с 1870 по 1875 год в Бенгалии было убито плотоядных животных 18.196, в том числе 7.278 тигров, 5.668 леопардов, 1.671 бабр (felis onca), 1.388 волков; людей, растерзанных зверями за тот же период времени, насчитывали 13.416, из них 4.218 было пожрано тиграми, 4.287 волками, и т.д. Гораздо труднее защититься от змей, которые проползают в щели хижин и обвиваются вокруг ветвей деревьев. Ни в какой другой стране земного шара ядовитые змеи не опасны так, как в Индии. Каждый год оффициальная статистика сообщает о тысячах смертных случаев, происшедших от ужаления этими животными: по Фэйреру, ежегодное число жертв нужно считать слишком в 20 000. В 1877 г. людей, умерших от укушения змей, насчитывали 16.777; число убитых змей, за которых выданы назначенные премии, в этом году простиралось до 127.295. В 1880 году общее число человеческих жертв, погибших от змей и больших плотоядных, определяли в 21.990. В 1894 г. погибло от диких зверей и змей: людей—24.421, рогатого скота—97.371 голов; было убито: 13.447 диких зверей и 102.210 змей; выдано премий—115.079 рупий. Зоолог Гунтер насчитывает во всей Индии 79 видов ядовитых змей, из которых, впрочем, более половины принадлежат к соленоводным животным; виды, живущие в море или в прибрежных лагунах, имеют железки, содержащие яд, тогда как пресноводные змеи безвредны. Между пресмыкающимися с ядовитыми зубами есть такия, как, например, кобра, дабойя, офиофаг (змееед), укушение которых почти неминуемо смертельно. Кобра, или «очковая змея» (naga tripudians) которой португальские завоеватели дали название «cobra di capello», оттого, что у неё на шее кожа вытянута в складки, образующие род капюшона,—самый опасный из всех этих гадов; в то же время это один из самых обыкновенных; по словам медика Никольсона, в Бангалорском округе этих змей найдешь, по меньшей мере, до 400 штук на каждом квадратном километре. Кобра—змея, которую преимущественно приручают заклинатели змей, иногда даже не вырвав у неё ядовитых зубов или дав им вновь вырости. Страшный змей мерно раскачивается из стороны в сторону под звуки музыкальных инструментов, обвивается вокруг рук и туловища своего господина, делает вид, как будто жалит его, ласкаясь; но часто бывает, что эти милые ласки, эти грациозные игрушки оканчиваются смертью заклинателя. Кобра—священное животное; это представитель бога разрушения, и, как таковой, он имеет право на почитание со стороны людей. Когда благочестивый индийский брамин открывает этого гада в щели своего жилища, он не только не потревожит его, напротив, он приносит ему молока, преклоняется перед ним, почитает его, как домашнее божество; если, по несчастью, кобра заплатит неблагодарностью за оказываемый ей почет и ужалит ребенка, то отец семейства ограничивается тем, что относит смертоносное пресмыкающееся куда-нибудь в поле и извиняется, удаляясь от него. Если какой-нибудь нечестивец убьет священного змея, то брамин покупает его смертные останки и сжигает их с религиозными церемониями. Так, продолжается до сих пор древний культ змей, который предшествовал в Индии браминским религиям, и который мы находим под разными формами во многих других странах Старого и Нового Света. Змей, выползающий из трещин скалы, должен был казаться первобытному человеку выходящим из мрака, как представитель подземного мира и адских сил. Это дракон легенд, изрыгающий огонь и дым чудовище, схватывающее злых и ввергающее их в горящие бездны преисподней; в то же время это—священное животное, которое носит драгоценный камень, спрятанный в складках его чела, обладатель тайн, сокрытых в глубинах неведомого подземного мира. Искусство магии и заключается, главным образом, в умении исторгнуть у него эти тайны, чтобы открыть драгоценные руды в недрах земли, узнать целебные травы и коренья, излечивающие болезни, или даже угадать средство сделаться сильным и богатым. В индийской мифологии мы встречаем много божеств, которые взяли змею за аттрибут своего могущества, дабы тем засвидетельствовать о своем глубоком знании сокровенных тайн мира. Диадема, которую носит Сива, составлена из семи голов кобры, соединенных между собою и вытягивающихся вперед, как бы грозящих своими жалами поклонникам бога. Индусы поклоняются также богу Вишну, охраняемому тысячеглавым змеем. Почти во всех индийских пагодах можно встретить это символическое изображение, первоначальный смысл которого постепенно утратился и которое, наконец, сделалось простым украшением. Дождевые и солнечные зонтики, которые в начале употреблялись только знатными людьми, имеют форму, напоминающую форму змей бога Сивы.
Фауна Индустана заключает также несколько страшных зверей из отряда ящериц, каковы два вида крокодила и гангский гавиал; но число этих пресмыкающихся быстро уменьшается с тех пор, как фабриканты стали утилизировать их кожу и жир, и как начали употреблять, для истребления их, средства, предоставляемые современною индустрией в распоряжение охотников. В этой неустанной работе человека по приспособлению природы к его потребностям или прихотям, ему легче уничтожать или порабощать больших животных, чем бороться с несметными массами вредных насекомых или мелких грызунов. Тогда как он истребляет льва, воюет с тигром, порабощает слона, населяет Гималайские леса дичью, привезенною из Англии, и наполняет северными рыбами садки или пруды в горах Нильгири, он остается столь же бессильным, как были его предки, против стай саранчи, полчищ крыс, муравьев и всех тех туч неприметных и неуловимых врагов, которые нападают на посевы, уничтожая их в плоде или в цвету. В борьбе с этими противниками ему нужно рассчитывать на помощь других маленьких или микроскопических животных, которые кишат или исчезают, смотря по колебаниям климата и переменам погоды. По крайней мере, он имеет в бесконечном мире птиц верных союзников, избавляющих его от всяких органических остатков, которые, разлагаясь, могли бы породить чуму в городах. Между различными видами коршунов особенно замечательны в этом отношении два, gyps indicus и gyps bengalensis, которые по справедливости заслужили себе специальное прозвище «чистильщиков»; их называют «философами» или «адъютантами» за их важную осанку. В Калькутте вы увидите бесчисленное множество этих больших пернатых, с длинным клювом, с плешивой головой, фиолетовым зобом, черными крыльями, меланхолически сидящих на стенах. Большие денежные пени защищают этих общественных благодетелей от всякого нападения. Домашняя птица у индусов та же самая, что и у европейцев, и сверх того, во многих провинциях Индии, между прочим, в Синде, еще сохранился обычай, давно уже исчезнувший в Европе, дрессировать сокола для охоты. Птица, которую жители центральной Индии воспитывают с наибольшею любовью,—это вид скворца (acridotheres tristis), который делается очень ручным и которого приучают выговаривать разные слова, между прочим, имя бога Кришны; но певчия птицы гораздо более редки в индийских лесах, чем в лесах Запада. Воробей последовал за англичанином в долины Гималайских гор.
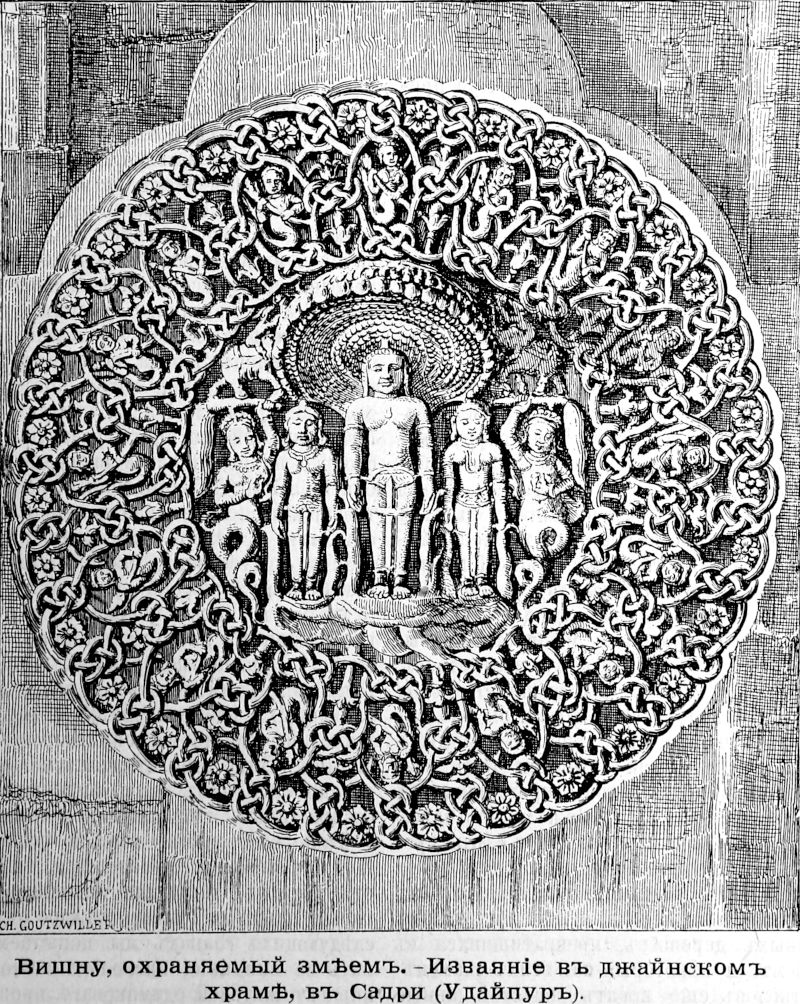
За исключением нескольких племен неизвестного происхождения, принимаемых за первобытных коренных жителей страны, по незнанию их действительной генеалогии, расы Индии, как известно, состоят в родственной связи с сопредельными этнологическими областями. Так же, как виды растительнаго и животного царств, индийские народы принадлежат к центрам образования более обширным, чем полуостров, на котором они встречаются и перемешиваются в наши дни. Арийцы, имеющие сознание своей общей цивилизации, признают друг друга братьями по языку и мысли по обе стороны индийского Кавказа; на западе, постепенные переходы расы, языков и преданий соединяют магометанские населения Ирана и Индии; точно также на севере и северо-востоке, родство легко узнается, от народца к народцу, между долинами полуденной покатости и долинами, спускающимися к восточной Азии. Наконец, и сами дравидийцы, хотя оттесненные теперь с индийских равнин к южным плоскогорьям, кажется, пришли с северо-запада, и, как полагают, в Белуджистане сохранились следы их прохода, так как наречию брагуи приписывается дравидийское происхождение, и древний индийский язык был признан принадлежащим к той же группе глоссологических семейств. Найденные в Бегистане треязычные надписи, рассказывающие историю персидского царя Дария Гистаспа, доставили переводчикам неоспоримые свидетельства древнего родства дравидийских идиомов с языками «скифскими», представляемыми в наши дни, главным образом, финскими диалектами.
Впрочем, древность переселений и перемены, которые совершаются в словаре и строении языков, тем быстрее, чем народы менее цивилизованы и более подвижны, объясняют те значительные различия, которые произошли в племенах и нациях с тех пор, как они перестали быть в непосредственных сношениях между собою. К доказательствам, извлеченным из самой истории, прибавились бесчисленные находки археологов, свидетельствующие о древности пребывания человека на Индийском полуострове. Так же, как Европа, Индия имеет свои дольмены и менгиры, свои камни, выдолбленные в виде чашки, свои кучи обделанных кремней; исследователи отыскали там весь ряд доисторических веков, протекших в эпохи каменного периода. Даже именно здесь, в Индустане, найдены древнейшие следы пребывания человека на земле: к востоку от Гоа геологи открыли, на половину зарытый под слоем базальта и латерита, целый лес пальм и хвойных деревьев, превратившихся в кремнезем, и некоторые из этих окаменелых стволов еще носят на себе явные знаки топора, которым они были срублены. Из этого видно, что дровосеки уже занимались своим промыслом в ту эпоху, когда потоки лавы выливались еще из кратеров Декана, так давно уже закрывшихся и неузнаваемых; по всей вероятности, существование этих обитателей Западной Индии восходит к эоценовым векам, быть может, даже к концу мелового периода. Следовательно, населения страны имели достаточно времени для того, чтобы разнообразно смешиваться и сливаться между собою, образуя и преобразовывая первоначальные группы.
Однако, устойчивость рас гораздо больше в Индустане, нежели на европейском континенте, что отчасти объясняется относительно массивными контурами Гангского полуострова, если сравнивать его с совокупностью островов и полуостровов, которая составляет северо-западную область Старого Света; впрочем, при всех прочих равных условиях, земледельческие населения должны быть тем менее оседлыми, чем легче им переменять климат и чем сама окружающая природа подвижнее и разнообразнее. Во многих отношениях индусы представляют элемент почти неподвижный в сравнении с европейцами; в течение того же самого двадцати-трех векового периода, в который большинство варварских племен Запада поднялось на высшую ступень цивилизации, какая когда-либо была достигаема, жители Индии, кажется, оставались почти на той же точке развития, почти нисколько не подвинулись вперед. Суммарные описания народа, оставленные первыми трактовавшими о тех краях иностранными писателями, и теперь еще применяются к жителям Полуострова; даже институт каст, отмененный было, по крайней мере отчасти, буддизмом, снова появился, подобно тому, как истинный цвет ткани опять показывается, когда смоешь поверхностную краску. Благодаря этому замечательному постоянству, типы различных племен, наций и рас, находящихся во взаимном соприкосновении в провинциях Индустана, отличаются большею определенностью, чем типы западных народов, беспрестанно смешивающихся между собою.
Таким образом, каждой особой области Индии принадлежат населения, еще отличные от других, дикия или цивилизованные, которые нужно описывать каждое отдельно. В следующих главах мы попытаемся принимать во внимание, насколько возможно, группировку жителей одинакового происхождения, изучая вместе с тем самую страну сообразно её естественным делениям, грубо измененным там и сям завоеваниями и административными делениями.