IV. Восточный Гималай
Верхния долины притоков Брахмапутры, Сикким и Бутан.
Восточная часть Гималая, хотя ближайшая к Калькутте и самая доступная посредством судоходных путей, доходящих до подошвы горных цепей, остается наименее известною; много долин, населенных дикими народцами, не были еще исследованы научным образом, и не знают даже, какие реки по ним протекают; только некоторые вершины гор, видимые с равнин, с расстояния от 100 до 150 километров, были измерены и служат первою опорною точкой для точных начертаний будущих карт. Без сомнения, первая причина того полного неведения, в котором мы находимся еще относительно этих восточных областей гималайской системы, состоит в чрезмерном изобилии дождей, приносимых южным муссоном. Эти тропические ливни превращают в большие реки потоки, которые в другом климате оставались бы простыми ручейками; растительность, питаемая изобильною влажностью, покрывает всю страну густыми чащами деревьев, обвитых лианами, где человек может пробираться лишь с величайшим трудом; просачивание вод в почву причиняет частые обвалы, и в малейших углублениях земли скопляются болота. Силы природы слишком могущественны в этой области, чтобы цивилизованный человек мог пытаться подчинить их своей воле. Только дикие народцы, легко прилаживающиеся ко всем условиям окружающей среды, незнакомые с потребностями, какие развиты у цивилизованных населений равнины, одни могут жить в этих странах, и в прежнее время страх, внушаемый этими дикарями, удерживал путешественников от посещения их долин.
Однако, часть гималайской покатости, спускающаяся к Брахмапутре, присоединена к непосредственным владениям Индийской империи, и англичане даже распространили пределы своей медиатизированной провинции Сикким до Загималайского хребта: верхний бассейн реки Арун, самой важной в Непале, обозначен на многих картах как принадлежащий Англии, хотя, будучи совершенно безлюдным, ненаселенным, он в действительности не составляет ничьего владения. Британские посты, военные и торговые, расположены там и сям между двумя туземными государствами, Непалом и Бутаном. На востоке, англичане, не завоевывая Бутана, по крайней мере присоединили к своей империи восемнадцать доаров, которые зависят от него естественно, т.е. восемнадцать «ворот» Гималаев,—единственные местности страны, произведения которых имеют ценность и где жители сгруппировались в значительном числе; впрочем, чтобы обеспечить спокойствие своей границы, английское правительство назначило бутанскому радже ежегодную субсидию, регулярная выдача которой зависит от благоразумия пенсионера. На восточной своей оконечности Бутан ограничен землей Тованг, торговою дорогой, которую Тибет захватил в свои руки, благодаря влиянию лам, которые играют там в одно и то же время роль жрецов, политических властителей и купцов; но и здесь англичане овладели «горными воротами» (доар), соседними с равниной, и две империи, Индия и Китай, сделались сопредельными. Далее на восток начинается неизследованная область диких племен, которым ассамские плантаторы, поднимающиеся все выше и выше в долинах, вынуждены платить, чрез свое правительство, известную субсидию, во избежание их разбойничьих набегов. Общее число жителей, населяющих Гималайскую покатость, заключенную между Кинчинджингой и восточными горами, можно определить лишь приблизительно; вероятно, оно простирается до 600.000 душ.
| Пространство, кв. километр. | Население (1891 г.) жит | На 1 кв. километр | |
| Округ Дарджилинг | 3.015 | 223.314 | 74 |
| Сикким | 4.014 | 30.500 | 7 |
| Бутан | 34.000 | 200.000 | 6 |
| Земля Тованг | 3.850 | 15.000 (?) | 4 |
| Земли вост. племен | 45.000 | 100.000 (?) | 2 |
| Всего | 89.879 | 588.314 ж. (?) | 6,5 |
Река Тиста, или Трисрота, т.е. «Три истока», верхний бассейн которой известен под именем Сиккима, могла бы быть рассматриваема до известной степени как главная ветвь всей гангесской системы, так как она спускается прямо на юг к Бенгальскому заливу, следуя по линии наиболее быстрого истечения. Напротив, Ганг и Брахмапутра, идущие на встречу друг другу, текут параллельно основанию Гималаев, и только вступая в равнину, уже выровненную водами блуждающей Тисты, эти две большие реки Индии принимают южное направление. В период современной истории Тиста соединялась то с одним, то с другим из этих двух больших потоков; мало известно примеров рек, которые бы так часто меняли русло. И теперь еще один рукав Тисты соединяется с Мага-надди, притоком Ганга, сохранившим до сих пор имя «Великой реки», которое он получил за обилие своих вод. Точно также, по преданию, сообщаемому Фергюсоном, река Коси, которая в настоящее время составляет один из притоков Ганга, некогда текла на юго-восток и впадала в Брахмапутру. В этой обширной аллювиальной равнине реки, так сказать, совершают качания на подобие маятника, пересекая своими новыми излучинами следы прежних извилин.
Бассейн верхней Тисты совершенно ограничен амфитеатром высоких гор. На востоке высится исполинская масса Кинчинджинги, состоящая из пластов гнейса, легко узнаваемых издали по их покрытым снегом карнизам. Опираясь на свои снеговые контрфорсы, она продолжается на юг Куброй и другими вершинами, отделенными глубоким разрезом от цепи Сингалила. или «Буковой горы», составляющей естественную границу между Сиккимом и Непалом. Жители этих двух стран могут сообщаться между собою не иначе, как через горные проходы, имеющие, по меньшей мере, 2.600 метров высоты. На северо-восток от Кинчинджинги (Ламбутсинга, по Жюлю Реми) продолжается собственно Гималайский хребет, на котором следуют один за другим колоссы Чомиомо, Кинчинджау, Донкиах, заключающие между своими вершинами наполненные снегом котловины и небольшие озерные бассейны, где берут свое начало самые возвышенные истоки Тисты. Менее высокий, чем Кинчинджинга, Донкиах, однако, шире и важнее, как горный узел в совокупности системы; он соединяется посредством поперечного отрога с Загималайским хребтом, тогда как на востоке очень высокие горы соединяют его с Чималари, остроконечная пирамида которого еще превосходит его высотой; наконец, на юг от Донкиаха тянется хребет более высокий, чем цепь Сингалила, и поднимающийся на цоколе, усеянном небольшими озерами; хребет этот, над которым господствуют крутые горы, Гнариам, Чола, Гипмочи, отделяет Сикким от длинной полосы территории, которою Тибет владеет в этом месте на полуденной покатости. Предгорья, постепенно понижающиеся к равнине, но которых последние вершины возвышаются еще на 1.800 и 2.000 метров, ограничивают с южной стороны длинный прямоугольник, образуемый верхним бассейном Тисты, и эта река не может найти себе иного выхода, как через узкую поперечную долину, называемую Сивок-гола. Внутри обширной ограды гор, обнимающей Сикким и английский округ Дарджилинг, второстепенные кряжи, отделяющиеся от главных хребтов и разветвляющиеся, в свою очередь, на отроги, перерезанные во всех направлениях промоинами, образуют запутанный лабиринт, где лишь с трудом можно распознать первоначальное расположение выступов рельефа, ориентированных с востока на запад, параллельно гималайской оси.
Чрезвычайная сырость климата, частые дожди и туманы не позволяют путешественникам пускаться далеко от Дарджилинга на высокие склоны Кинчинджинги и Кинчинджау. Очень редко выдаются такие дни, когда можно видеть ясно обрисовывающуюся на чистом небе профиль всех больших вершин. Во время летнего муссона дожди почти не прерываются, и даже зимой, когда северо-восточные пассатные ветры господствуют в воздушном пространстве и спускаются вдоль гребней, нижнее влажное течение, идущее из Бенгальского залива, направляется обратно к долинам Сиккима. После проливных дождей, туман поднимается над лесами, словно дым, и ползет по склонам гор; часто слои паров, застилающие все небо, имеют несколько верст в толщину, и пейзажи, которые кажутся освещенными скорее лунным светом, чем лучами солнца, принимают фантастический вид: вы видите не горы, а призраки гор, тем более высокие, что пары воздуха отдаляют их еще больше. В этой влажной атмосфере, при температуре почти всегда одинаковой, ветры дуют редко и не сильно, даже на высоких верхушках гор; только когда облачные завесы разрываются и горы показываются на ясном небе, местные фокусы теплоты притягивают окружающий воздух, и тогда снизу виден снег, поднимающийся в виде пучков на вершинах гор.
Край с таким сырым климатом, каков Сикким, понятно, принадлежит к числу стран, наименее привлекающих население. Даже ходить там трудно, по причине глинистого свойства почвы, которая от дождя превращается в вязкую грязь, и в период дождей, исключая самых сильных ливней, путешественники, проходящие через леса, на высоте от 1.200 до 2.500 метров, не могут избегнуть укушений бесчисленных пиявок, похожих на маленькия волокна, которые падают со всех листьев. Узкия долины Тисты и её притоков, в которые низвергаются воды проливных дождей, составляют настоящие воронки, где невозможно устраивать какия-либо человеческие жилища, в виду постоянно угрожающей опасности внезапных наводнений; самые удобные местоположения для постройки деревень—это высокие выступы гор, откуда вода быстро утекает во всех направлениях. Необычайное богатство и обилие растительности, которая развивается с неимоверной быстротой во влажной атмосфере, при постоянных дождях и туманах тоже составляет большое препятствие работам человека и даже заглушает часто его культурные растения, которые, к тому же, по большей части нуждаются в продолжительных промежутках хорошей погоды. Тропическая флора, развивающаяся под влиянием южных ветров, поднимается на горах Сиккима выше, чем в какой-либо другой части земного шара, лежащей под той же широтой: там увидишь еще пальмы и бананы на высоте 2.100 метров (около двух верст), на скатах, обращенных на полдень. В лесах Дарджилинга растения жаркого пояса перемешиваются с растениями умеренного; ореховое дерево растет рядом с пальмами; рододендроны составляют яркий контраст с древовидными папоротниками; чужеядные орхидеи прицепляются к ветвям дуба. Особенно папоротники представлены многочисленными видами в этом тропическом поясе гор; Гукер насчитал их около тридцати видов на одной только горе Сенчаль, на юго-восток от Дарджилинга. Эти растения овладевают всеми прогалинами леса или оспаривают их у пучков страшной «исполинской крапивы»; едва только дерево повалится, как на его стволе тотчас же поднимаются грациозные стрелки папоротника. Над полосой, где смешиваются два пояса, простирается большой лес лиственных деревьев, между которыми преобладают дуб, магнолия, каштан, ореховое дерево; но в этой области леса едва-ли могут давать какие-либо съедобные плоды, за исключением ореха; яблоко едва вызревает; груша и персик только завязываются. Слишком обильные дожди обивают здесь все плоды. Фосфоресценция лесов—очень обыкновенное явление в этой влажной области: в дождливое время года леса постоянно озарены бледным сиянием.
Сосны занимают почти исключительно склоны, лежащие выше пояса, который соответствует умеренным странам Европы; но не эти деревья поднимаются всего выше: ивы видны еще на высоте европейского Мон-Блана. Рододендрон, одно из древовидных растений, которое всего чаще встречаешь в Сиккиме и которое нигде не является в более красивых разновидностях, окаймляет своими чащами почти все горные потоки, но он не приближается настолько, как ива, к границе вечных снегов. Даже на высоких горных проходах, через которые производится сообщение между Сиккимом и Тибетом, путешественник находит густые газоны из явнобрачных растений, заменяющих мхи и лишаи европейских гор; Гукер собрал таких растений 200 слишком видов на перевале Кангра-лама (4.791 метр), к западу от Кинчинджау; на высоте 5.500 метров, на Бомсто, он нашел их еще восемнадцать видов, и—странная вещь—эти растения, нечувствительные к холоду, не защищены шерстистым пушком, как растения европейских Альп. За водораздельными гребнями начинаются солончаковые пустыни нагорья; тогда как на полуденной покатости леса простираются непосредственно под снежной линией, на севере видны только голые скалы, синия или красноватые, зловещего вида. Во всем свете нет области более пустынной и неприветливой; однако, жвачные животные водятся здесь массами, привлекаемые солончаковыми степями.
Население Сиккима почти совершенно тибетское. Племя лепча, самое многочисленное в крае, но мало-по-малу исчезающее, как чистая раса, ничем не отличается от своих соплеменников бодов, обитающих на высоких плоскогорьях, кроме того только, что у жителей Сиккима, под влиянием дождливого климата, кожа необыкновенно гладкая и лоснящаяся; их мускулы, хотя очень сильные, почти не выдаются из-под верхней кожицы. В сравнении с индусами, всегда сдержанными, недоверчивыми и вежливыми, веселые лепчи, доверчивые, откровенные, непринужденные в разговоре, кажутся англичанам самыми приятными товарищами в дороге; флейта—их любимый инструмент, и игра их отличается большою мягкостью и прелестью; в их наречиях, резко отличающихся в этом отношении от всех языков Индии, нет ни одного ругательного выражения. Диалекты различных племен Сиккима разнятся между собою, но все они принадлежат к тибетскому корню; точно также нравы и религии здесь те же самые, как у тибетцев, жителей долины Цангбо. Священная формула «он мани падми гум» раздается во всех селениях Сиккима, как и на другом склоне Гималаев, и везде вырезана на камнях, по краям тропинок. Около двадцати ламайских монастырей рассеяны в лучших местностях страны, и молодые люди, бегущие от притеснения раджей, поступают в монахи, чтобы пользоваться спокойною жизнью, не имея надобности платить подати и налоги и отправлять натуральные повинности; около 800 человек живут в этих обителях. Один из знаменитейших монастырей Сиккима—Пемионгчи, расположенный на высоте 2.100 метров, на вершине террасы, откуда зритель видит у себя над головой колоссальную массу Кинчинджинги, а под ногами долину реки Большой Ранджит, притока Тисты; прежде тут находился главный город Сиккима. Нынешняя резиденция раджи, Тамлунг, лежит в восточной части страны, на высоте 1.636 метров, на горном склоне, у основания которого протекает один из притоков Тисты. В период дождей эта столица частью пустеет, так как раджа на это время уезжает, с главными сановниками, на китайскую территорию, в тибетскую долину Чумби, защищенную от проливных дождей цепью гор.
Дарджилинг, главный город округа, который англичане отделили себе из бывшего государства Сикким, с обязательством уплачивать ежегодную ренту в размере 7.500 франков, получил исключительную важность как временная столица Калькуттской провинции. Основанный в 1835 году, вскоре после уступки этой территории ост-индской компании, город, которого тибетское имя означает «Святое Место», расположен на узком хребте горы в виде полумесяца, на высоте от 2.000 до 2.250 метров откуда видно, на 1.800 метров, ниже, под лесистыми скатами, ущелье, через которое убегают воды Большого Ранджита. Дарджилинг, как и все другие «санитарные» города в Гималаях, окружен с боков казармами и батареями, но общий его вид производит впечатление многочисленной группы дворцов, вилл и дач. В сравнении с Симлой и другими английскими городами Западного Гималая, он представляет большие невыгоды, по причине его слишком сырого климата; но в утренние часы, пока еще тучи не заволокли неба, чтобы пролить на землю обычный каждодневный дождь, отсюда можно часто любоваться чудною панорамою Гималайских гор, от неясно обрисовывающейся на дальнем горизонте остроконечной верхушки Гауризанкара до колоссальных массивов Донкиаха и Чамалари; в центре, Кинчинджинга, гордо вздымающая к небу свои две по виду равные главы, кажется средоточием, куда сходятся все хребты; верхушка этого исполина всегда, при ясной погоде, точно кратер вулкана, увенчана полосой облаков, которая изгибается к востоку от дуновения верхнего обратного пассата. На юге виднеется лесистая вершина Сенчаля, обрисовывающая свой профиль на фоне подернутых дымкой равнин Ганга.
Центр английского владычества в Гималаях, занимающий, к тому же, замечательно выгодное географическое положение, при вершине угла, образуемого водоразделом между притоками Ганга и притоками Брахмапутры, Дарджилинг, естественно, должен был сделаться очень деятельным рынком, как посредник между индусами и тибетцами. Сикким отправляет по своим горным потокам много строевого леса в Дарджилингский округ; Тибет посылает в самый город шерсть и рога, а Непал доставляет преимущественно домашних животных, в обмен на товары английского происхождения. В 1877 году отпуск из Дарджилинга в Сикким простирался до 354.100 франк., а привоз из Сиккима в Дарджилинг до 2.006.625 . франк., следовательно, общая сумма торгового движения равнялась 2.360.725 франк. Но тибетские границы так хорошо охраняются, что Сикким не может продать в Лассу ни малейшей части ежегодного сбора чая, который производится с 1856 года на плантациях в окрестностях Дарджилинга (в 1875 году во всем Дарджилингском округе насчитывали 121 чайную плантацию; ежегодный сбор чая определяется в 2.000.000 килограм. листьев). В этом округе разведено также хинное дерево; в 1875 году в первый раз снимали с деревьев кору и приготовляли из неё хинин. Плантаторы делали также попытки разведения в соседних лесах ипекакуаны, кардамона, а опытный сад доставляет им другие тропические растения Нового Света; кроме того, каменноугольные копи и залежи железной и медной руды составляют для английского города рессурсы в запасе, и без всякого сомнения, современем успехи местной промышленности позволят ему эксплоатировать эти рессурсы. И теперь уже Дарджилинг имеет перед всеми другими гималайскими станциями то важное преимущество, что он находится в прямом сообщении с сетью индийских железных дорог. Обыкновенный железный путь приводит путешественников в Пункабарри, у подошвы гор, а оттуда рельсовая линия, с сильными рампами в 4 и даже 5 сантиметров на метр подъема, и с крутыми поворотами в 21 до 22 метров, поднимается с гребня на гребень до высоты 2.225 метров, на вершину, где раскинулся новый город. Далее, многочисленные грунтовые дороги, проходящие через чайные и хинные плантации, извиваются по бокам гор и оканчиваются в селениях Сиккима. В Дарджилинге похоронен венгерский путешественник Чома Кереш, который так много сделал для изучения тибетского языка.
Дарджилинг имеет, как и Симла, свою «большую дорогу в Тибет». Эта дорога спускается на восток, в долину Тисты, переходит через эту реку по прекрасному висячему мосту и поднимается по гребням в северо-восточном направлении к Джайлапскому горному проходу, на севере от Гипмочи. Эта брешь, представляющая сравнительно легкий подъем, так как она имеет всего только 3.960 метров высоты, дает доступ в тибетскую долину Чумби; но последняя, как и Сикким, принадлежит к индийскому склону Гималаев, и вероятно, китайцы еще не скоро решатся продолжить английскую дорогу на свою территорию через гребни Гималайской и Загималайской цепей. Впрочем, там именно и открывается один из удобнейших путей между противоположными склонами, тот путь, которым следовали, в прошлом столетии и в начале нынешнего, английские посланники при тибетском дворе, Богль, Торнер и Маннинг.
Лишенный теперь своих восемнадцати доаров, или ворот, открывающихся на равнины Бенгалии и Ассама, Бутан, или, вернее. Бут-ант, т.е. «оконечность земли Бут или Бот», заключает в себе только узкия горные долины, отделенные одна от другой высокими кряжами, через которые ведут труднопроходимые тропинки. Самая западная долина, именно долина реки Турсы, ограниченная на севере тибетскою территориею Чумби, почти совершенно отделена от остального Бутана и принадлежит ему политически только благодаря любезности англичан. Первая долина вполне бутанская—это долина реки Чин-чу, которая берет начало на боках Чамалари; в этой долине находится и главный город страны. Санкос, горный поток, параллельный реке Чин-чу, тоже питается снегами Гималаев, и одна из гор, которые господствуют над этою частью хребта, еще неизследованная, разве только измерительными инструментами инженеров-топографов, по высоте превосходит даже колоссальную пирамиду Чамалари. Но на востоке исполинская стена Гималаев пробита, как и во многих других местах, размытою водами долиною, по которой протекает река Манас, получающая начало в широком понижении горной массы, которое разделяет две главные цепи гималайской системы.
Бутанцы (бутиа) принадлежат к той же расе, как и тибетцы, и самое имя их происходит от того же корня, как название народа бод (тибетцев), жителей нагорья, и племени ботиа, обитателей полуденного склона, в Непале и Кумаоне; им дают также общее наименование ло. Они вообще малорослы, но крепкого телосложения и могли бы считаться одною из лучших рас Индии, если бы пропорция зобатых не была так велика между ними. Едва-ли найдется также народ более угнетенный, чем эти бутиа; они не имеют никакой собственности, и участь их зависит от прихоти господ или монахов, которые ими управляют. Английские посланники, посетившие их край, описывают положение бутанцев в высшей степени жалким и бедственным; земля, которую они обработывают, не принадлежит им, и государство наследует всякое приобретенное ими имущество; они сохраняют из полученного ими сбора плодов земных только долю, строго необходимую для того, чтобы приобрести несколько листьев бетеля и не умереть с голоду; остальное забирается губернаторами, которые не получают никакого содержания, но которым присвоено право удерживать в свою пользу часть собранного налога. Чтобы пользоваться мирно и безбоязненно плодом своих трудов, тысячи бутанцев эмигрируют каждый год в провинции Индийской империи и преимущественно в британский Сикким, где их считают вообще далеко уступающими лепчам в отношении веселости характера, откровенности и трудолюбия.
Неудивительно, что при таком порядке страна обеднела. Торговля, составляющая монополию правительства, осталась маловажною или даже уменьшилась, хотя Бутан обладает большими естественными богатствами и имеет отличную породу лошадей, хорошеньких и необыкновенно выносливых пони. Торговля этой страны с английской Индией в 1895—96 г.г. выразилась, по ценности, следующими цифрами: ввоз—17.560, вывоз 17.406 десятков рупий. Бутанцы, когда они не имеют причины бояться, что у них отнимут плод их работы, трудолюбивы; они старательно возделывают террасы, расположенные уступами одна над другой по бокам холмов, ткут прочные материи, фабрикуют очень красивые железные и медные изделия, превращают кору растения diah или daphne papyrifera в писчую бумагу и даже в род атласа, делают резные украшения из дерева, нелишенные вкуса, строят просторные и удобные шалаши, довольно похожие на шале швейцарских Альп. Во многих городах есть богатые пагоды китайской архитектуры. Цепной мост, который английский посланник Торнер видел в Чуке, на реке Чин-Чу, показался ему чудом строительного искусства, и прошло много лет прежде чем Европа могла похвастать подобным сооружением; бутанцы и сами приписывают этот памятник руке бога.
Правительство страны организовано по образцу тибетского, с тою разницею, что китайские министры, истинные носители власти в Бод-юле, не появлялись в Бутане. Духовный государь, нечто в роде великого ламы, носит название чойгиал, по-санскритски дарма-раджа, т.е. «царь закона». Когда этот будда умирает, совет министров (ленехен) ищет, в продолжение года или двух, ребенка, в которого бог изволил воплотиться, и находит его обыкновенно в семействе одного из высших сановников государства. Рядом с духовным государем царствует другой раджа, по имени деб, который тоже назначается советом министров, или, лучше сказать, партией, располагающей в то время властью; в принципе, правление деба не должно бы продолжаться более трех лет, но он всегда может удержаться на троне, если пользуется расположением вельмож. Главными губернаторами, или пенло, считаются губернаторы Западного Бутана и Восточного Бутана, из которых первый имеет местопребывание в городе Паро, а последний—в городе Тонгсо.
Столица Бутана, Тасисудон (Тасичосонг), лежит в цирке гор, на берегу реки Чин-Чу. Зимняя резиденция светского раджи, Панаха или Пунаха, находится на востоке, в другой долине, уже очень низкой (530 метров), хотя и в сердце гор. Дворец раджи окружен манговыми и апельсинными деревьями; можно бы подумать, что находишься где-нибудь среди равнин Бенгалии, если бы на севере не поднимались исполинской стеной крутые склоны снеговых гор. Паро, главный город Западного Бутана, расположен в другой долине, на запад от Тасисудона. Что касается главного места восточной провинции, Тонгсо, то это не более, как деревушка, которая сообщается с территориями Ассама через горный проход Руду (3.668 метров), часто заваленный снегом.
Власть «царя закона» не распространяется на восток за бассейн Манаса, и даже некоторые восточные притоки этой реки не принадлежат к его юрисдикции. Между государством, оффициально признающим его власть, и независимыми племенами Восточного Гималая расположены владения лам-раджей, или «жрецов-царьков», которые называют себя вассалами далай-ламы, но которые в действительности совершенно независимые владетельные князья, благодаря их отдаленности от Лассы и трудности сообщений через гималайские гребни; они даже ведут иногда войны между собою и, смотря по исходу борьбы на поле битвы, изменяют границы своих владений, не считая нужным уведомлять об этой перемене своего сюзерена. Несмотря на эти распри маленьких владетельных князьков, земля Ханпо-Бот, т.е. «монастырских» ботов, имеет довольно важное значение как торговый пункт между Тибетом и Ассамом. Так как весь восточный пояс Гималаев, населенный дикими племенами, недоступен для караванов, то последние принуждены следовать по окраине этой территории, через город Тованг. На север от этого торгового места, лежащего на высоте 3.133 метров, почти вся страна зависит от тибетского монастыря Чона-джонг, тогда как на юге долины принадлежат товангским ламам, до самой английской границы; прежде даже часть округов, присоединенных теперь к Индийской империи, была под властью монахов. По приказанию Кето, или правительствующего совета монастыря, тибетские караваны должны останавливаться в Чона-джонге, откуда жители этого края переносят товары в Ассам, платя пошлины монастырю. Эта тибетская дорога, идущая мимо больших озер, пролегает через горные проходы, достигающие от 4.000 до 5.000 метров (от 13.125 до 16.405 футов) высоты.
Военный пост Девангири, завоеванный англичанами, лежит на высоте 450 метров, на последнем контрфорсе горы Тасгонг (4.200 метров) и наблюдает в одно и то же время за населением Восточного Бутана и за «монастырскими» ботами; вместе с тем, он имеет и торговое значение, так как в нем ежегодно бывает ярмарка, одна из самых больших в Ассаме. На другой оконечности Бутана старинная крепость Букса, построенная на платформе или площади скал, выровненной руками человека, играет такую же наблюдательную роль по отношению к западным бутанцам. Часто поднимался вопрос о том, чтобы направить движение европейской колонизации в прилегающие к этим укрепленным пунктам Гималаев местности, на склоны доаров, посредством дарового отвода переселенцам земель и освобождения их от податей и земельных налогов; но до настоящей минуты эти предприятия так и остаются в состоянии проектов. В области терая, окаймляющей эти доары, или «ворота», обширные территории принадлежали некогда различным владельцам, смотря по времени года: с июля по ноябрь они были занимаемы ассамитами и племенем меч; в остальное же время года они становились собственностью бутанцев.
На восток от маленьких государств с часто меняющимися границами, управляемых настоятелями буддийских монастырей, территория разделена, как известно, между различными племенами, которые до сих пор еще не пускают к себе ни китайца, ни индуса, ни англичанина, но которые, из опасения потерять субсидию, платимую им британским правительством, не делают более разбойничьих набегов на прибрежные местности Брахмапутры. Ахинцы (аха), занимающие, в числе около миллиона душ, западную часть этой территории, сами себя называют хруссо; они теперь уже не заслуживают тех прозвищ, которые прежде давали их племенам: харази-хоа, или «едоки тысячи очагов», и каппачор, или «похитители хлопка». Один из их кланов даже принял уступленные ассамским правительством земли, лежащие в равнине, и теперь индусские обрядности мало-по-малу вытесняют у этих поселенцев обычаи фетишизма. Еще недавно ахинцы не умели даже обработывать землю и не знали никакого промысла, кроме скотоводства; однако, они, как и большая часть дикарей Индии, не любят молока и никогда не пьют его. По Гессельмейеру, язык их походит на язык племени шан и жителей Манипура; эту последнюю страну он и считает их первоначальной родиной. На север от ахинцев долины заняты народом миджи, о котором почти ничего неизвестно. На востоке живут различные племена, которым жители равнины дают общее наименование дапла или дафла, но которые сами себя называют бангни, т.е. «люди». Прежде это были самые страшные из грабителей, но затем они распались на множество народцев, которые не съумели дать дружного отпора плантаторам, поддерживаемым английскими солдатами. В 1872 году число начальников племен, независимых один от другого, которым правительство платило выкуп в вознаграждение за отказ от права делать разбойничьи набеги, простиралось до 258; правда, что каждый из них получал не более одного фунта стерлингов в год. Так же, как и ахинцы, даплы доставляют теперь ассамским плантаторам значительное и постоянно возрастающее число работников и мало-по-малу проникаются идеями своих соседей индусского происхождения. Подобно своим соседям, жителям Тибета, они допускают у себя все формы брачного союза, как многомужие, обычное между бедными, так и многоженство, практикуемое обыкновенно богатыми.
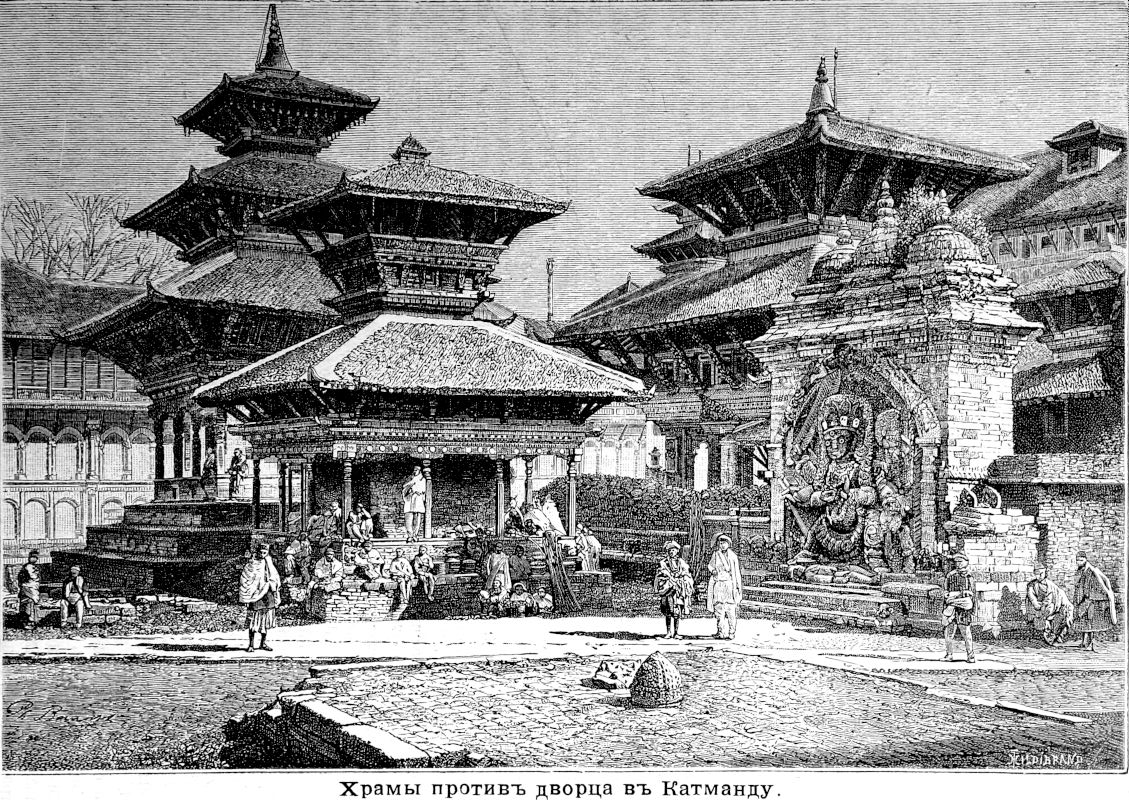
Падамцы или пагдамы, называемые ассамитами общим именем абор или абар, т.е. «дикари», населяют, вместе с мирами, долины, в которых протекают реки Дихонг и Дибонг, в Восточных Гималаях. Принадлежа к той же этнографической группе тибетского происхождения, как даплийцы и ахинцы, и говоря наречиями, сходными с диалектами этих племен, они лучше сохранили свою независимость, но и они также получают от своих могущественных соседей ежегодные подарки, залог их покорности. В 1853 году, когда миссионер Крик проник в их страну, они впустили его не прежде, как покрыв его листьями,—вероятно, для того чтобы преобразить его в лесного человека,—и заставив его пройти под аркадой, унизанной луками и стрелами. В их соседстве живут миры или мирийцы, т.е. «посредники»—имя, вполне соответствующее их промыслу, так как они и в самом деле занимаются посредничеством в меновой торговле между жителями равнины и горцами. Падамцы называют себя старшими братьями мирийцев и вообще считают себя специально привилегированными между племенами. И действительно, они счастливее, благодаря своей независимости. Они не признают над собою никаких политических господ. Все мужчины по праву члены общинного собрания, которое сходится каждый вечер и обсуждает все вопросы, интересующие большую семью; совет выборных должен только обнародовать решения, принятые совокупностью граждан. Но добровольная дисциплина образцовая. После совета, молодые парни обходят деревню, выкрикивая дневной порядок на завтра, и все подчиняются этому решению, что бы ни было определено—идти ли на охоту или рыбную ловлю, работать на полях или справлять какой-нибудь праздник. В важных обстоятельствах избирают делегатов, которые собираются в деревне Бор-Абор, по имени которой иногда называют и все племя; но результат их совещания получает силу только по утверждении его общинами. Селения отличаются замечательною чистотою и опрятностью; общественный дом, где ночуют холостые парни и который служит рукодельней в ненастные дни, содержится в величайшем порядке, дороги обсажены по бокам фруктовыми деревьями; мосты из индийского тростника сделаны очень красиво и прочно; превосходно возделанные сады и поля могли бы служить образцами ассамским плантаторам. У аборов есть жрецы, но это звание не наследственно; их выбирают среди стариков, предсказания которых всего чаще оправдывались событием и которые успешно исцеляли больных, «принуждали демонов возвращать недужным душу, уже взятую ими». Падамцы татуируются, при чем крест служит главным украшением, которым они отмечают себе лоб и нос. Женщины имеют тот же знак на губах и икрах: они украшают себя также ожерельями, браслетами и тяжелыми железными серьгами, которые, вытянув мочку уха, ложатся на плечах. Украшения эти привозятся из Тибета, также, как латы мужчин и их металлические шлемы, украшенные птичьим клювом или на-крест расположенными клыками кабана.
Наименее исследованная область гор, где берут начало воды Дибонга и Брамакунда, населена народом мишми, который Дальтон считает единоплеменниками китайских миаоце и одно племя которых удивительно походит чертами лица, формой тела, развитием икр на японцев-простолюдинов во всей средней части главного острова. Те мишми, с которыми ассамские англичане имеют сношения, очень ловкие коммерсанты: они приносят на рынки равнины мускус, аконит (волчий корень, или царь-зелье), разные лекарственные снадобья и даже прочные материи, которые они ткут из волокон крапивы. У большинства мишми цвет кожи желтоватый и лицо плоское; однако, многие из них имеют черты лица почти арийские, что сами они объясняют как следствие смешения с индусскими пилигримами, приходящими каждый год в Брамакунд; одеты они в какой-то мешок, ниспадающий до колен. Религия мишмиев есть не что иное, как искусство колдованья и заклинаний; их жрецы, как шаманы тунгусов, умеют изгонять чертей и исцелять недуги своими кривляньями, исступленными плясками, битьем в бубны. Мишми придерживаются многоженства, и гордость начальников племени состоит в том, чтобы приобрести себе как можно больше жен, цена которым сильно разнится—от одной свиньи до двадцати быков. После жен, главное богатство мишми составляет скот; особенно ценят они один вид быка, называемый митун (bos frontalis), который живет почти в диком состоянии, но который всегда тотчас же прибегает на голос хозяина, когда тот предложит ему полизать соли. Огромные дома, из которых каждый вмещает в себе сотню и больше обитателей, украшены внутри рогами митуна и трофеями животных, убитых на охоте. Слово «голова» употребляется у мишми для всех вещей, составляющих предмет мены. Причину этого не следует ли искать в охоте на людей, которою они некогда занимались?
Но из многочисленных народцев племени мишми пока известны только те, которые живут в соседстве равнин. Остальных же, обитающих внутри горной области, знают лишь по имени, и если верить рассказам купцов, пройдет еще много лет, прежде чем дороги проникнут в территорию этих дикарей. К одному из этих горских народцев, живущему по берегам реки Дихонг, можно, говорят, пробраться не иначе, как дорогой, проложенной по карнизу скал, которая в одном месте прерывается гладкою отвесною стеною с пробитыми в ней дырами для рук и ног путешественников. Выяснить географию этих стран будет тем труднее, что селения там не имеют собственных названий, а обозначаются по именам начальников кланов.