II.
Не имея определенных естественных границ со стороны востока, где Афганистан и Белуджистан продолжают плато, равнины и горы Ирана, Персия тремя остальными своими фасами образует совершенно отдельное географическое целое. Складки местности над поверхностью туркменских оазисов и вдоль южных берегов Каспийского моря, другие возвышенности по берегам Оманского и Персидского заливов, наконец уступы гор, господствующие над равнинами Месопотамии,—составляют внешний оплот Персии. Внутри этой гористой ограды тянутся равнины, направляющиеся к центру и непредставляющие на большей части своей поверхности ничего, кроме песков, твердой глины и солончаков. Население Ирана устремилось главным образом к окружности страны, на север, на запад и на юго-запад, в долины, которые доставляют воду, необходимую для их пашен. Нигде не представляя из себя плотной массы, население тянется в виде двух полос, направляющихся одна с востока на запад, другая с юго-востока на северо-запад, которые встречаются между Каспийским морем и высокой долиной Тигра, в области Адербейджана. Там-то, в точке соединения населения и культуры обеих полос, высится Тавриз, наиболее населенный город Персии; здесь устанавливается единство страны. Если не обращать внимания на неправильности деталей, населенные местности расположены в виде угла, соответствующего углу, какой представляют в их целом горные цепи, идущие по окраинам плато.
На северо-востоке, крайний хребет гор, составляющий естественную границу Ирана и Туркестана, в действительности, несмотря на отдаленность и промежуточную бездну Каспийского моря, есть правильное продолжение Кавказских гор. Апшеронский полуостров, подводные пороги, мели и островки, которые соединяются с Красноводским мысом, разделяя две глубокия пропасти Каспийского моря, наконец, два массива Больших и Малых Балкан—указывают самым точным образом на существование соединительной ветви между большим Кавказом и «Кавказом Туркменским», который под различными названиями Куран-дага, Копет-дага, Гулистанских гор, Кара-дага продолжается до разрыва, в который проходит Гери-руд. Далее, горы, которые тянутся сначала в восточном направлении, а потом в северо-восточном, принадлежат к системе Парапомиза. Вся эта страна Туркменского Кавказа начинает делаться известной в своих топографических подробностях, благодаря исследованиям русских топографов, которым поручено размежевание границы. Карта в 1/84.000, оконченная несколько лет тому назад для страны нижнего Атрека, продолжает составляться для всего Даман-и-Коха или туркменского «Пиемонта», вплоть до оазисов Серакса и Мерва.
В силу пограничного трактата, заключенного в 1882 г., богатые долины, данницы Атрека, с принадлежащими к ним обширными пастбищами и превосходными дубовыми и кедровыми лесами, были отданы Персии. Но взамен этого русские наследуют от Ирана, в силу их притязаний на сюзеренство в Мерве, «ключ к Индии». Они взяли также у Персии некоторые долины Копет-дага, к западу от Асхабада и к югу от срытой крепости Геок-тепе, прославленной храброю защитою. В этом месте, которое напоминает о победоносных подвигах, русские присвоили себе весь склон горы, вплоть до раздельного хребта, и распоряжаются по своему усмотрению водами, орошающими поля и сады их подданных туркмен.
Что придает исключительную важность этому хребту, служащему границей Ирана, это то, что он обладает источниками и ручьями, которых воды испаряются вблизи гор, в песках равнины. Персы, обитающие в гористой местности,—природные собственники источников, которыми они пользуются для орошения своих полей. Но в этом климате, где небо так скупо на дожди и где летом бывает такой палящий жар, редко вода бывает настолько обильна, чтоб удовлетворить всех прибрежных жителей; жители верховья и низовья рек невольно становятся врагами одни других. Когда горцы-земледельцы, опираясь на армии, располагали необходимой силой, они всегда утилизировали до последней капли воду своих потоков: они следили за её течением, устраивая на известном расстоянии плотины, рыли каналы на скатах гор, расширяли направо и налево район пашен. Во времена персидского могущества, вся страна Атока или «Задержания вод»,—то-есть Даман-и-Кох,—была наводнена иранцами: туркмены были отброшены в пустыню, целый ряд городов и крепостей защищал от их вторжения возделанные земли, в которых исчезали последние струи влаги. Но зато, когда грозные туркменские наездники прорвались сквозь ограду укреплений, с какою мстительною злобой они сжигали города, уводили в плен или убивали людей, которые лишали их питавшей воды, свежих долин, зеленеющих полей и лугов! До прихода русских, война между персами и пограничными туркменами продолжалась без перерыва. Последние, сделавшись более сильными, проникали чрез все горные ущелья, чтоб опустошать долины, лежащие по ту сторону гор. Традиционная вражда, разжигаемая различием расы, религии и нравов, поддерживалась причиной, постоянно усиливающей взаимную ненависть—неравным распределением воды: из двух народов один мог кормиться произведениями почвы, другому оставалось существовать грабежом. Ныне всемогущая воля России начертала границу, давши в одном месте туркменам источники рек, а в другом оставивши часть их персам, запретив им увеличивать пространство прибрежных полей, а также увеличивать число или деление их каналов, под угрозой «строгого наказания». Но могут ли они препятствовать засухам, и если туркмены, покровительствуемые Россией, не будут по какой-либо причине иметь воды, на которую рассчитывали, то не обвинят ли они в этом своих исконных врагов? Война, переменив форму, примет, может быть, дипломатический характер между двумя державами; но самая граница, препятствуя способу общей обработки земли к выгоде всех заинтересованных в этом сторон, не становится ли тем самым преградой к примирению пограничных народов?
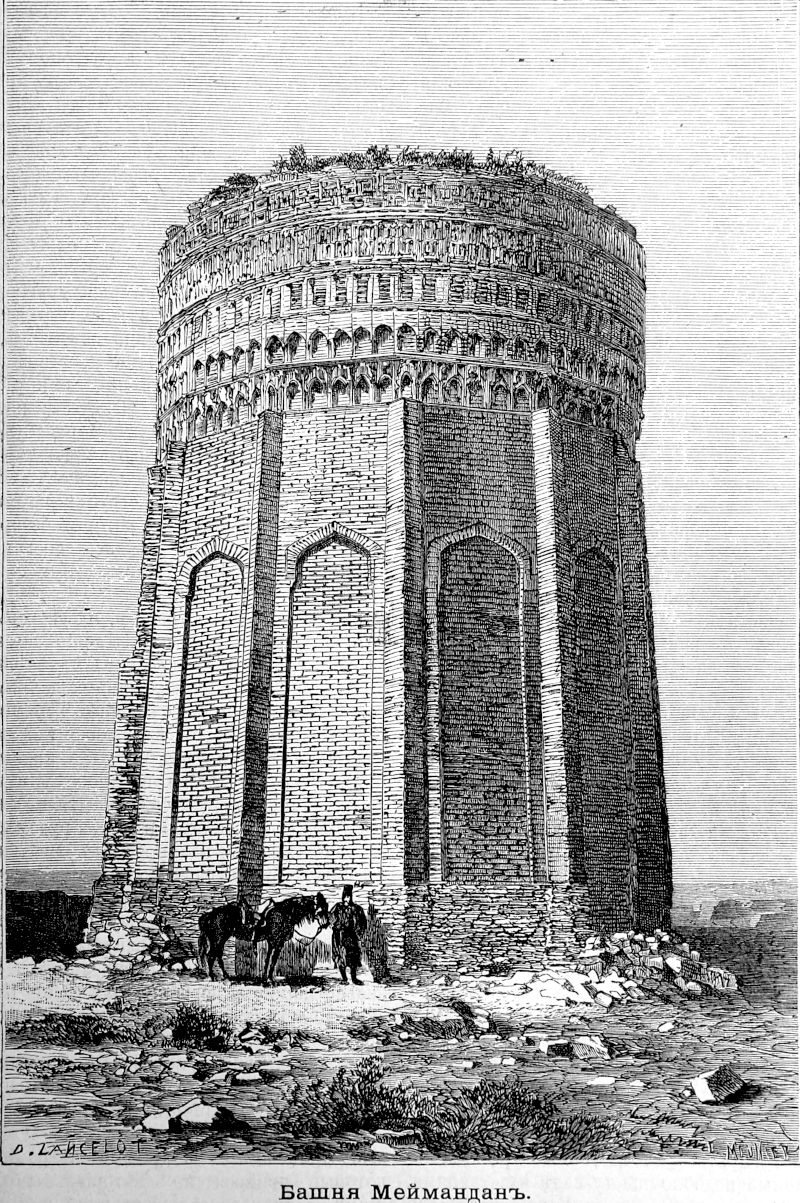
Пограничный хребет, в своей восточной части, довольно однообразен по высоте; горы его, которых верхние скаты покрыты можжевельником, возвышаются от 2.400 до 3.150 метров. Несколько выдвинутых вперед отрогов и передния горы отделяют его высокую вершину от равнины; снизу, во многих местах, ничего не видно, кроме вершин этих второстепенных массивов. Один из них и есть знаменитая гора в Азии, Келат-и-Надир, названная «фортом Надира», потому что знаменитый завоеватель сделал из неё одну из своих цитаделей. Это—известковый утес продолговатой формы, имеющий 35 километров в длину, от востока к западу, при средней широте в 10 километров. Его откосом идущие стены возвышаются от 300 до 400 метров над равниной, представляя в некоторых местах вертикальные выпрямления от 100 и даже до 200 метров в вышину. Поток, берущий свое начало в южных горах, проникает чрез расселину внутрь Келат-и-Надира и разделяется на ирригационные каналы, которые оплодотворяют растительность, разбросанную во впадинах плато. В обыкновенное время воды оросительных каналов достаточно обильны, чтобы снова войдти в русло потока и вылиться в равнины чрез клюзу, которая проходит по утесу от юга к северу. Топи, образовавшиеся при выходе потока, делают иногда воздух страны весьма вредным для здоровья. Оба ущелья, где проходит ручей, равно как и три остальные бреши, открывающиеся в стенах массива, укреплены весьма тщательно, и на самой возвышенной точке утеса, на западе массива, высится цитадель, ныне разрушенная, среди которой уцелела одна деревня. От прежнего укрепленного дворца Надира вид распространяется далеко на серые равнины туркмен, а на юге взорам представляется длинный хребет Кара-дага или «Черной горы», продолжающийся на запад Хазар-Масджидом или «Ста Мечетями». Пик наиболее возвышенный, который дает название целому ряду пиков, разрезывается на множество игол, которые пылкое воображение богомольцев Мешхеда сравнивает с исполинскими минаретами.
К северо-западу от «Форта Надира» другие массивы, находящиеся вне южного склона хребта, граничат с богатыми и плодоносными бассейнами Дерегеза или «Долины Тамарисов», отличающимися наиболее яркой растительностью во всей Персии, после областей Каспийского прибрежья, в Гиляне и Мазандеране. У подошвы этих выдвинутых вперед гор останавливается ныне, у станции Асхабад, железная дорога, построенная русскими войсками со времени войны с туркменами текке и, впоследствии продолженная к Афганистану, идя вдоль подошвы гор. Русские инженеры предлагали также проложить железный путь, который проходил бы чрез хребет по одной из долин Дерегеза и спускался бы к юго-востоку по направлению к Мешхеду. В некотором расстоянии, по ту сторону ущелья Гарм-аба, оба склона главного хребта составляют часть новых русских владений: граница спускается в долину Замбара, затем проходит чрез свой приток Чамбир, и, идя вдоль раздельной линии между бассейном Замбара и Атрека, соединяется с устьем обеих рек. В этой области горы постепенно спускаются к Каспийскому морю, и на плато Ирана могут взобраться без труда путешественники, пробирающиеся по многочисленным долинам, пролегающим между расходящимися разветвлениями горных хребтов. Туркмены, живущие грабежом, хорошо знают эти дороги, позволявшие им еще недавно заходить в тыл населению плато, не имея нужды взбираться на восточный хребет, поставленный подобно оплоту над их степями.
Атрек, главный приток Каспийского моря на азиатском берегу, есть та самая река, которая дала название всему бассейну, расположенному между Копет-дагом и Иранским плато. Поднимаясь по главной долине, длина которой не менее 500 километров, доходят, таким образом, до Кучана, лежащего на высоте более 1.350 метров,—высокой равнины, которая образует раздельный порог между Каспийским морем и Гери-рудом. Тут представляется весьма разительный пример того факта, что раздельные линии для стока вод не всегда совпадают с таковыми же линиями горных вершин. В этой области Персии, горизонт кажется закрытым со всех сторон высокими хребтами гор, а на самом деле это едва заметные выпуклости почвы, которые отбрасывают воды с одной стороны к Каспийскому морю, а с другой—к реке Герата. Как и на некоторые другие реки, так равно и на верхний Атрек, туземцы указывают, как на настоящий источник, т.е. не на такой, которого течение простирается далеко, а на такой, который никогда не перемежается. Этот источник, известный под названием Кара-Казана или «Черного Котла», есть бассейн, имеющий около пятидесяти метров в ширину; вода поднимается со дна тысячами вертикальных струй и разливается по поверхности ключами, которые беспрестанно перемещаются, пересекаясь своею кольцеобразной рябью. Вода «Черного Котла» слегка теплая.
К югу от продольного плоскогорья, в котором происходит разделение вод, высятся другие горы, в среднем менее высокие, но доминируемые несколькими вершинами, которые выше огромных вершин Туркменского Кавказа. Так, одна из вершин, которая виднеется к западу от Мешхеда, превышает 3.300 метров; другая вершина, Шах-Джехан, доминирующая над раздельным порогом между Атреком и Кашаф-рудом, такой же точно высоты; наконец, к юго-западу и к западу Буджнура, две горы достигают еще большей высоты: Ала-даг или «Пестрая Гора» (3.750 метров) и Куркуд (3.810 метров). Все вместе взятые, эти различные горные хребты северо-восточной Персии тянутся параллельно длинному пограничному хребту Копет-дага, то-есть от северо-запада к юго-востоку, но они более неправильны в своем главном направлении и перерезаны большим числом брешей. Тем не менее, они представляют более трудности при переходе, вследствие недостатка воды и отсутствия зелени: дожди, приносимые полярными ветрами, и те, которые приносятся экваториальными течениями, одинаково задерживаются при проходе чрез пограничные горы плато; ливни весьма редки на высотах, расположенных внутри иранской ограды.
В общем, горная полоса, ограничивающая Персию, к северо-востоку странным образом изменяется в ширину. Тогда как на западе толщина стены, отделяющая равнины Астрабада от равнин Шахруда,—Каспийскую область от пустынных пространств центральной Персии,—едва достигает до сорока километров, на востоке параллельные хребты присоединяются к главному гребню гор, и от запада к востоку они получают все более и более значительную ширину, так что развертываются полукругом на восток от большой пустыни. Между Персией и Афганистаном, под меридианом Мешхеда, гребни гор, следующие друг за другом с севера на юг, почти все идут, сообразно с нормальным направлением персидских гор, от северо-запада к юго-востоку, в числе двенадцати, не считая второстепенных отрогов: дорога из Мешхеда в Сеистан, по которой проходят караваны, представляет непрерывный ряд подъемов и спусков; на некоторые из них, благодаря крутизне скатов, весьма трудно взбираться; почти повсюду находишься на высоте более 1.000 метров, а многие бреши гор превышают 2.000 метров. С другой стороны, плоскогорья, разделяющие параллельные хребты, представляют во многих местах песчаные и пустынные пространства. Итак, хотя все эти промежуточные проходы составляют естественную дорогу, которая ставит в сообщение Персию с Афганистаном, но трудности, встречаемые на дорогах, пролегающих по пескам, или по крутым горам, побудили сделать из этой страны «проезжую дорогу» между двумя государствами. Кроме того, набеги туркмен, которые в этих странах, благоприятствующих засадам, врывались бешеными кавалькадами внутрь их равнин, более чем на 500 километров, много способствовали тому, чтобы сделать из этих стран настоящую границу, где встречаются персы с афганцами.
Горы, господствующие своими лесистыми скатами над южным полукружием берегов Каспийского моря, известны под общим названием Эльбурса. Впрочем, название это принадлежит только одному изолированному массиву, тому, который высится на северо-западе Тегерана; это—древний Альбордж, «первая гора, от которой возникли все прочия», центр семи «симметрических частей земли, соответствующих семи небесам планет и семи кругам ада», лучезарная вершина, упирающаяся в небо, источник вод и колыбель человечества.
В действительности все эти высоты, находящиеся между русским морем и персидским плато, не составляют единого хребта, а отдельные звенья, соединяющиеся одни с другими посредством второстепенных отрогов. Первый восточный массив и один из наиболее возвышенных—это Шах-Кух (Шах-Кох) или «Королевская гора». Его изрезанный хребет, представляющий контраст своими пилообразными зубьями с куполами большинства других гор Эльбурса, возвышается к западу от луговых вершин, имеющих столь важное значение с военной точки зрения, которую разделяют равнины Астрабада от равнин Шахруда: именно там и пролегает одна из исторических дорог, наиболее часто проходимых между Ираном и Тураном. Высота порога в Чалчанлианском ущельи достигает 2.620 метров, а наиболее возвышенные иглы Королевской горы господствуют над проходом, высотой около 1.500 метров. Груды снега наполняют круглый год южные впадины, ближайшие к вершине, к великому огорчению горцев, обязанных платить дань снегом губернатору Астрабада. Деревня Шах-Кух-Бала, расположенная на высоте приблизительно 2.400 метров, на южной покатости горы, считается самым возвышенным населенным пунктом в Персии. Угольные копи и залежи каменной соли находятся в известковых и песчаных скалах Шах-Куха и соседних гор.
Ущелье, посещаемое чаще Чалчанлианского, потому, что оно сокращает на целые сутки путь путешественникам, отправляющимся из Тегерана в провинцию Астрабад,—огибающее на западе вершину Шах-Куха, называется Шамшербурским или «Ущельем, прорубленным мечем». Туземцы видят в этом подвиг Али и рассказывают, что герой этот, прорубивши гору, бросил свой меч в Каспийское море; от этого происходят и все бури, часто волнующие это море. Немного найдется ущелий, похожих более на портал, сделанный рукой человека, чем эта вторая брешь Ролана, но менее высокая и менее грандиозная, чем та, которая в Пиренеях. Верхнее ущелье, длиной в 135 метров и шириной от 5 до 6-ти метров, доминируется и с той и с другой стороны двумя скалами в виде столбов, которые совершенно отделены от остальной горы и гладкия стены которых имеют от 6 до 10-ти метров в высоту. По словам Непира, мнение которого не подтверждается подлинниками других авторов, этот природный вход и есть то ущелье, которое греки называли «Каспийскими ущельями». Известно, что Шамшербур есть одна из древних дорог Мидии. Различные местные поверья свидетельствуют о святости, в которую облечена вся эта страна, посещаемая людьми всех стран. Так, скала, находящаяся близ деревни Астаны, там, где сходятся несколько дорог, на юго-западе ущелья, носит отпечаток ноги. Место это обнесено решеткой, в ограждение от назойливого любопытства вольнодумцев, столь многочисленных в Персии. Этот отпечаток ноги приписывался прежде богам; ныне чтится шиитами, как свидетельство посещения Али. Вблизи этого места бьет сильный источник, по всей вероятности самый сильный во всей Персии: это—Чесмех-и-Али или «Источник Али», дающий, по словам Непира, до 3-х кубических метров в секунду. Он оплодотворяет поля Астаны, создавая зеленый оазис среди всех этих желтоватых скал, наводящих уныние полным отсутствием растительности, как почти все скалы южного склона Эльбурса. Но источник этот более ценится, благодаря своей таинственной очистительной силе, нежели свойствам удабривания: богомольцы, отправляющиеся в священный город Мешхед, никогда не забывают погрузиться в его воды. Впрочем, кажется, источник Али считается целебным для лечения накожных болезней.
По ту сторону Шамшербура, главный хребет, известный под специальными названиями Хазар-джара и Савад-куха, правильно продолжается к юго-западу, обращая к Каспийскому морю крутые скаты, покрытые роскошной растительностью, а в сторону плато, напротив, спускаясь последовательными террасами, то каменистыми, то зелеными, и не имея растущих деревьев нигде, за исключением некоторых впадин, где журчат воды источников. Самая обильная водою река в этой части Мазандерана—Тилар или Талар, которая получает свое первоначальное течение не с северного склона гор, а с южного. Она берет свое начало на плато Кинг, на высоте более 2.850 метров; затем, соединив множество притоков, пробуравливает себе выход сквозь хребет Эльбурса. Дорога, по которой недавно еще так часто проезжали, до постройки дороги, пролегающей более на запад,—входит в эту клюзу и спускается к берегу Каспийского моря; она служит для караванов, доставляющих в столицу дрова, уголь и съестные припасы. Высокая гора Незвар (3.965 метров) господствует над ущельем с восточной стороны, окруженным почти кольцеобразно притоками Талара. Развалины крепостей, приписываемых, как и множество других сооружений в стране, Александру Великому, защищают входы в ущелье, близ деревни Фируз-Кух. Параллельный хребет, гораздо менее возвышенный и состоящий большею частью из конгломерата и каменных обломков, отделяет эту часть Эльбурса от лежащих внутри пустынных равнин. Его называют горой Самнан, по имени города, наиболее имеющего значение на дороге, идущей вдоль её южной подошвы. Передняя гора этого хребта, которая выдается далеко в пустыню, пересекая дорогу, по всей вероятности, та самая, которой ущелья ныне известны под названием Сирдара, а прежде назывались «Каспийскими ущельями». Многочисленные развалины укреплений свидетельствуют о той важности, какую придавали обладанию этим проходом, с помощью которого можно избежать длинного обхода по солончаковым равнинам юга, или по скалистым горам севера.
Самая высокая вершина Эльбурса, Демавенд, которого пирамида высится на 2.000 метров над окружающими горами, геологически совсем не принадлежит к иранской орографической системе: это—вулкан, весь составленный из скал, смешанных с извержениями и лавой, тогда как все горы, образующие пьедестал Демавенда, состоят из осадочных слоев извести и песчаника, слои которых нисколько не расстроились от появления верхнего конуса. Груды шлаков были выброшены расщелинами почвы поверх переднего возвышения гор и плато, и во многих местах можно видеть огнезданные скалы, покрывающие известковые слои. Но на восточной стороне вулкана можно заметить громадную расщелину, которая образует почти раздельную линию между веществами, выброшенными землей, и осадочными слоями. Центральный конус немного наклонен к западу, как будто бы его восточная база приподнята; зазубренный полукруг, остаток более древнего кратера, окружает пик, как другая Сомма окружает Везувий, но больших размеров. Высота вулкана, наиболее возвышенного конуса в Персии, была высчитана различно: по словам Кочи—первого европейца, достигшего кратера, после ботаника Ошера Элуа,—высота вулкана достигает только от 4.200 до 4.500 метров, судя по поясам растительности; но Томсон, Лемм и некоторые другие ученые прибавляют к этому вычислению еще более 2.000 метров. Измерения Ивашинцова, которые он делал тригонометрическим способом, доходят до 5.628 метров. Персидские ученые, которые считают Демавенд самой высокой горой на земле, при полном непонимании меры, говорят, что высота его достигает 30 километров. Из Тегерана видно его даже ночью господствующим над горизонтом, и когда солнце восходит за Эльбурсом, то от него огромная черная тень ложится далеко над парами равнины; его видно даже от подошвы Кашанских гор, через полосу пустынь. Кажется, с исторических времен Демавенд не производил извержений; но столбы пара часто поднимаются из трещин вершины, и особенно из случайного конуса Дуди-куха или «Дымовой горы», которая высится на южном склоне. Эти пары часто растопляли слои снега, покрывающие верхний конус, а также маленькие ледники в кругообразных лощинах, причиняя таким образом страшный потоп, уносивший лавины обломков на нижния террасы. Теплые источники, весьма обильные, возникшие на окружности горы и распространяющие такой же серный запах, как и дымовые трещины вершин, образовались из растаявших снегов, просачивающихся сквозь слои пепла. Их употребляют только при лечении болезней; земледельцы считают их пагубными для растительности. Кроме того, железистые источники и другие, выбрасывающие травертиновый туф, текут в изобилии со скатов Демавенда. По исследованиям де-Филиппи, вулкан был еще в действии и тогда, когда на иранском плато наносы заполнили верхом древние озера.
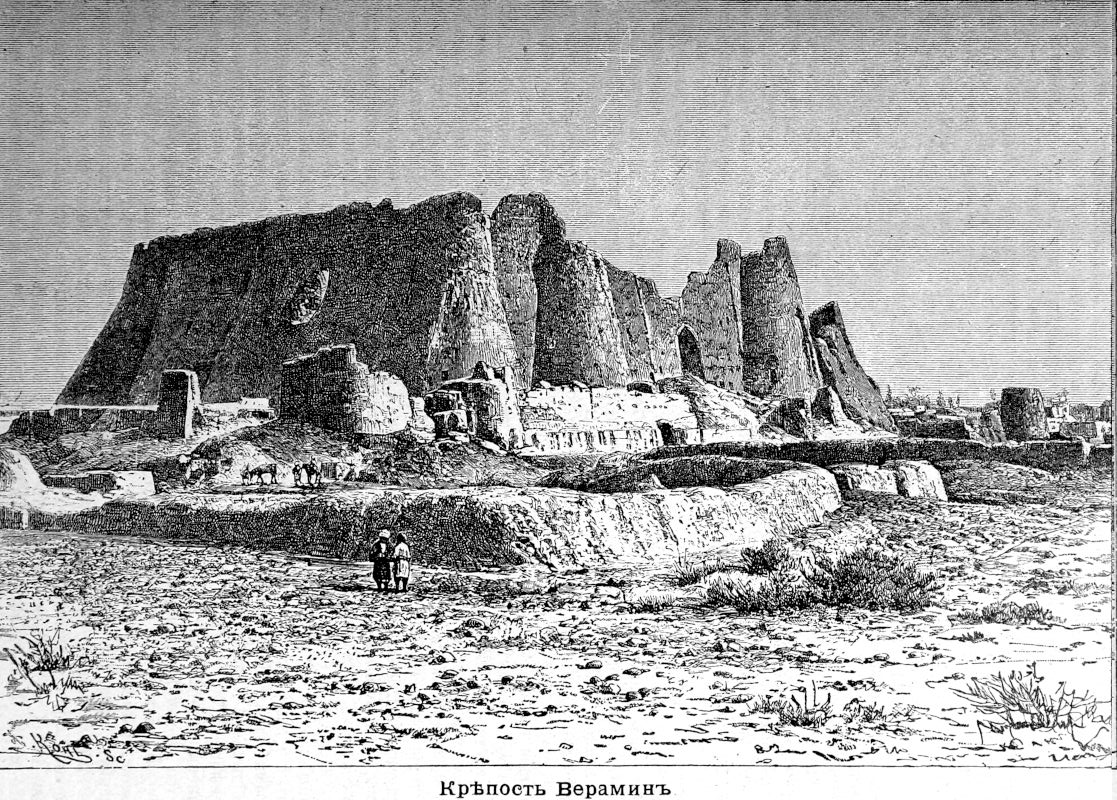
По сказаниям легенды, Демавенд или Дивбанд («Жилище Див или Духов» ), был свидетелем всех событий, скрытых под завесой мифов. Там, говорят магометане Персии, остановился Ноен ковчег; там жили Джемшид и Рустем, воспетые в эпопеях; там Феридун, победитель исполина Зогака, зажег торжественный огонь, который напоминает, может быть, о древних извержениях: там заперто чудовище, а пары, выходящие из горы, это—дым из его ноздрей; там также пригвожден, подобно Прометею, Язид-бен-Джигад, печень которого, беспрестанно возрождающаяся, пожирается исполинской птицей. Гроты вулканов наполнены сокровищами, которые стерегут змеи. Туземцы идут туда только для собирания серы, лежащей в жерле кратера и в соседних с ним дымовых трещинах. Подъем на гору трудный, хотя скаты везде правильные и поверхность из лавы и пепельные откосы нигде не прерываются пропастями. В предохранение от скорбута, который, благодаря испарениям почвы, становится иногда опасным, взбирающиеся на гору имеют обыкновение жевать чеснок или лук. Часто случается, что искатели серы погибают от внезапных бурь, поднятых одновременно снегом и пеплом, смешанными с сернистыми парами, что делает атмосферу невозможною для дыхания. Края кратера, которого впадина превышает 300 метров в окружности, заполнены льдом; при входе на гору, открывается громадный горизонт, более чем в 300.000 квадратных километров. Но весьма редко случается, что пространство не бывает задернуто туманом: сквозь серое покрывало из пыли и паров, едва можно различить у подошвы горы черные пятна, обозначающие сады Амола и голубую поверхность Каспийского моря, обрамленного желтоватой линией берега, изогнутого в виде полукруга. Со стороны иранских плато скорее угадываешь, чем видишь, города, окруженные садами: надо спуститься на выдвинутые вперед террасы, чтоб иметь перед глазами верную картину пространства, испещренного оазисами, «подобно коже пантеры».
На северо-западе от Демавенда хребет Эльбурса принимает северо-западное направление, почти параллельное Каспийскому прибрежью, но мало-по-малу приближаясь к берегу. Точал-гора, которой длинная вершина господствует на севере над равниной Тегерана, достигает высоты 3.900 метров, и многие ущелья этой части Эльбурса превышают 2.500 метров. В них есть убежища, местами подземные, сохраненные близ входа для приюта животных и людей от снежных буранов. На северо-западе Тегерана, одна из вершин, не самая высокая гора Альп северной Персии, есть одна из тех «Соломоновых Тронов», которые находятся во всех мусульманских землях: Тахт-и-Сулейман Эльбурса достигает высоты не менее 4.400 метров; в половине июля, она еще разливает блеск снегов; но на ней нет и следов ледников, ни нынешних, ни прежних: Персия, в которой столько признаков указывают на бывший прежде период дождей и снегов, не имела периода льдов. В недалеком лишь расстоянии, к юго-востоку от Трона Соломона, над ущельями, к которым доступ весьма труден, высится, доминируемая горой Зиялар, крутая скала Аламут или «Орлиное гнездо», из которого «Старец Горы», король-священник «Убийц», т.е. правоверных, опьяненных «гашишем», сделал свою главную крепость и складочное место для своих грабежей. После долговременной осады крепость эта была взята монголами в 1270 году; остальные сто замков секты также вынуждены были сдаться; но религия, называемая Измаили, существует еще и теперь, и прямой потомок Старца Горы пребывает в Бомбее, в качестве мирнаго британского подданного, содержимый добровольными даяниями правоверных.
За Тахт-и-Сулейманом тянутся пастбищные вершины Самана. Горы спускаются отлогостями, а чрез всю толщину хребта протекает обильная водою река Сефид-руд (Белая река), которая берет начало в горах Курдистана и течет на пространстве около 200 километров вдоль южной подошвы Эльбурса, до тех пор, пока находит брешь, дозволяющую ей ринуться к Каспийскому морю. На западе Гери-руда, Сефид-руд—единственная река, пробуравливающая местами вершины хребта, образуя таким образом диафрагму западной Азии. Брешь эта замечательна не с одной только географической точки зрения, но также и в отношении местных климатических явлений. Все путешественники жалуются на страшный северный ветер, поднимающийся летом с Каспийского моря и проникающий в ущелье Сефид-руда. Сначала он не особенно силен, но постоянно усиливается по мере того, как дальше проникает в ущелье и превращается в ураган при выходе из ущелья, там, где мост Менджгиль перекинут чрез поток. Легкие пары, приносимые этим ветром с моря, сгущаются на плато при соприкосновении с более холодными слоями воздуха и уже в виде густых облаков клубятся вокруг гор. Сейчас по наступлении дня, рискованно проходить по мосту Менджгиля: можно быть унесенным ветром; даже животные ни за что туда не идут. Легко себе объяснить происхождение этого атмосферического явления: во время жарких летних дней, долины, защищенные от северных ветров массивами Эльбурса, наполняются жгучей атмосферой; воздух Каспийского моря, втянутый в это горнило, стремится в воронку Сефид-руда и оттуда немедленно проникает в верхние слои воздуха плато. Зимой происходит противуположное явление: холодный воздух горных вершин вторгается в ущелье Сефида, притягиваемый менее холодною температурой Каспийского моря.
Горный хребет, снова показывающийся по другую сторону Белой реки и огибающий залив Ензели, затем продолжающийся к северу и выдвинувший в море свой мыс Астара, откуда течет поток, отмечающий границу между Персией и Россией,—считается обыкновенно принадлежащим к орографической системе, разнородной с Эльбурсом. Этот хребет есть продолжение Талышских гор, первые холмы которых возвышаются в Закавказье над Муганскою степью. Гребень этих гор вытягивается по прямой линии, километрах в двадцати от Каспийских берегов; во многих местах кручи представляются в виде вала над морем. Тем не менее, некоторые бреши в хребте дозволяют добраться до плато Азербейджана, и две идущие дороги,—одна от русского военного поста Астара, другая от небольшого порта Керганруда,— проходят чрез гору на высоте 1.980 метров; идущая южнее тропинка, которая огибает северные скаты Ак-дага,—не ниже 2.700 метров. Между этими двумя склонами Талыша контраст поразительный: с одной стороны виднеется море между ветвями деревьев, растущих на обрывистом скате; с другой стороны тянутся слегка волнообразные покатости плато, почти совсем лишенного растительности.
Узкая прибрежная полоса, образующая между горами и Каспийским морем две области, Гилян и Мазандеран, представляет страну, настолько разнящуюся от Персии и своим видом, и свойством почвы, и климатом, и произведениями, что в ней гораздо заметнее географическое влияние Кавказа, нежели Ирана, часть которого она составляет и с которым эта территория связана в политическом отношении. Контраст столь резок между плоскогорьями, простирающимися с южной стороны Эльбурса, и плодоносными долинами его северной подошвы, что многие ученые видели в этой противуположности одну из главных причин дуализма, составляющего основу древней персидской религии. Правда, если сравнивать Мазандеран с суровыми пустынями плато, он представляется раем по обилию своих вод, по силе и яркости своей растительности, по богатству своих садов. Но зато в другом отношении он невыносим, благодаря хищным зверям, обитающим в его лесах, несметному количеству комаров, тучи которых затемняют атмосферу, а также господству болотных лихорадок, действующих самым разрушительным образом на организм жителей. Эта прелестная страна была именно той, которую населяли злые духи. «Если хочешь умереть, ступай в Гилян», говорит персидская пословица. Другая причина, по которой нижний Мазандеран считался проклятой страной, по сравнению с высокими местностями, заключалась в том, что «герои», т.е. победители, жили на горе и на передних холмах, тогда как в прибрежных местах, не защищенных болотами, работали порабощенные народы или данники, т.е. презренные. Прибрежная полоса, простирающаяся в длину около 600 километров, а в ширину имеющая не более 15 или 20 километров, не могла, очевидно, сделаться владением автономного народа: жители возвышенных местностей, внезапно спускаясь с гор, становились заранее хозяевами этих богатых посадов, которые они видели у своих ног. Но как бы ни был разителен контраст относительно почвы, климата и земледелия между иранскими плато и низменными областями Мазандерана, все же он представляет менее резкий переход от хорошего к худшему, нежели какой мы видим собственно в Персии: там просто поражает внезапный переход от зыбучих песков или голых скал пустыни к тенистому зеленому оазису, в котором слышно журчание фонтанов, пение птиц, и в чаще зелени которого скрывается многолюдный город.
Пары с Каспийского моря и приносимые полярными ветрами более, нежели какая-нибудь другая геологическая сила, содействовали тому, что Мазандеран обладает такой роскошной растительностью. Количество дождя, падающее на склоны Эльбурса, еще не измерено посредством сравнительных наблюдений; но на основании приблизительных вычислений известно, что дождь падает по крайней мере в пять раз больше на северных скатах горы, нежели на противуположных скатах, обращенных к Ирану. Когда дождевые облака поднимаются с моря, то почти всегда видно, как они останавливаются на самой вершине гор, резко очерченные сухим воздухом, который покоится на плато. После больших ливней, пресная вода, которую морской ветер выбрасывает на горы и которую затем уносят обратно потоки, покрывает на значительном пространстве соленые волны Каспийского моря. Предание, сообщенное Плутархом, говорит, что Александр Великий пил эту воду во время своего похода в Гирканию. Вследствие дождей, форма возвышения гор совершенно различна на двух покатостях персидских Альп. На юге Эльбурс высится правильными террасами, слегка надрезанными воздушными стихиями, а на севере его скаты изрыты по всем направлениям глубокими лощинами, осевшие частицы которых тянутся по почве узкой равнины в виде гравия или ила: с каждого холма, выдвинутого вперед, видны следующие друг за другом вдоль берега параллельные гребни мысов, из которых последние исчезают в густом тумане. Каждая из этих линий обозначает вход в долину, с её небольшими боковыми лощинами, и целую систему потоков, рек и ирригационных каналов. Хотя берега Мазандерана распространяются к северу до 36° широты, тем не менее они обладают если не тропической растительностью, то во всяком случае не менее богатой, как и на юге Европы. На севере Каспийского моря тянутся всюду степи и пустыни, на юге всюду виднеются итальянские деревни, где растут фиговые, миндальные, гранатовые, лимонные, апельсинные деревья. На холмах ростут кустарники самшитов (буксов), а кипарисы окружают деревни и замки. Выше леса, покрывающие скаты до 2.000 метров высотой, походят на леса центральной Европы и состоят преимущественно из ясеневых, буковых и дубовых деревьев. Европейцам, живущим в Тегеране, стоит только перейти чрез ущелье Эльбурса, чтоб почувствовать себя снова в своем отечестве. Возделанные поля, лежащие у подошвы гор, чрезвычайно плодородны: как говорил Страбон, «стоит зерну выпасть из колоса, чтоб произвести новую жатву; там деревья служат ульями для пчел и мед капает с их листьев».
Мазандеран продолжает быть садом Персии, и Тегеран пользуется от него рисом, пшеницей и фруктами, шелком-сырцом, равным образом лесом и углем из его лесов, и рыбой из Каспийского моря. Понятно, что государи Персии заботились о защите этой богатой провинции от вторжения разбойников-туркмен, рыщущих на юго-востоке Каспийского моря в долинах Атрека и Гюргена. Легко защищаемая с западной стороны, где холмы приближаются к морю настолько, что оставляют только узкие проходы, равнина Мазандерана имеет довольно широкий пролет с восточной стороны, к Гюргенской долине, к «Волчьей реке», которая дала название Гиркании древних. Надо было, следовательно, перерезать этот пролет стенами и башнями, опираясь с одной стороны на море, а с другой на горы: такой оплот должен был остановить яджуджей и маджуджей, племена «Гога и Магога», как их называли арабские ученые средних веков. Но чрез эти стены переступали не раз; поэтому и население Мазандерана состоит из большого числа земледельцев, происшедших от туркмен-номадов.
Хотя Каспийское море и очень глубоко вблизи побережья, судя по тому, что лот определяет глубину морскую в 750 метров на расстоянии всего только 30 километров от берега,—берег Мазандерана тем не менее совершенно не имеет хороших портов: наносы, приносимые с Эльбурса многочисленными потоками, подхватываются морскими волнами и осаждаются вдоль берегов. Почти повсеместно берег идет прямой линией или легкими извилинами. Единственный заметный выступ побережья образуется из осадочных наносов Сефид-руда, выдвигаясь по крайней мере на 25 километров против нормальной черты берега. Это осаждение земель морем объясняет возникновение обширного внутреннего залива, в который текут воды западного рукава дельты. Волны, захватывая наносы, приносимые Белой рекой, образовали из них прибрежный вал, окруживший водяное пространство, которое прежде составляло часть моря: это—Мурд-аб или «Мертвое Море» персов. Воды его, хотя и занимают пространство около 400 квадр. километров, совсем не глубоки: суда могут плавать там в небольшом числе по извилистому фарватеру; проток Энзели, соединяющий залив с Каспийским морем, дозволяет проходить только гребным судам, имеющим от 50-ти до 60-ти сантиметров осадки; места, поросшие камышем, распространяя на далекое пространство топи Мертвого моря, дали Гиляну его название, означающее «Страну Болот». Наиболее возвышенные местности равнины те, которые идут вдоль реки, как и во всех дельтах. Благодаря своему ежегодному половодью, Сефид-руд не перестает поднимать свои берега: по старинному преданию, Лангеруд или «Река якорных стоянок», город, расположенный в наше время в нескольких километрах от моря, был когда-то портом Каспийского моря, и не так давно, в половине прошлого столетия, под почвой этого города не раз находили якоря.
Астрабадский залив, находящийся в юго-восточном углу Каспийского моря, походит на Мертвое море Гиляна, но он глубже, и чрез некоторые проходы туда проникают волны открытого моря; суда с углублением более 4-х метров могут входить в этот бассейн в благоприятную погоду. Стрелка, которую русские назвали Потемкинской, отделяет залив от открытого моря. Она постепенно съуживается от запада к востоку и кончается двумя островами, из которых наибольший, Ашур-аде, был выбран русским правительством для морской станции; рощи, изобилующие дичью, занимают почти всю окраину прибрежья. Астрабадский залив представляет, вместе с своими окрестностями, скорее вид затопленной местности, нежели залива первобытного образования: кажется; будто старый берег был разрушен, и деревни, лежащие за ним, были залиты приливами. Явления погружения в воду, которые были констатированы во многих местах каспийского побережья, именно в Баку и близ Ашур-аде у «Серебряного Холма» или Гумиш-тепе, делают весьма вероятным это вторжение моря в Астрабадский залив. Равным образом, замечались также следы понижения уровня каспийских вод во многих местах прибрежья, у Мазандеранского берега; понижение морского уровня не прекратилось. На различных высотах над уровнем настоящего берега можно наблюдать линии, проведенные ударом волн в эпоху, когда внутреннее море соединялось, быть может, с Понтом Эвксинским. Некоторые из этих оставленных берегов окаймлены стволами деревьев, зарытых волнами наполовину в ил. Деревья эти одинаковых пород с деревьями соседних лесов, приносимыми потоками к морю и которые после сильного половодья виднеются плавающими во множестве вдоль берегов. Раковины, смешанные с песком старых морских берегов, все принадлежат к породам, живущим и в настоящее время в соседних морях, и некоторые из них сохранили свежесть своих красок. Но замечательно, как исключение, то, что сердцеобразные раковины, столь обыкновенные теперь в Каспийском море, не встречаются совсем на покинутом прибрежье: в этом видно указание на важные изменения в жизни моря, со времени уменьшения его вод. На южных берегах его и теперь еще формируются песчаные скалы: там попадаются не только раковины и обломки дерева, но также и остатки человеческой производительности, что доказывает, что аггломерация этих песков в камни есть современное явление.
На западе Талышских гор высится почти изолированная гора, коническая форма которой кажется издали вулканом: это—Савалан, которого вершина достигает 4.844 метров; она почти постоянно покрыта снегом. От начала исторических времен не упоминается об извержениях пепла или лавы, которые бы потрясали эту гору. Путешественники, всходившие на нее, видели там только следы кратера; но обильные теплые источники бьют у её подошвы. На востоке, на севере и на юге Савалан совершенно отделен от окружающих гор. Только на западе высокий отрог соединяет его с Кара-дагом или «Черной горой», которой вершина идет полукругом к югу от ущелий Аракса и соединяется в Армении с массивом Арарата. Черная гора есть гребень, граничащий к северо-западу с иранским плато и закрывающий, таким образом, длинный вход, открывающийся между Эльбурсом и горами Курдистана. Но нельзя сказать, чтоб эта горная цепь, идущая на севере вдоль русской границы, служила бы естественной границей. Горы северной Персии, южного Закавказья и турецкой Армении составляют в их целом одну и ту же орографическую систему, соединяя горные хребты Ирана с хребтами Малой Азии: это та гористая страна, которой Карл Риттер дал название Медийского перешейка. В этой стране почва равнин весьма возвышенна: наиболее глубокая низменность, представляемая впадиной озера Урмия, превышает 1.300 метров.
В северо-западном углу Персии, наиболее высокая гора, один из священных пиков иранцев—Сехенд (в 3.546 метров высотой), кругообразная подошва которого, имеющая 150 километров в окружности, погружена в бассейн озера Урмия; наверху этой природной обсерватории Монтеит чертил карту Азербейджана. который он видел распростертым у своих ног. Гордый массив, образовавшийся из трахитовых скал, на которые наслоились известь, сланец, песчаник, конгломераты,—весьма обилен всякого рода источниками, теплыми и холодными, кисловатыми, железистыми, серными. Источники Сехенда питают водохранилища Тавриза. На западном склоне, воды, сильно насыщенные солью, стекают в Урмийское озеро, увеличивая его солоноватость. Глубокая пещера в горе, Искандериях или «пещера Александра», выделяет в изобилии угольную кислоту, и животные, проникшие в эту расщелину земли, неизбежно погибают. Груды костей от умерших заграждают вход: по словам туземцев, в глубине этой пещеры, оберегаемой такой ядовитой атмосферой, Александр зарыл свои сокровища. Скалы восточного склона испещрены прожилинами меди и серебристого свинца. Туземцы идут разрывать руду с единственной целью добыть из неё свинец, посредством разведенного у себя дома огня, пренебрегая тем, что этот металл имеет большую примесь серебра, которую, впрочем, они не съумели бы извлечь.
На юге Савалана, треугольник, находящийся между Эльбурсом и хребтами гор, служащими границею западной Персии, занят различными массивами и отрогами гор, составляющими переход между двумя орографическими системами. Наиболее величественный из этих массивов, параллельный Эльбурсу и прикасающийся к нему своею юго-восточной оконечностью, с остальных трех сторон превосходно очерчивается длинною дугою, которую описывает река Кизиль-узен ранее своего слияния с Шах-рудом, при входе в Менджгильское ущелье. Массив этот—знаменитый Кафлан-кух, который служит одновременно и метеорологической, и исторической границею. На севере страна более влажна: это—страна проточных вод и пастбищ; на юге воздух суше, почва бесплоднее. По одну сторону население состоит главным образом из турок, по другую сторону большинство населения—персы. Кафлан-кух, несмотря на свою небольшую высоту в сравнении с Эльбурсом, горами Курдистана и Армении, и несмотря на легкость подъема на него по плохо вымощенной дороге,—считается как бы составляющим часть среднего раздела всего азиятского материка. Впрочем, он действительно принадлежит к линии водораздела между Каспийским морем и персидской пустыней. Было бы более смысла назвать его «Пограничной горой», а не Тигровой горой, как обыкновенно его называют. Кафлан-кух состоит из мергеля, местами переходящего в фарфор, вследствие извержений порфира. Высокий хребет Камзех, простирающийся к югу, отделенный от Эльбурса долиной Шах-руда, подобно Савалану, весьма богат металлами: один из его отрогов, по которому приходится переходить из Султаниеха в Казвин, весь состоит из массы железистого камня, в котором количество металла весьма велико.
Горы Курдистана, поднимая некоторые из своих вершин на высоту почти столь же значительную, как Сехенд, примыкают к массиву Тендурека и, подобно этому конусу, который стоит прямо против двойной вершины Арарата, они частью также вулканического происхождения. Один кратер открылся в этой стране гор, и лава его текла широкой каменистой рекой над песками и гравием долины Зельмаса, северо-западного притока Урмийского озера. В некоторых местах река эта течет между базальтовыми утесами в сто метров вышиной. Горы водораздела состоят большею частью из трахитовых порфиров, подобно Сехенду. Они начинаются на турецкой территории; только на юг от Урмийского озера, персидская граница, впрочем чисто условная, направляется к западу от первой вершины, чтоб затем спуститься в равнину и обогнуть подошву гор. Там не встречается таких складок почвы, которые бы в целом представляли столь поражающую правильность, какую мы видим в западной Персии. Горы однообразно направляются от северо-запада к юго-востоку, наклоняясь к югу немного более, чем понто-каспийский Кавказ и «Туркменский Кавказ». Большинство горных хребтов состоит из известковых и меловых скал третичной формации, тогда как предгория, которые ближе к Тигру, состоят большею частью из нуммулитов и свежего песчаника. Между всех этих гор гранитные ядра попадаются лишь на небольшом пространстве, если не считать того участка, который тянется от Урмийского озера к Испагани. Боковые горы иранского плато иногда называются общим именем Загроса: так называли их греки. Но это название принадлежит специально горному хребту, который внезапно круто возвышается, подобно валу, над равнинами Месопотамии, и который длинною долиною Керкга отделяется от восточных хребтов Нуристана и Кузистана. Горы, служащие границей Персии, идут по прямой линии, подобно вершинам Юры, Аллеганам, венгерской Маты, подобно горам Боснии, Сулейман-дага, и в большинстве они перерезаны местами широкими брешами или тенгами, открывающимися не в самой нижней части меловых и нуммулитовых хребтов, но именно в самых возвышенных частях каменистых соединений. Нигде нельзя лучше константировать, как тут, что некоторые горные ущелья возникли от пролома почвы, а не вследствие медленного размытия её: реки входят в них порывистыми изгибами, чтоб затем спуститься в перпендикулярные долины, лежащие между параллельными хребтами, и снова исчезнуть в боковой клюзе. Стены, сотнями громоздящиеся друг над другом, от равнин Вавилонских к иранским плато, между ущельями рек, принимают росположение, подобное тому, которое англичанин Раверти, привыкший к маневрам войск, сравнивает с «баталионами в ротных колоннах». Цоколь каждого горного хребта тем выше, чем он ближе к возвышенным местностям Ирана. Идя от равнины, приходится подниматься по целому ряду ступеней из одной клюзы в другую, благодаря чему и назвали эту страну Тенгзир или «Страна Тенов».
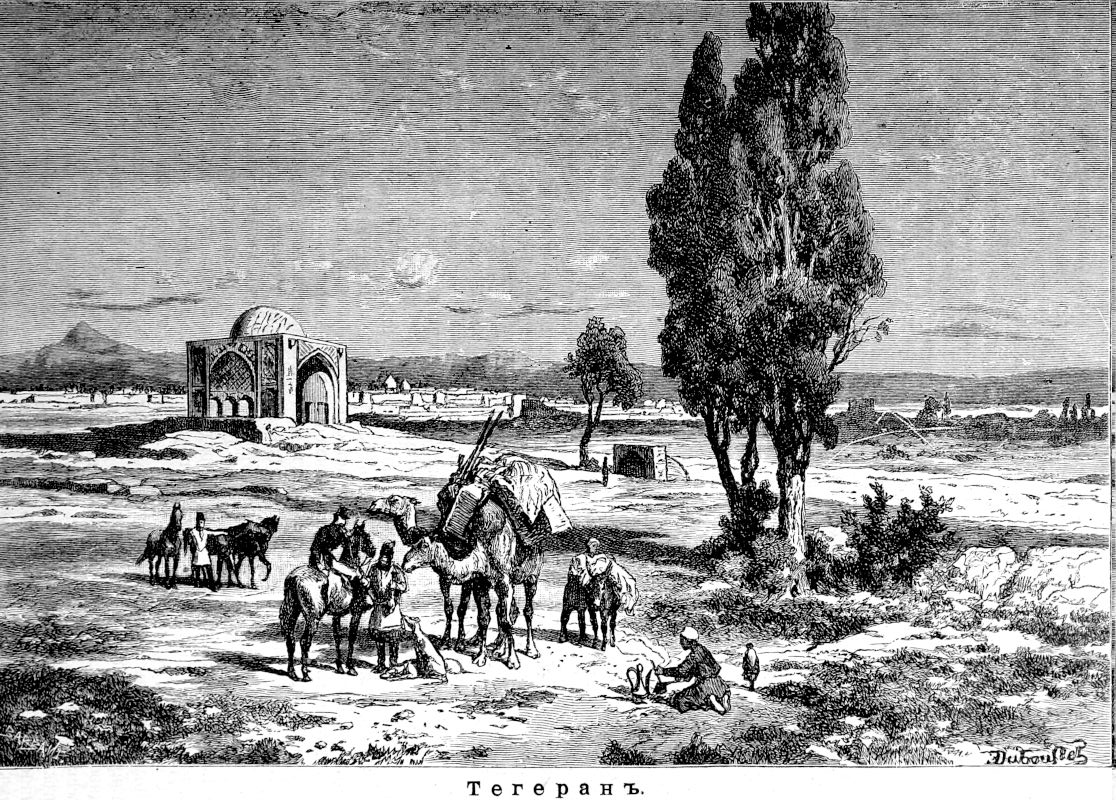
Некоторые из хребтов западной Персии так же однообразны по своей высоте, как и в общем направлении; но между ними есть однако несколько вершин очень неровных. Раньше, до того времени, когда английская коммиссия, назначенная для установления персидских границ с востока на запад, научно исследовала иранские горы, их считали менее высокими, чем они были в действительности. Непрерывный ряд подъемов и спусков сбивал с толку большинство путешественников; поэтому они пытались произвести измерения скорее относительной высоты гор, нежели абсолютной, отнесенной к морскому уровню. Одна из этих высоких вершин—знаменитый Эльвенд, по иранской мифологии Реванд; эта гора из гранита и кварца достигает высоты 3.270 метров. Город Гамадан, над которым она возвышается с южной стороны, стоит на высоте 1.877 метров. В течение восьми месяцев в году Эльвенд покрыт снегом. На юге Испагани, гора Алиджук имеет более 4.200 метров высоты. Но из всех горных хребтов достигает наибольшей высоты Кух-Динар, который простирается на север от Шираза, параллельно берегу Персидского залива. Его видно с моря, близ Бушира, на расстоянии более 200 километров, через другие горные гребни, превышающие 300 метров. По словам Оливера Сент-Джона, пики Динара выше по крайней мере на 1.000 метров против того, как предполагали прежде. Главная вершина его, Кух-и-Дена, превышает 5.200 метров: во всей Передней Азии, на запад от Гинду-Куша, гора эта уступает в высоте только одному Демавенду. Некоторые из самых невысоких гор страны Тенгзира представляют несравненно более трудностей при взбирании на них, нежели колоссы плато. Изломы в скалах образовали в некоторых местах вертикальные стены, вышиной в 500 и 600 метров, и образовали таким образом природные крепости или дизы, жителей которых можно покорить только посредством голода. Последний национальный государь Персии, Иездиджерд, укрывался некоторое время от арабов в одной из этих цитаделей в скалах. В южной Персии горы мало-по-малу понижаются, но расположение их иное. Сильные колебания почвы, выдвинувшие северные хребты гор параллельно Персидскому заливу и его прежнему северному протяжению, ныне затянутому наносами с Тигра и Евфрата,—дали также возвышенностям Ларистана направление, параллельное направлению берегов Ормузского пролива: здесь они тянутся большею частью с запада на восток; одна из вершин, которые высятся на одном из этих параллельных отрогов, на северо-восток от Бендар-Аббаси, Джебель-Букун, достигает высоты 3.230 метров. Большой остров Кишм, окаймляющий побережье к югу от ларистанских гор, расположен в направлении от юго-запада к северо-востоку: в этом месте на взгляд представляется, как будто остроконечная стрелка южной Аравии, кончающаяся у Раз-Мазандама, проникла чрез глубоко-сидящие скалы в слои персидских гор и вытянула их к северу, как будто эти горы состоят из тягучего вещества. Другие острова восточного побережья, в Персидском заливе,—не более, как простые отрывки береговых гор, частями погруженные в воду, сообразно общему расположению персидских гор.
Собственно на иранском плато, складки почвы, возвышающиеся над узкими долинами пашен и пустынными пространствами, идут, как и пограничные хребты западной Персии, в нормальном направлении, от северо-запада к юго-востоку. На пространстве 1.800 километров, вдоль берегов Кизиль-узена—в Азербейджане, близ гор Бампушта—в Белуджистане, простирается по прямой линии, без других перерывов, кроме ущелий и клюз, и без других неправильностей, кроме легких наклонов оси,—горная цепь, которая местами принимает чисто альпийский характер. Гаргиш, на юго-западе Кашана, и Дарбиш—на юго-востоке, имеют, как тот, так и другой, более 3.500 метров в высоту; Шир-кух к югу от Иезда, также альпийский массив, высотой около 4.000 метров, которого верхний купол походит с боку на альпийский Мон-Блан,—кажется полосатым от снега до конца лета, и даже некоторые слои снега на нем совсем не тают. Различные вершины Джамаль-Бариса или «Холодных гор», и базальтовый конус Кух-и-Газар, на юго-западе и на юге Кирмана, по словам Оливера Сент-Джона, превышают 4.200 метров. Кух-и-Бирг, на границе Белуджистана, достигает высоты 2.400 метров. Судя по некоторым названиям стран, еще мало исследованных, которые находятся в этой части юго-восточной Персии, горы там довольно высоки. Одна из вершин известна под названием Сефид-куха или «Белой горы», и вся область этого Когистана или «Страны гор» называется одинаково белуджистанцами и персами Сархадом или «Холодной землей». Близ южной оконечности этого главного хребта, который проходит чрез Иран, почти по всему его диаметру, и который, между Кирманом и Бампуром, состоит большею частью из вулканических скал, двух вулканических конусов Ношадура и Базмана,—в стране Нормашир высятся еще другие горы с менее высокими кратерами, близ окраин впадины, которая прежде была внутренним морем, а ныне завалена песками пустыни. Но следует заметить, что продолжение иранской оси Сехендом ведет к соединению на северо-западе с другим вулканическим массивом, с массивом Арарата. Вдоль южного берега, на Персидском заливе и на Аравийском море, заметны следы колебаний почвы, которые имеют, быть может, связь с вулканическими явлениями. На Персидском Мекране, равно как и на Белуджистанском, попадается множество холмов, которые прежде были конусами, извергавшими ил. На отмели порта Джаска показывается из глубины моря глиняный холм, который, по всей вероятности, был прежде одним из грязных вулканов.
Маленькия островные группы, возвышающиеся на плато, среди песков и глины пустыни, имеют также общее расположение персидских гор, от северо-запада к юго-востоку. Наиболее известный из этих горных островов, Зиах-кох, который высится на расстоянии около 150 километров от Тегерана, среди голой пустыни, имеет направление от запада к востоку. Этот массив из траппа и трахита вполне заслуживает свое название «Черной горы» и представляет резкий контраст темными красками своих верхних скал с меловыми слоями подошвы. Хотя самые возвышенные его точки не превышают 1.500 метров, массив имеет тем не менее грандиозный вид, благодаря своей изолированности над равнинами пустыни, которые в этой стране не выше 600 метров. Как Эльбурс, хотя и в значительно меньшей степени, Зиах-кох представляет замечательную противоположность между своими северными и южными скатами: на юге скаты голые, точно выжженные, а на севере они поросли кустарником. В глазах окрестных номадов, которые приходят сюда запасаться топливом, и этот хворостинник кажется превосходным лесом.
Обширное пространство треугольной формы, заключающее в себе горы Персии,—не более, как пустыня, состоящая из глины, песку, скал или соли, по которой кое-где, изредка разбросаны оазисы. Чтобы составить себе верное понятие об областях Хорассана, наиболее населенных, надо вообразить, говорит Мак Грегор, «небольшой зеленый круг вокруг каждой деревни, указанной на карте, а все остальное покрыть темной краской». Пустынные пространства, закрытые со всех сторон горами, были несомненно внутренним морем в эпоху, когда дымились еще вулканы, которые ныне высятся на севере равнины. Правильные слои, наблюдаемые Филиппи на берегах Агвара, на юго-востоке Султание, служат доказательством, что процесс наслоения происходил в эпоху относительно недавнюю. Там слои кремней, песку, глины, покрытые черноземом, наложены один на другой на ряде камней и обломков, в которых попадаются остатки человеческой производительности: обточенная кость, глиняная посуда, куски каменного угля. На пространстве более 70-ти километров в длину можно наблюдать это разделение слоев,—доказательство, что тут не может быть и речи о давнем перевороте. Таким образом, нынешняя почва этой области иранской впадины не существовала еще в то время, когда человек, которого глиняные изделия были перенесены в равнину проточными водами, жил уже на скатах окрестных гор. Эти обломки, перенесенные, вероятно, в снежный период, современный ледяной эпохе Альп, и засыпали окончательно персидское средиземное море. От каждой окрестной горы спускаются в равнину скаты с осколками, изрытые временными потоками вод, далеко уносившими с них пыль. Затем ветры продолжали процесс засыпания, перенося наиболее легкие материалы во впадины плато, из века в век все более и более толстыми слоями. На всем иранском плато, равно как в Афганистане и Белуджистане, виднеются огромные кучи песку и глинистой пыли, которые походят на «желтые земли» в Китае, но которые, по недостатку воды, становятся негодными для растительности. Но как бы ни был значителен процесс размельчания скал, все же внутреннее иранское море могло исчезнуть только вследствие чрезмерного испарения: обильные дожди помогли бы продержаться большому озеру, поднимая его уровень, по мере того, как наполнялось бы русло, и до тех пор, пока озеро нашло бы какой-нибудь выход из треугольной ограды гор, чтоб излить свой избыток в море.
В юго-восточных горах Персии господствуют пески. Ветер разметает их в холмы, которые перемещаются при каждой буре, стирая следы караванов, покрывая иногда пашни вблизи источников и временных ручьев, держа в осаде даже деревни и города. Есть стены, которым трение песков, гонимых ветром, придало глянец мрамора; есть также и такия стены, через которые перебрались дюны и, проникнув в город, вынудили жителей эмигрировать. Другие пустыни, где пески были совершенно сметены ураганами, представляют сплошной голый камень. В остальных пустынях, пространства, покрытые гравием, походят на высохшие русла потоков. В течение одного и того же дня караванам приходится проходить по почве весьма различного свойства: слои глины и песков соперничают с кремнями и скалами. Одна из этих пустынь, на северо-западе Сеистана, известна под названием Дахт-и-Наумеда или «Равнины отчаяния». Для того, чтоб вести там свои войска и для разъезда гонцов, Надир-шах приказал воздвигнуть на известных промежутках высокие колонны, которые бы указывали, какого направления следовало держаться. На востоке этой пустыни, на афганской границе, высится изолированная скала, знаменитая музыкой песков, которую производит в них ветер. Скала эта, называемая Рейг-Раван, походит на издающий звуки холм в долине Панджира, в северо-восточном Афганистане, музыка которого слышна на расстоянии почти двух километров.
Самая грозная пустыня Персии известна у народов, населяющих Хорассан, под названием Лута или Лота,—слово, которое, по мнению некоторых ученых, означает «Пустыня», а по мнению других оно напоминает о существовании древних исчезнувших городов Содома и Гоморры. Лут покрыт почти на всем своем протяжении слоем песку, скрепленного солью; более мелкий песок, который вздымает ветер, покрывает эту твердую поверхность. Отделяя Керманские горы от гор южного Хорассана, пустыня эта совершенно необитаема и имеет только небольшое число колодцев: чтоб пройти по её наименее широкой части, караваны должны употребить не менее трех дней и четырех ночей. Эта «проклятая земля» не имеет равной себе по бесплодию на всем пространстве азиатского материка, по крайней мере на севере Аравии; Гоби и Казиль-кум киргизов, в сравнении с Лутом—плодородные земли. Уже в десятом веке Истакри говорил, что «персидская Сахара», которую он не знал под её настоящим именем, была самой мрачной пустыней между всеми странами, принявшими ислам. Если на нее смотреть с верху какого нибудь окрестного холма, то видно, что она тянется на необозримое пространство, похожее на «массу металла, раскаленного до бледно-красного цвета»: ни малейшая тень не проходит по этому громадному пространству, освещенному ярким светом от восхода и до захода солнца. Но все же вид Лута несколько менее печален, нежели многие степи в русском Туркестане, потому что дуга горизонта нигде не образует абсолютно правильного круга; голубые или фиолетовые горы, похожия на легкия облака, прерывают монотонность пространства и указывают путешественникам направление, которого они должны держаться.
Вообще, самые глубокия части персидских бассейнов заполнены соляными топями, которые производят контраст с песчаными сахарами. В северных областях Ирана их называют кевирами, а в южном Иране—кефихами и кафахами. Самый обширный из них—тот, который простирается в пустыню на север от Теббских гор. Другой кевир, который, как говорят, имеет 75 километров в окружности, виден с верху «Черной горы», по направлению к Кашану; но обманчивый мираж, может быть, удвойвает его действительное пространство, так же, как близ Кома мираж беспрестанно изменяет форму Кух-Телизмаха или «Талисмановой горы»: в разгар лета пруд исчезает, его илистые воды заменяются красной землей, покрытой белыми полосами соляной плесени. Другие большие кевиры, остатки озер, рассеяны по долинам, параллельным с областью Кирмана; они принимают, подобно горным вершинам, направление от северо-запада к юго-востоку. Большая часть соляных грунтов представляют почву весьма неровную, пробуравленную в различных местах небольшими впадинами, которые чрезвычайно затрудняют движение верблюдов; но все же трясины редки на всем пространстве болот. Зимой, влажная земля делается черной, шероховатой, как будто она изборождена плугом, а летом она покрывается кожицей кристальной соли, под которой долго держится ил. В некоторых местах даже опасно переходить по этим обманчивым грунтам земли. Наиболее низменная часть кевира, на севере Иезда, по всей вероятности, не превышает 600 метров; но далее к юго-востоку, в сахаре Лута, впадина плато становится все глубже и глубже. В Дихи-Зеифе, на северо-востоке Кермана, Ханыков нашел, что почва выше морскаго уровня только на 380 метров: по его мнению, самая низменная точка будет, по всей вероятности, на абсолютной высоте 120 или 150 метров.

Трудно вычислить даже приблизительно, какова относительная величина этих бассейнов без водораздела между внешними покатостями Персии, которые обращены или на север—к Каспийскому морю, или на юг—к Персидскому заливу, или к Аравийскому морю. Прежнее пространство дна бассейнов, несомненно, изменилось в геологическую эпоху: прежняя река, когда она катила значительную массу воды, достигала моря, тогда как ныне она исчезает во внутреннем болоте; прежнее озеро, закрытое со всех сторон кругом возвышенностей, тогда изливалось на морской склон через трещину своей ограды. Подобные же изменения совершаются и в наше время из лета в лето: большая часть течений, достигающих моря во время половодья, останавливаются на дороге в период засух; тогда несколько сотен метров в секунду представляют все количество воды, которое с этой части материка возвращается к морю. Но если бы реки, служащие периодическими данницами Каспийского моря или Индийского океана, считались постоянными указателями внешней покатости Ирана, тогда пришлось бы отвести под эти области течений немного более одной трети поверхности страны. Другие две трети Персии состоят из закрытых бассейнов, не имеющих сообщения ни с Каспийским морем, ни с океаном.
Небольшие реки, которые спускаются с Эльбурса и затем вливаются в Каспийское море—единственные, которые по сходству бассейна могут сравниться с реками западной Европы. Когда Атрек и Гюрген достигают моря, в них остаются только медленно текущие и болотистые воды. Что касается до Сефид-руда, который изливает более значительное количество воды, то он недостаточно глубок, чтоб служить для настоящего судоходства, и различные попытки для перевозки товаров этим путем не имели никакого успеха. Персидский залив не принимает в себя ни одной реки, которая не была бы переходима в брод, во всякое время года, и которая не отделялась бы от моря песчаной стрелкой во время лета. Его главные притоки: Джеррахи, Хиндиан или Зорех, Шемс-и-Араб, а южнее поток, носящий название Сефид-руда или «Белой реки», равно как и течение Азербейджана,—не более, как простые потоки. Но все же Персия имеет реку, судоходную вплоть до моря: это—Карун или Куран, образовавшуюся из потоков северной Сузианы и южного Луристана. Но эта река изливает только весьма небольшую часть своих вод прямо в залив: искусственный канал отвел ее к Шат-ель-Арабу, и в настоящее время она стала только притоком большой реки, подобно рекам верховья, Джиале и Керке, берущим свое начало в западной Персии. Карун должен был бы служить главным путем доступа в плато для перевозки товаров, отправляемых чрез Персидский залив, так как он имеет более метра глубины во всякое время и пароходы могут подниматься по нем в 250-ти километрах от его устья. На всем этом протяжении его течения существует только единственное препятствие, составляемое порогом песчаных скал, близ древнего большого города Ахваза. В этом месте холмы, или вернее глыбы песчаника, достигающие почти до ста метров в высоту, которые издали можно принять за здания, воздвигнутые рукой человека,—съуживают долину; река входит в ущелье и спускается порогами между выступами скал, идущими в одну линию параллельными остриями к оси персидских гор. Уже более полвека прошло с тех пор, когда в 1836 году, англичанин Эсткур поднимался по Каруну на пароходе вплоть до утесов Ахваза; шесть лет позже, Зельби преодолел препятствие и остановился в 2-х километрах от низовья Шустера. Канал Аб-и-Гаргар, к западу от главной реки, между Шустером и устьем Дизфуля, представляет еще более удобств для навигации, и в продолжение двух месяцев в году Дизфуль судоходен на всем протяжении, вплоть до города того же имени. Итак, целая сеть речных путей могла бы существовать в этой области Персии, особенно если б прорыли, как предлагали инженеры, канал около 2-х километров длиною, для обхода Ахваза. По мнению Дьелафуа, достаточно было бы исправить плотину и шлюзы Ахваза, чтоб пароходы вместимостью в 600 тонн и в 120 лошадиных сил могли доходить до Шустера.
Воды, текущие к внутренним бассейнам, пропорционально гораздо менее обильны, чем воды морских склонов. Доказательством этого служит высыхание бесчисленных плоскогорий плато, влажность которого испарилась или исчезает в иле соляных болот. Русло реки, спускающейся с Кузских гор, на юге входит в пустыню Лута и проходит на всем протяжении страну пустынь. Но с тех пор, как существуют люди, русло это никогда не было наполнено водою: даже в дождливые годы течение никогда не превышает уровня пашней, а тем не менее русло это глубоко прорыто в почве долгим и постоянным действием древнего течения. В этом и заключается одна из многочисленных причин переменного климата на иранском плато; по преданию, море громадной пустыни изсякло в один день, как родился Магомет. Ныне количество дождя весьма незначительно во всей Персии, за исключением северных покатостей Эльбурса, и еще меньшее по количеству в областях плато; в среднем, количество дождя не превышает, ежегодно, высоты 25-ти сантиметров, а в центральной Персии, равно как на границе Белуджистана, оно еще вдвое меньше. Причина такой бедности Персии в облаках и дождях та же, что и в странах, лежащих более к востоку: происхождение ветров чисто континентальное. Тогда как оба большие морские бассейна, откуда идут ливни, с одной стороны Индийский океан, с другой Средиземное море, находятся на юго-западе и на западе, воздушные течения, ведущие борьбу из-за равновесия и проходящие одни за другими по персидской территории, суть ветры юго-восточный, который проходит по Африке и Аравии, и северо-восточный, который должен пройти по материку, почти во всем его диаметре, от полярной Сибири к степям Туркестана: это тот грозный ветер, который дует «сто двадцать дней» в некоторых областях Персии, именно в Сеистане, с такой силой что вырывает деревья с корнями из земли: должно быть, в этой ветряной стране изобретены и ветряные мельницы. Тотчас после уборки хлеба, крылья из камыша и из пальмовых листьев прикрепляются к концу цилиндра внутри какой-нибудь башни, открытой со стороны северо-востока, где завывает ветер; от сильного давления воздуха цилиндр начинает вертеться, а вместе с ним и основной жернов.
Воздух, покоющийся на иранских плато, чрезвычайно сухой. Он пересекается такими же сухими ветрами, идущими от экватора или от полюса. В пустыне Лут Ханыков нашел, что относительная влажность воздуха была только 1,2 на сто; это—самая сильная степень сухости, которая где-либо встречалась на всей поверхности земли. В Кирмане, среди пашней, она еще колеблется от 16 до 20-и сотых. Летом и осенью воздух так сух, даже в западной Персии, что металлические вещи, оставляемые на террасах во время ночного холода, остаются блестящими в продолжение целых месяцев. Иногда во время ночных переездов случается видеть, как лошади, махая хвостом, выпускают целые снопы искр. В июле месяце случалось видеть термометр, показывающий только 13 градусов до восхода зари, и поднявшийся до 62 градусов на солнце в восемь часов утра. Иногда воздух затемняется «сухими туманами», во время которых не осаждается ни пыли, ни росы. Пыльные бури—почти ежедневное явление; обыкновенно они начинаются между девятью и одиннадцатью часами утра, в зависимости от солнечного жара, и постоянно увеличиваются и числом и объемом к двум часам по полудни. Иногда образуются также большие облака пыли, граничащие с горизонтом, подобно стене. Летний жар здесь часто так силен, как в Сахаре в Африке: близ Мешеда запасы стеарина и сернокислой соли растапливались от жара, что допускает предполагать температуру в 65°,5 внутри ящиков, в которых они были запакованы. Ханыков предполагает, что самый горячий центр пустыни Лута имеет наклонность к югу изотермических линий всей северной Персии. В русском Туркестане эти линии весьма пространны; они, так сказать, жмутся к югу гор, идущих вдоль Хорассана, вдоль которого проходит кривая изотермическая 12-и градусная линия. Теплотворное влияние Лутского плоскогорья чувствуется даже в Мазандеране, где растительность, в сравнении с прочими берегами Каспийского моря, имеет почти тропический характер. Ядовитый ветер бадех-самум, совсем лишенный водяной влаги, дующий иногда со стороны пустыни, главным образом близ прибрежья, в соседстве с Бендар-Аббасом, чрезвычайно страшит путешественников; они рассказывают, что задохнувшиеся от него люди быстро синеют и члены их отпадают.
После всего этого становится понятным, с каким непреодолимым рвением персидские земледельцы, по крайней мере те из них, которых угнетение не отвратило от труда, стараются уловить у спуска с гор малейшую струю воды, чтоб утилизировать ее в своих полях и садах, где она переходит в сок и в плоды. Подземные водопроводы, известные в Персии под названием канатов или канотов, так же, как и в Афганистане, роются с особенным благоговением, и содержатся они с большою заботливостью, так как жизнь всего народонаселения зависит от них. Когда подземные воды иссякают вследствие повсеместной засухи в стране, или вследствие обвалов, тогда целые деревни обречены на погибель. Возделывание земли возможно только в горных долинах, потому что в Персии дождей летом не бывает: там дожди выпадают обыкновенно зимой или весной; целое лето проходит так, что небо ни разу не нахмуривается грозовыми тучами. В летний сезон небольшое количество воды можно найти только в гористых областях, где таяние снегов питает подземные ключи; внизу гор почва вдвое суше, с одной стороны от солнечного жара, а с другой от осушки почвы подземными канатами. Как мало походит эта печальная, голая, сожженная солнцем Персия, вне её горных долин, на идеальную страну, воспетую Гафизом и Сади! Надо долго странствовать по плато и спуститься к плоскогорьям Тенгзира, прежде чем встретятся ароматные леса, полные певчих птиц, и свежие ручьи, текущие под кустами роз. Все эти чудеса—фантазия поэтов, искавших в своем воображении того, чего им не представляла природа. Знаменитый Банд-Эмир, воспетый поэтами Востока и Запада, как чудная река, текущая в прохладной тени,—не что иное, как канал, отведенный плотиной от небольшой речки, пересекающей равнину Персеполиса. Так драгоценны воды в этой бесплодной стране, что самое незатейливое водохранилище чествуется подобно озеру с чистой прозрачной водой, окруженному живописными утесами и тенистыми покатостями.
На северо-западе иранского плато, но уже в стране высоких армянских земель, находится самое большое водохранилище Персии, единственное, которое действительно заслуживает название озера: это—Дариатча или «Маленькое море», озеро Урмия, Марага или Арменистанское, над которым высится на востоке большой массив Сехенд. Острова озера, его мысы, гора, которой скалы погружаются в воду, грандиозный вид снежного Арарата, варьируют картины до бесконечности. Берега, орошаемые более обильными дождями, нежели в южной Персии, имеют много лесов; они также и менее пустынны: города, села, замки виднеются на всем пространстве берегов. Но «Маленькое море» далеко не представляет такой бездонной глубины, как озера центральной Европы: самая глубокая часть бассейна, измеренная Монтейтом, в северо-западной оконечности, достигает только 14-и метров. В среднем, вероятно, высота воды не превышает 5-и метров. И так, хотя озеро Урмия и занимает пространство около 4.000 квадр. километров, все же оно содержит воды от шести до восьми раз меньше чем Леман, который занимает весьма небольшое относительно пространство. Следует заметить, что у большого города Урмия озеро опускается от западного берега к восточному, следующими друг за другом пятью плато замечательной правильности: сначала лот показывает однообразно один метр, затем два с половиной и последовательно четыре, шесть и семь метров. В некоторых местах болотистые берега простираются далеко впадинами, едва погруженными в воду на несколько сантиметров. Более пятидесяти островов и каменных подводных рифов высятся над поверхностью воды. В числе островов есть три: Остров Лошадей, Остров Баранов и Остров Ослов, которые достаточно велики для того, чтобы прибрежные жители могли утилизировать их земли под пашню и под пастбища. Вода озера Урмия гораздо солонее и богаче йодом, нежели вода в море, и даже чем вода в Мертвом море; купальщики не могут в нее погружаться: их тело тотчас же покрывается слоем соли, которая блестит на солнце, как бриллиантовая пыль. По мнению Вагнера, ванны из этой соленой и йодистой воды могли бы быть единственными по своему целебному свойству при излечении некоторых болезней. Вода в океане содержит в себе только тридцатую часть солей, тогда как вода озера содержит в себе пятую часть соли. Как только подует ветер, на поверхности воды образуется пелена из соляной пены; на илистых берегах соль осаждается плитами в несколько дециметров толщиною, а в некоторых местах в пять и в шесть километров шириной. Жители страны могли бы сколько им угодно запастись солью, как в каменоломне; в местах, где доступ к берегу легок, они устроили солеварни, подобно солеварням на берегах Средиземного моря; но вообще жители предпочитают каменную соль с соседних гор, легче добываемую и гораздо более чистую. Никакая рыба, никакие молюски не живут в водах озера, но зато в них виднеются мириады скорлупняков (раковидные животные) с тонким хвостом, составляющих особую породу; они служат пищею лебедям и другим птицам, стаями опускающимся над озером. Там также встречаются породы насекомых, каких нигде нет, и специально соляная флора, выросшая на иле, окаймляющем берега, и которая делает всю окружность озера совершенно недоступной. Эти илистые массы, черноватые или темно-зеленые, имеющие иногда металлический отблеск и распространяющие зловонный запах, занимают широкую зону на берегу озера и простираются далеко над поверхностью его. Они заключают в себе магнезию, железо, равно как и большую дозу органических остатков. Маслянистые подонки этого вещества придают такую плотность жидкой поверхности, что даже во время самого сильного морского ветра, вода, ударяющаяся о берега, не вздымается волнами. Зимой эта полузастывшая масса превращается в какую-то кашу.
В многих местах обильные фонтаны бьют со дна озера, пересекая соляную массу своими столбами чистой воды; но наиболее замечательные источники текут близ берегов, на северо-западной стороне озера, в соседстве с равниной Зельмас, и на юго-востоке, неподалеку от деревни Дихкерган. Эти источники известны под названием «мраморных фонтанов». По общему убеждению туземцев, которое разделяется также большинством европейских путешественников, фонтаны эти действительно дают осадок мраморных слоев. Несомненно, им следует приписать образование тех залежей, которые разрабатывают в окрестностях Дихкергана, и которые доставили материал для великолепных дворцов Персии и Передней Азии. Этот «Тавризский» мрамор обыкновенно молочно-белого цвета, желтоватый или розоватый и имеет блеск кварца; часто он образует сцепление частиц подобно сталактитам, и окись, которую он в себе содержит, оттеняет его чрезвычайно красивыми цветами. Весьма вероятно, что мрамор этот стал осаждаться в эпоху, когда фонтаны, настоящая температура которых не превышает 18-ти градусов по стоградусному термометру, имели температуру, гораздо высшую; ныне они выбрасывают из себя небольшие, очень тонкия водяные струи белоснежного цвета, впрочем совершенно одинаковые по составу с соседним мрамором. Кроме того, источники дают осадок крупного туфа, который иногда смешивается с илом и сливается в черноватые массы. Большинство источников бьет из травертинских конусов, которые они образовали из своих же осадков. Когда отверстие, чрез которое бьют источники, засаривается, тогда они открывают новый для себя выход у подошв старинных холмов, или же пробивают где-нибудь, постепенно, еще новые выходы.
Уровень озера Урмия подвергался частым изменениям. По существующему туземному преданию, бассейн занимал в прежнее время гораздо большее пространство; но было также и такое время, когда размеры его были весьма незначительны: туземцы говорят, что страшное чудовище жило на дне озера, и что оно то выпивало, то выбрасывало из себя назад воды Мертвого моря. Что озеро было значительно больше в прежнее время, это подтверждает самый вид страны: прежние берега простираются далеко на значительное расстояние от нынешних берегов, на всем протяжении скал, ныне отдаленных от волн. Острова, каковы гора Шахи или вернее Шах-и-кух на северо-западе озера, близ Тавриза, превратились в полуострова, и эти полуострова со всех сторон примкнули к материку. Но, с другой стороны, озеро было в прежнее время довольно низко, так что один государь мифологических времен, Рустем или Джемшид, мог построить поперег южной части бассейна, между озером и противоположным берегом, плотину, служившую в одно и тоже время дорогой для людей и для экипажей. Множество туземцев уверяют, что они видели следы этого шоссе под прозрачной водой; в начале столетия один афшарский вождь, не зная другого способа перейти по озеру, шел по этой плотине, и нигде вода не была глубже четырех футов.
С тех пор как европейцы стали посещать страну, понижение уровня озера стало значительно, что объясняется тем фактом, что пашни расширились, утилизируя, следовательно, ирригационные воды более широким способом. Увеличение и уменьшение возделанной территории имеют непосредственное влияние на вместимость озерного бассейна, и, по всей вероятности, влияние это имеет больше значения, чем климатическое колебание с постоянными переходами от засухи к дождям. Когда береговые скаты покрываются обработанными полями, то воды, удерживаемые на пути каналами, не достигают озера; когда же эти скаты обезлюжены, то воды, ничем не задержанные, снова находят свой путь и увеличивают озерной бассейн. Таким образом, изменение береговой линии указывает на колебание самой истории относительно прибрежных жителей. Это явление аналогично с тем, какое описали Гумбольдт и Буссенго об озере Тикарагу или Валенсии; но на берегах Азербейджанского озера последствия должны быть гораздо значительнее. Бассейн озера вплоть до водораздела, где берут начало все его притоки, превышает 50.000 квадр. километров, и масса дождевой воды, выпавшей в этой стране,—если б она даже в среднем была не более 25-ти сантиметров в год,—представляет полную массу, по крайней мере в десять миллиардов кубических метров, почти около половины количества воды, собранной в центральной впадине. Судя по отношению возделаемых земель к массе истекающей воды, очертания озера должны изменяться тем быстрее, потому что поверхность воды изменяется при малейшей разности. И если поверхность глубокого Лого-Маджиоре изменяется на сорок квадр. километров между периодом засухи и половодья, то можно судить о переменах, которые представляет поверхность озера Урмия, большая часть которого не что иное, как болото. Очевидно, судоходство не может иметь значения на этом бассейне, не имеющем глубины; но все же несколько парусных судов плавают в отдаленных местах малой глубины; перевозка товаров и весьма немногих путешественников производится на плотах. В 1838 году, дядя шаха приказал назначить себя главным адмиралом озера, и, прежде всего, чтоб удержать за собою монополию судоходства, он начал захватывать и уничтожать все суда, принадлежащие частным лицам.
В озеро Урмия впадает множество рек, из которых главнейшая Джагату, текущая с южных гор. Один из главных притоков, Сарук, получает часть своих вод из колодца в 300 шагах от башни, которая высится на вершине известкового холма, называемого, как и множество других, Тахт-и-Сулейман или «Соломонов трон». Без сомнения, эта небольшая гора овальной формы, около 50-ти метров высоты, постепенно образовалась от самых вод, которые осаждали пласты травертина вокруг своего устья. Колодезь имеет совершенно такую же глубину, как и пласты травертина; но источник находится совсем не на дне этой бездны: сперва он должен наполнить обширные водоемы в горах, потому что, как бы ни были значительны займы воды, делаемые из колодца от холма для ирригации окрестной равнины, уровень озера остается всегда на одной и той же точке. Груды окаменелостей, приносимых в проход каналов, отведенных от большого источника, высятся там и сям вокруг Соломонова трона; между этими окаменелостями есть одна, имеющая фигуру дракона, о которой легенда говорит, что это было действительно чудовище, превращенное в камень сыном Давида. На западе есть другая подобная гора, называемая Зиндан-и-Сулейман или «Соломонова темница»; она поднимается на высоту более 60-ти метров, в сравнении с холмом нынешнего колодца, но происхождения с ним одинакового. Гора эта также образовалась из окаменелостей вод, но посреди её конуса находится вертикальный колодезь «темница», в которую Соломон запирал провинившихся духов. Оттуда в прежнее время била углекислая известковая вода; но ныне пучина опустела: вода из неё вырвалась чрез выход в скалах. Со всех сторон вокруг обоих колодцев бьют фонтаны минеральных и теплых вод, кисловатых, серных и известковых.
Бассейн, в который изливаются сточные воды канала Банд-Эмира, озера Нириса или Бактегана,—единственный во всей южной Персии, который мог бы лучше всех сравниться с озером, не по глубине, но по пространству водяной поверхности. Он простирается на юго-восток от древнего Персеполиса, между двумя рядами параллельных гор, на расстоянии около ста километров, перерезанный островами и мысами на множество второстепенных бассейнов, но также разветвляясь на извилистые рукава в боковых равнинах и соединяясь, посредством двух проливов, со вторым водохранилищем Тахтом или Наргисом, лежащим по другую сторону северных гор. Илистые и торфяные ямы протягивают его на север к Персеполису, в равнину Мерва. Вода в нем соленая, как в маленьком озере Дериах-и-Немек, которое лежит параллельно с ним, в равнине Шираза, и иногда в конце лета там можно видеть плавающими глыбы соли, подобно льдинам полярных морей. Известковые горы, отражающиеся в синей воде, развалины, высящиеся на скалах берега, из которых одну туземцы считают древним храмом огнепоклонников, тамарисы по берегам и ивы в прибрежных долинах, фламинго и утки, летающие стаями над водой, придают необыкновенную прелесть пейзажам Нириса. Но на самом деле это не что иное, как постоянный разлив; на сотни метров от берега вода не доходит до колен, а ил, поднимаемый ногами, распространяет удушливый запах. Замечательный факт, что древние писатели не упоминают об этом озере, находящемся в одной из наиболее известных и наиболее процветавших в торговом отношении стран древнего мира. Ибн-Гокаль первый упоминает об этом озере в десятом веке, и с тех пор все географы о нем упоминали. Весьма вероятно, что в прежнее время, когда страна была богата городами и пашнями, воды, вырывающиеся из горных ущелий, утилизировались до последней капли: не оставалось ничего для стоячих болот в залитой ныне равнине. Когда даже какой-нибудь поток извивался в глубине долины, достаточно было легкого возвышения почвы, обвала, или образования ската из наносных земель в нижней части бассейна, чтобы создать озеро.
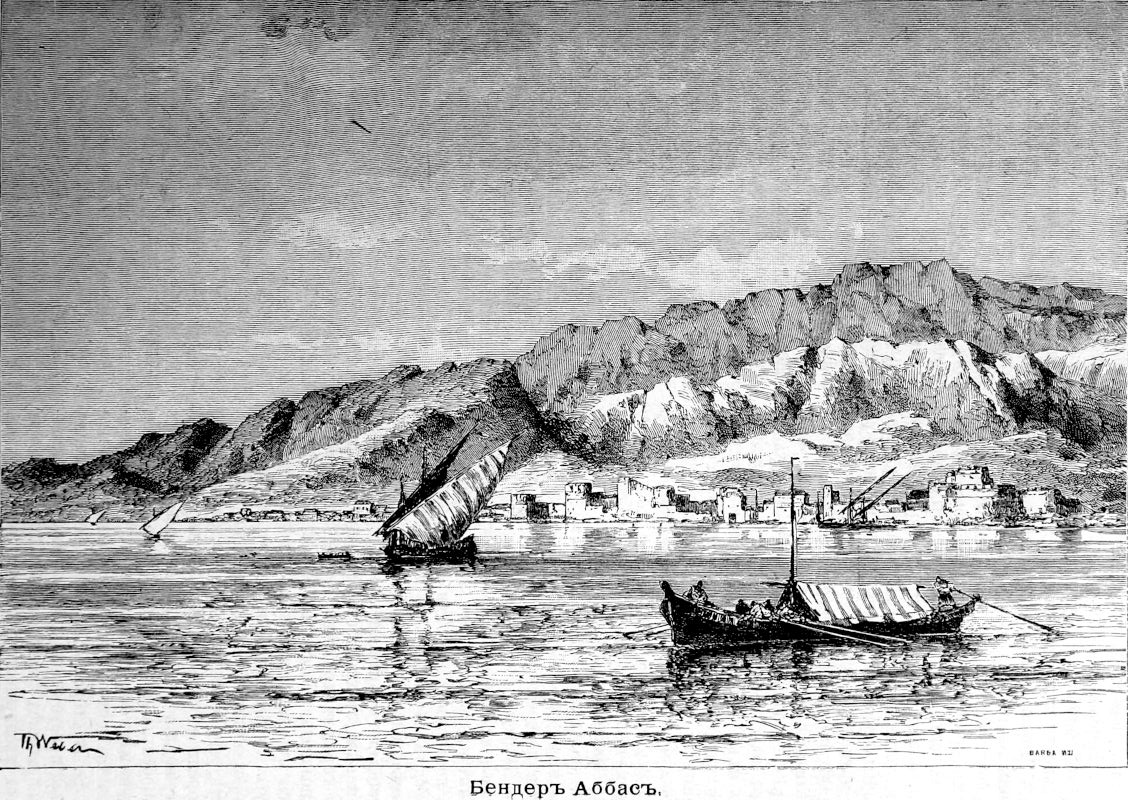
Как место перехода между востоком Азии и странами Запада, Персия естественно обладает, по своему географическому положению, по своей влажности, по специальному климату своих различных областей,—холодному на плато и жаркому на побережье Индийского океана,—растительным и животным царствами, тождественными с туркменскими землями, с Афганистаном, Аравией и Кавказом. Персия—страна контрастов. Леса Гиляна и Мазандерана с их деревьями, окруженными лианами, и с цветущим дерном на их прогалинах, кажутся принадлежащими к другому миру, нежели соляные плато, где местами проглядывает низкий кустарник сероватого цвета. Там, даже в доисторические времена, не было никаких лесов; земледельцу не приходилось обезлесивать почву, как во многих других странах; напротив, благодаря его искусству, фруктовые сады окружают города своим зеленым поясом. Даже рассматривая только плодородные области Персии, увидим, что они представляют странное различие по отношению к флоре, потому что все эти области, отличающиеся плодородием почвы, в то же время области гористые, и растительная поверхность видоизменяется сообразно с повышением почвы и долготою места. Все высоты подобны островам, которых вершины обитаемы породами животных холодных стран. Неровность почвы наделяет страну островной флорой, и определить границы растительности можно только приблизительно. На севере Персии рожь произрастает до 2.720 метров на покатостях гор; засеянные рисом поля занимают лощины по соседству с озером Урмия на высоте более 1.250 метров. В этой части Азербейджана фиговые деревья редки: они растут только в закрытых местах, тогда как виноград растет на скатах Эльвенда, на высоте 2.278 метров; но зато магнолии и камелии, растущие в сыром климате британских островов, совсем не встречаются в Персии при одинаковой температуре. Пальмовые деревья культивируются только в низменных долинах, идущих вдоль их горных хребтов, и на юго-востоке плато вплоть до северной части Теббеса, до границ пустыни; но они снова встречаются на севере, на берегах Каспийского моря, и главным образом в садах Сари. По словам местного предания, все каспийское побережье Мазандерана еще недавно покрывалось тенью пальм, ныне замененных другими древесными породами. В среднем, если каспийское побережье считать отдельной страной, флора Персии несравненно беднее флоры Закавказья и Западной Европы. Будет поэтическим преувеличением, если мы будем вторить пословице: «В Фарзистане нельзя сделать шага, чтоб не наступить на цветы!»
Замечательный характер единства, какой представляет иранское плато, так плотно окруженное с трех сторон идущими вдоль него горными хребтами, могло бы заставить предполагать, что фауна Персии резко отличается от примыкающих к ней стран. Ничуть не бывало. Персидская фауна так мало отличается от фауны пограничных стран, что можно думать, что она недавно водворена в Персии. Несомненно, причиной тому—недавнее обсыхание страны. Но так как обсохла только окружность, то оттуда мало-по-малу породы животных стали подвигаться к центру, по мере того, как исчезли воды. В горах, на плато, в пустынях Ирана, простирающихся на запад Афганистана, водятся также стада серн и диких ослов, леопардов, кабанов, медведей, волков и лисиц. Иранский Белуджистан походит на Келат, и, по обеим сторонам границы, Мекран представляет те же породы животных, но в меньшем количестве. Западная Персия, на своих внешних покатостях, имеет фауну Месопотамии, фауну Курдистана в своих долинах, и фауну плато на своих скалах и в своих кевирах. Наконец, орошаемые страны северо-запада, равнины Азербейджана и особенно северные покатости Эльбурса принадлежат, как животным царством, их населяющим, так равно и видом своей растительности, к одному поясу с Арменией и нижним Кавказом. Вершины изолированных гор, каковы Сехенд и Савалан, имеют не только одинаковую с Кавказом флору, но там водится также множество пород зверей, которые попадаются только за Араксом; кроме того, там встречаются различные породы бабочек. Существует такого рода легенда, в основе которой, может быть, лежит частица правды, что в прежнее время леса Мазандерана были населены слонами, которые были истреблены Рустемом. Своим климатом, своими флорой и фауной, равно как и многими обычаями своих жителей, эта низменная страна походит на одну долину Индии. Дикие быки, на которых охотились ассирийские государи в горах Курдистана, перестали там водиться; но лев без гривы, менее сильный, чем африканский лев, удержался в долинах гор, идущих вдоль иранского плато и равнин Тигра; он часто попадается на западе Ширазских гор, в дубовых лесах, где обилие желудей способствует размножению кабанов. Тигр также водится в лесах Мазандерана. Дикая коза, как известно, принадлежит к разряду животных, наиболее свойственных гористым странам; она водится на всем пространстве, начиная от Буширских гор, на высоте 500 метров, вплоть до высоких гребней Эльбурса, на высоте 4.000 метров. Из мелких животных тщетно предполагали встретить на плато крысу, родиной которой древние естествоиспытатели считали Персию: она попадается только на берегах Каспийского моря, куда завезена на кораблях. Вообще персидская фауна бедна породами; но пресмыкающиеся, особенно ящерицы африканского типа, представляются во множестве видов. Рыбы не могут водиться в большом количестве, вследствие ежегодного высыхания рек; только в подземных течениях канатов попадается большинство рыбных пород, из которых многие хотя и привыкли к этим темным подземным водам, но лишились зрительных органов. Улиток и других молюсков совсем нет, несомненно, по причине сухости страны.
Что касается домашних животных, то Персия, по крайней мере в отношений лошадей, может быть причислена к странам, обладающим самыми красивыми породами. В городах, смежных с Туркестаном, лошадь арабского происхождения приняла формы, делающие ее удивительно похожей на английскую скаковую лошадь, но при этом обладающей необыкновенной выносливостью. Курдские лошади ростом меньше хорассанских лошадей, но гораздо грациознее их и не менее горячия: «лошадь самого беднейшего курда была бы замечена в Европе королевскими конскими заводами». Во многих конюшнях в Фарсистане существует обычай ставить лошадей вместе с поросятами, и самая тесная дружба завязывается между этими животными, столь разнящимися друг от друга. Верблюды Хорассана и Сеистана чрезвычайно ценятся, и сильные животные этой породы поднимают, не надрываясь, тяжести в 250 килограммов, тогда как верблюды в караванах перевозят тяжести, весом от 50 и до 75 килограммов. Бараны, как и все прочие из них во всех степных странах, принадлежат к породе баранов с толстыми курдюками; в некоторых округах они достигают огромного роста и дают шерсть редкую по своей тонкости. Между различными породами собак, есть одна очень некрасивая, но отличающаяся замечательной неутомимостью, и обязанность которой состоит в сопровождении караванов. Собаки эти бегут и возвращаются от одной станции к другой, беспрестанно меняя своих спутников и служа им всем с одинаковою верностью. У персов есть также порода борзых тази, необыкновенно изящная и превосходящая европейские породы быстротой бега. Местные охотники умеют еще дрессировать различные породы соколов.
Как флора и фауна, так и народности, весьма различные по происхождению, встретились на территории Ирана. Одни из них сохранили свой отличительный характер, другие перемешались в новый тип. Главнейшие этнические элементы страны суть: собственно иранцы, тюрко-татары, курды и арабы.
Ядро персидского населения обитает в южной части плато, от Кирмана до Керманшаха, и одна из провинций этой области носит даже специальное название Фарса или Фарсистана, т.е. «Страны Фарси» или Персов; общее же название для целой расы заключается в слове Ирани. Взятые в массе, персы из всех народов, населяющих земной шар, наиболее приближаются к тому типу красоты, какой создали себе европейцы. Хорошо сложенные, они изящны и стройны, отличаются благородной осанкой и широкой грудью; у большинства из них черты лица правильные, овал лица окаймлен черными вьющимися волосами; но привычка носить высокие шерстяные колпаки или меховые шапки делает почти всех мужчин плешивыми. Глаза почти всегда черные за исключением разве жителей Фарсистана, большие и глубоко прорезанные; брови дугообразные, иногда сходятся вместе над переносьем, а у женщин кисть помогает природе соединить обе дуги бровей; ресницы длинные и опущенные; нос слегка орлиный, рот небольшой, губы средней толщины; подбородок редко бывает слишком широким, у мужчин прячется под густой, шелковистой и волнистой бородой. Нет подобной страны, где школы представляли бы более восхитительное зрелище, как в Персии: можно залюбоваться этими смуглыми с черными локонами детьми, сидящими с поджатыми на коврах ногами и следящими за жестами их наставника с необыкновенной любознательностью, которая светится в их больших черных глазах. И сколько выражения в игре их подвижной физиономии!
Формой черепа иранцы занимают средину между семитами и афганцами. Но если считать типом настоящих персов гебров Иезда, от которых Ханыков вывез пять черепов, исследованных Байером, то по размеру черепного вместилища, персы наделены большими способностями. Череп их принадлежит к разряду долгоголовых; он ниже, чем у семитов, но выше, чем у туранцев; верхняя часть черепа приплюснута. Барельеф Дарабгерда, изображающий триумф Сапора над Валерианом в 260 году по общенародному летосчислению, изображает персов и римлян; по тем, у которых головы голые, можно констатировать, что черепа персов были тогда, как и в наше время, относительно длинные, мало возвышенные и плоские в верхней части. Вообще у иранцев адамово яблоко едва выдается, кости тоньше, чем у большинства европейцев, и суставы чрезвычайно тонкие. Руки и ноги маленькия и гибкия. Трудно встретить людей, лучше персов в ходьбе: иностранные инструкторы, назначенные правительством для обучения армии, удивлялись переходам, которые могут делать персидские войска без видимого утомления. Они также были не мало поражены тем фактом, что весьма небольшое число людей не достигают или едва превышают среднюю норму роста, которая составляет около 1 м. 50: в этом отношении гораздо менее разнообразия, чем в Европе. Между персами чрезвычайно редко встречаются тучные люди. Врач Полак, много лет проживший в Персии, видел только трех иранцев, которых толщина была бы замечена в Европе. В прежнее время татуирование было общераспространено между женщинами: все они разрисовывали себе подбородок, шею, грудь и живот. Обычай этот исчез из городов и становится все более и более редким в деревнях западной Персии, но в провинции Кирмана и Белуджистане татуирование до сих пор еще в обычае. Другой общепринятый обычай в некоторых округах Персии, который входит иногда в религиозные церемонии, это—употребление в пищу земли. Так, неподалеку от Реи, древнего Рагеса, находится мечеть, в которую имеют право входить только одни женщины, под которой земля состоит из обломков скал серого и желтого цвета, и вся она изгрызана зубами правоверных. Но этот столь распространенный обычай «землеядения» происходит от извращенного вкуса: почти на всех базарах в больших городах продаются шары из каолина (фарфоровой глины) или белой глины, не столь крупной, как обыкновенная глина, предназначаемой для удовлетворения подобного вкуса. Старинный персидский обычай, еще сохранившийся в некоторых деревнях,—это кровопускание при каждом новолунии: от этого такой бледно-мертвенный цвет лица у жителей, который заставлял предполагать многих путешественников, что страна эта из самых зловредных для здоровья.
Самый чистокровный персидский тип сохранился, по всей вероятности, в областях восточных и центральных страны и в горных долинах, как именно и предполагалось до более подробного изучения страны, на основании того факта, что иноземные вторжения, переселения, миролюбивые смешения с другими народностями, происходили главным образом в плодородных западных областях, а жители оазисов, охраняемые пустынями, равно как и жители верхних долин, защищаемые скалами, были реже других посещаемы чужеземцами. Так жители Каруда, в горах, высящихся между Кашаном и Испаганом, сохранили до сих пор горделивую осанку «спутников Кира» и говорят на языке, который считается родственным с наречием пельви. В других, более отдаленных местностях язык этот, бывший оффициальным иранским языком до победы арабов, также еще удержался. Халдейцы, курды, семиты всегда имели большое влияние в этой стране чрез смешение с персидскими народами Запада; при преемниках Александра и при Арзасидах, греческий или эллинский элемент стал также проявлять свое влияние. Позднее, владычество арабов имело последствием, что кровь семитов глубоко проникла во все слои иранского народа. Несколько тысячелетий тому назад негры чистокровные или смешанной расы, абиссинцы, сомали, чрез порты проникли в Персию силой или добровольно, и, может быть, некоторые округа Сузианы были в прежнее время владением народностей, приближавшихся к чернокожим и цветом лица, и происхождением. Самое название персидской провинции Кузистаном напоминает до сих пор о пребывании там этих древних кушитов, ныне смешавшихся с иранцами. Туркмены и другие татарские народы также принимали участие в постепенном обновлении этих народностей, которых они так часто порабощали. Наконец, привоз тысячей тысяч грузинских и черкесских невольниц в течение почти трехсот лет, вплоть до завоевания Тифлиса русскими, в начале нынешнего столетия, несомненно имел огромное значение, по крайней мере в северо-западной части Персии, на улучшение расы. В свою очередь персы распространились далеко за пределы своего отечества: известно, что под именем татов и талишей они живут в Закавказье в числе почти 120.000, и что в Хорассане, Афганистане, Транеоксиене они во многих местах, составляют основу оседлого населения: там они называются сартами, таджиками, парзиванами.
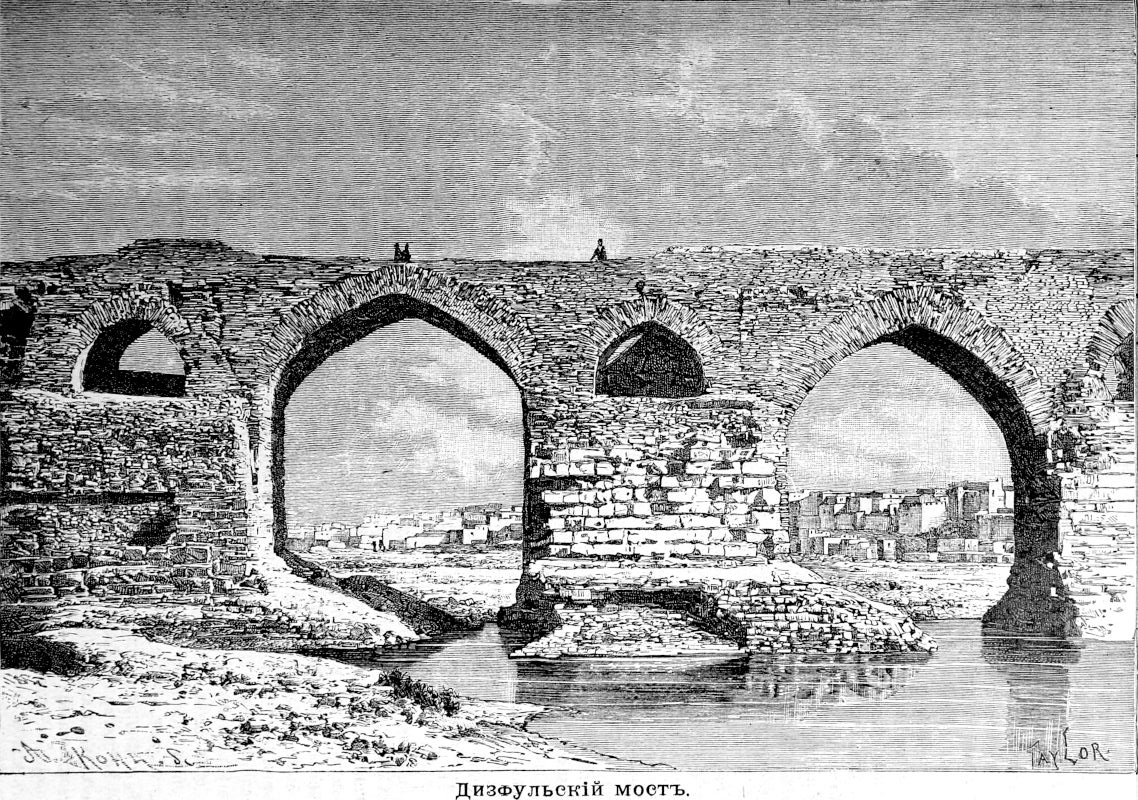
Персы могут считаться не только одним из самых красивых народов земного шара, но и одним из наиболее интеллигентных. Необыкновенная быстрота понимания, остроумие, поэтический склад ума, редкая сила памяти, все это приводит в изумление европейцев; но слишком одаренные от природы, персы не считают необходимым развивать свой ум: они обладают, так сказать, неустойчивым умом; они не стараются углубляться в предмет, раз понятый ими. Наследники вековой цивилизации, персы, вполне сознавая свое интеллектуальное превосходство над соседними народами, к несчастью, стоят гораздо ниже их в отношении мужества: арабы, курды, турки и туркмены, афганцы, белуджистанцы всегда одерживали верх над ними и во время войн, и во время местных восстаний, и страна их управляется государем иноземного происхождения, наследником других воинственных династий. Лишенные свободы, которая одна могла возродить их цивилизацию, воскресить их творческую силу, иранцы вынуждены жить своим прошедшим, свято соблюдая старинные традиции. Относительно вежливости они так же щепетильны, как японцы и китайцы: в самой глухой деревушке, если только тому не препятствуют исключительные обстоятельства, вызванные религиозным фанатизмом, как напр. приближение врага или сборщика податей, население чрезвычайно вежливо встречает иностранца. Ни в какой другой стране мира высшее искусство «вставать и садиться» не практикуется с такою грациею, как здесь. Искусно наблюдая за малейшим своим движением, за малейшим изменением в чертах лица, персиянин зрелых лет представляет резкий контраст с детьми своей расы, в большинстве столь живыми и игривыми. Он любит говорить, любит давать простор своим мыслям, изливать свое природное красноречие; но вместе с тем отлично умеет напускать на себя важность, если это для него представляет выгоду; умеет и казаться скромным, умеет различать в социальной иерархии низших, равных себе и высших всех рангов: в уменьи держать себя с посторонними, он не знает соперников, и перед властелином готов каждую минуту гнуть шею, как бы приглашая перерезать ее. В разговоре он умеет вставлять пословицы и произведения поэтов, подходящие к его положению и к его интересам, и, без заметного усилия, может направить мысли своего собеседника на предмет, которого он желает коснуться. «С голубем по-голубиному, с соколом по-соколиному», говорит перс, чтоб объяснить свою манеру вести разговор, постоянными увертками, соображаясь с собеседником. Какая разница между нынешним парси, пропитанным ложью, благодаря вековому рабству, и прежним свободным персом, сыном «Чистого Ирана», который, «считал ложь величайшим бесчестием!» Так как прямодушие неизбежно выдало бы крестьянина в руки его притеснителей, то хитрость и лукавство в этом классе людей переходит от отца к сыну и часто спасает их от разорения: любая европейская деревня, где подати были бы так велики, как в Персии, в первый же год погибла бы с голоду; но иранский земледелец, как его ни теснят, все же умудряется кое-как кормиться и возделывать свои поля. Ловкие люди, употребляющие свои способности не для одной самозащиты, но также и для прокладывания себе дороги в свете, становятся опасными своими ухищрениями, интригами и ложью, направленными почти всегда на служение корыстолюбию. Один из весьма распространенных типов в Персии—фузули, которые не останавливаются ни перед какой низостью ради «мамона»: это—субъекты, являющиеся перед европейцами в качестве прислуги, управляющих, курьеров или простых советчиков, которые своими пороками кладут клеймо позора на свою нацию. Впрочем, какие поразительные контрасты встречаются в одном и в другом конце. Права, между мужественным и храбрым талишем и жителем Кашана, которого все презирают за подлость, между изящным, благородным ширази, которого глаза блещут умом, и грубым земледельцем Мазандерана, которого называют ябу, так же, как ломовую лошадь!
В первые века истории, южная часть иранского плато была обитаема арийцами, а в другой части жили мидийцы, «аллофилы» туранские, говорившие на своем собственном языке, хотя они и состояли в повиновении у арийской касты, подобно персидской нации. Страна эта еще и по сие время разделена между двумя расами, потомками древних народов с большей или меньшей примесью, и, по всей вероятности, языческое разделение мало изменилось. Группа тюрков и туркмен, идущая вслед за иранцами по степени своей численности, представляет расу победителей, но, подобно манджурам в Китае, подчиняется влиянию покоренной ими расы. Правда, тюрки располагают оффициально властью, и армия почти вся целиком вербуется из их рядов; но персы заявляют себя более с умственной стороны: они завладели мануфактурной промышленностью, заведуют делами, одним словом, составляют цивилизованную часть нации. В сравнении с иранцами, тюрко-татары Персии имеют череп менее продолговатый, лицо менее овальное, черты лица менее выразительные, глаза меньше, нос толще, челюсть более широкую и более твердую. Вообще они выше ростом и крепче телосложением; рядом с персами они кажутся неповоротливыми и неуклюжими. Но также они и менее хитры; и часто перс получает обратно то, что они у него раньше отняли силой. Впрочем, они презирают прежних властителей страны, и в округах исключительно персидских они бы по первому слову начальников предали города огню и мечу. Несмотря на общее происхождение, эти тюрки Персии сражались всегда с особенной яростью против османлисов; сектантская ненависть более отдаляет их от анатолийцев, нежели разноплеменность от персидских сограждан-шиитов, как и они сами. Наречие их немногим отличается от языка османлисов, только выговор у них несколько жестче: тюрки Малой Азии и тюрки Персии понимают друг друга. Между тюрками Малой Азии мало таких, которые не знают персидского языка, но редко говорят на нем хорошо. В первой половине столетия, придворным языком был тюркский, но в наше время язык при дворе персидский.
Тюркское племя, которое ныне занимает первое место в государстве это—племя каджаров, защищавшее переход через Атрек и глава которого вступил в управление государством Ирана. Тем не менее, он сохранил гордость иноземной расы: на монетах шаха персидского, в то же время хана тюркского, чеканится до сих пор, вследствие его происхождения, его каджарский титул. Афшары, которые обладали в прежнее время численным превосходством и из племени которых родился победоносный вождь Надир-шах, «Сын Меча», остались и теперь наиболее многочисленным племенем: в начале столетия их различные племена состояли из 88.000 семейств. Карагезлю из Гамадана, шах-севены из Ардебиля принадлежат также к могущественным народцам, и последние имеют преимущество поставлять шаху сто голямов или телохранителей. Области, в которых преобладает тюрко-татарский элемент,—разумеется, северные и северо-западные, ближайшие к месту их родины. В Азербейджане почти все сельские жители состоят из тюрко-татар, и вплоть до самого центра Персии они встречаются многочисленными колониями. Некоторые орды туркменов, кашкаи, пришедшие в страну в эпоху Чингис хана, кочуют в окрестностях Шираза, Форга и Таруна, к юго-западу от Ирана и, как говорят, настолько многочисленны, что могут, в случае надобности, сформировать армию в тридцать тысяч всадников. В прежнее время эти племена были из наиболее грозных. Каждый туркмен считал себя в праве проливать кровь человека, который был ему не по вкусу. Наибольшая дань уважения, какую он мог выразить своему соотечественнику, заключалась в том, что он подносил ему пролитую им кровь со словами: «Смотри на эту кровь, как будто она пролита тобой! Я изливаю ее на твою голову!».

В гористых восточных иранских областях, переселенцы тюркской расы принадлежат к тем туркменским племенам, которые с первых времен писанной истории ведут постоянные войны с жителями плато. Известно, что до изгнания оттуда текинцев и до покорения их страны русскими, персы и туркмены постоянно враждовали из-за пастбищ на горах, идущих вдоль их границы, и особенно из-за верхняго течения источников, питавших ирригационные каналы. Редко иранцы играли блистательную роль в этих сражениях. Случалось, что, при виде нападающих, хорассанские персы, потомки парфян, заставлявших дрожать римские легионы, бросали оружие, позволяли связывать себе руки, даже сами связывали своих товарищей, хотя и знали, что им предстоит рабство, более тяжкое, чем смерть. В свою очередь персидские правители также захватывали в плен, но только тогда, когда они, располагая значительными силами, могли сделать внезапное нападение на изолированное туркменское кочевье. Обыкновенно, мирные земледельцы плато, за неимением другого убежища, прятались в укрепленных башнях, которых десятки тысяч высятся среди полей в пограничной стране. Они давали промчаться, подобно урагану, грозным всадникам; затем, выйдя из своих убежищ, снова отправлялись в деревни посмотреть, что им оставили туркмены, и сосчитать число павших. Когда одна из таких крепостей попадала в руки туркмен, жители страны непременно разрушали ее, чтоб взамен её построить новую, в надежде, что она не подвергнется горькой участи своей предшественницы.
Конечно, грабители, пришедшие из равнины, могли без труда поселиться на завоеванных высотах; но их бродяжнический образ жизни, их разбойничьи нравы постоянно тянули их в низменные страны, соседния с пустыней. Все же некоторые из этих племен удержали за собой завоеванную землю: одни для того, чтобы продолжать там кочевую жизнь на зимних и летних пастбищах, другие—чтоб основать там оседлые деревни и заняться земледелием. В Мазандеране, на северном склоне Эльбурса, равно как и на юге Атрека и в Хорассане вплоть до границ пустыни, попадаются кочевья и деревни туркмен, потомков степных всадников. И ныне переселение продолжается, но в миролюбивой форме: невольничьи рынки и в Хиве и в Бухаре закрыты, война прекратилась на границах, охраняемых русским караулом, и, сделавшись бесполезными, укрепленные башни в горах, идущих вдоль границы, превратились в развалины.
Народы курдского племени, населяющие северо-запад и запад персидской территории, походят на туркмен храбростью и воинственными нравами, но происхождением принадлежат к другой расе. Занимая в Персии, в русском Закавказье и в турецкой Армении почти все вершины горного хребта и рассеянные вокруг этого центрального массива многочисленные архипелаги и островки, курды совсем не сплочиваются в нацию; но именно на турецкой территории их гораздо больше, и там живут их могущественные племена, вполне сознающие свое политическое значение. Курды, живущие в горах Заба, по берегам Тигра и Евфрата, вне пределов Персии, образуют точку опоры целой расы, за исключением тех племен, которых иранское правительство силой водворило близ Персидского залива, в горах, идущих вдоль Копет-дага, или же среди юго-восточных белуджистанцев. Есть также народности, которые следует считать принадлежащими к языческой группе курдов, хотя они и носят иное название. Таковы луры, по имени которых названа провинция Луристаном, заселяющие долины верхнего бассейна Керки; их именем называют иногда всех кочевников Персии. Язык луров значительно разнится от языка курдов и составляет самостоятельное наречие; они считали бы себя очень оскорбленными, если бы их стали смешивать с курдами, которых они чаще всего называют леками. Те, как аборигены, позднее перешли в магометанство, тогда как луры с самого возникновения ислама, приняли веру победителей-арабов. Их главное племя, которое в то же время имеет наибольшее значение в целой Персии, благодаря сплоченности своих кланов—это племя феили, обитающее в верхнем бассейне Каруна, у верховьев Шустера и Дпзфуля. По словам Морье, он состоит из ста тысяч кибиток; политическое устройство его чисто феодальное. Некоторые кланы луров носят звериные прозвища, подобно племенам краснокожих: они называют себя Воронами, Желтоногими, Волчьими Ногами.
Племена, которые, одновременно с курдами и лурами, лучше всех сохранили свой тип и свои обычаи, это—бахтиары, т.е. «Счастливые» или «Доблестные» жители Луристана и Сузианы. По мнению некоторых ученых, они-то и есть истинные курды; но язык их не походит на персидский. В физическом отношении они также отличаются иными чертами лица. По словам Дюгуссе, который командовал целым полком бахтиаров, люди этой расы, изо всех иранцев, имеют форму черепа наиболее круглую (brachycephale). Коренастые, сильные, мускулистые, как курды, они все вообще смуглолицы, волосы у них черные, волнистые, глаза оттеняются густыми ресницами, нос толстый и орлиный, опускающийся до губы, подбородок четырехугольный, скулы выдающиеся вперед. Даже несмотря на их пастушеский костюм, в них виднеются солдаты, и поразительно их сходство с фигурами, изображенными на сассанидских монетах. Бахтиары, как и прочия пастушеские племена, летом кочуют в кибитках, на пастбищах, отведенных им обычаем, или же захваченных силой; зимой они живут в маленьких деревушках равнины или на нижних склонах гор. Бахтиары делятся на две больших группы, на хафт-ленгов или «Семиногих» и чагар-ленгов или «Четырехногих», названных так по количеству их налогов, подразделяясь на кланы или тирга, на группы семейные, патриархально управляемые вождями, во главе которых состоит обыкновенно совет старцев. Некоторые племена считаются принадлежащими к дворянству, или вследствие генеалогии их вождей, или в силу их подвигов, или же богатств; а некоторые племена у других более могущественных племен состоят в вассальном отношении, и предание говорит, что они низшего происхождения, тюркского или персидского. Еще недавно бахтиары наводили страх своими разбойничьими нападениями и грабежами караванов, и. чтоб пройти из Шираза или Испагана в нижний бассейн Евфрата, путешественники всеми силами старались миновать их земли. Один из новейших ученых исследователей, Макензи, не побоялся им довериться, и не мог нахвалиться их ласковым приемом и их предупредительностью.
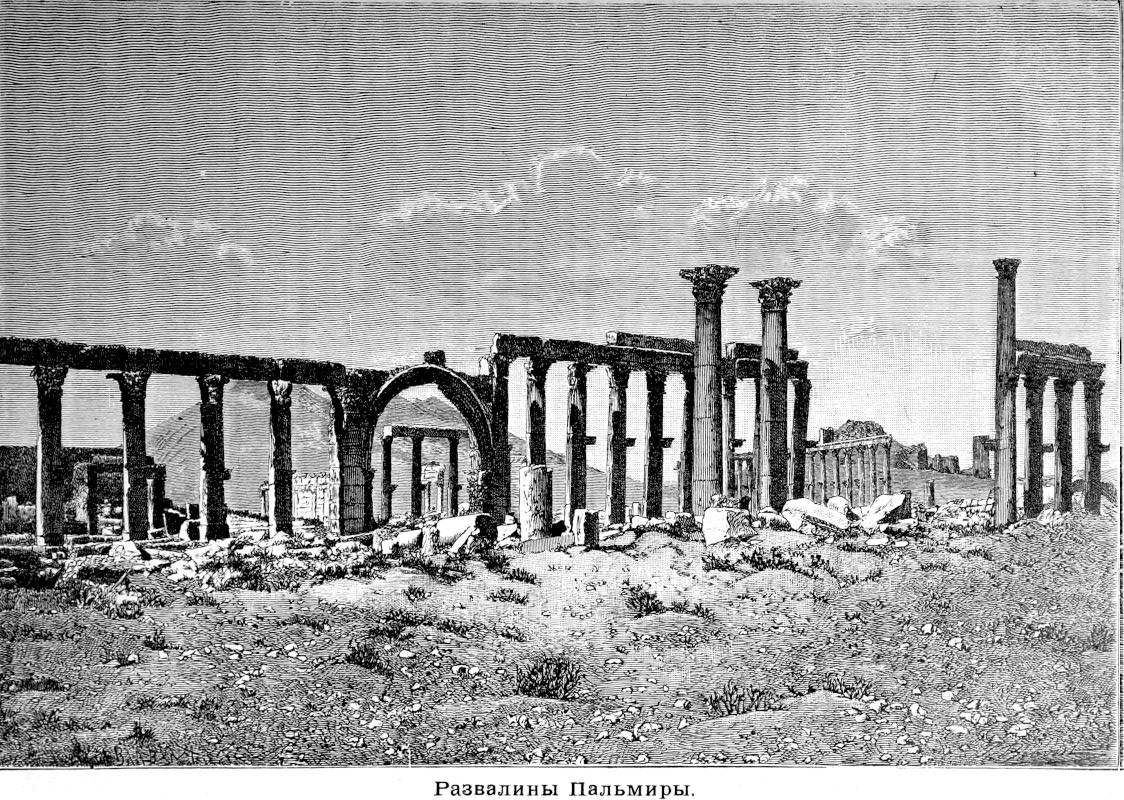
Что касается до арабов и белуджистанцев, входящих также в состав жителей Персии, то большинство их племен заселяет земли, пограничные с их родиной: арабские народцы, считающие себя уроженцами Неджеда, кочуют в юго-западной части равнины Каруна, которая, благодаря им, получила название Арабистана. Равно и белуджистанцы Персии населяют в юго-восточной части государства одну провинцию, которая в прежнее время составляла часть Белуджистана и сохранила это название до сих пор. По словам Флойера, племя это вообще выше ростом и крепче телосложением, чем то, которое живет в ханстве, и многие из их кланов принадлежат семейству риндов или «Храбрых», живущему на границах Индии. В некоторых округах они наводят не менее страха, какой наводили недавно туркмены в Хорассане: иногда случалось видеть этих разбойников верхом на быстрых верблюдах, делающих до 130-и километров в день, проникавшими в соседство Кирмана и Иезда; но они не убивают, подобно туркменам, своих жертв: они довольствуются тем, что только грабят. Между странствующими племенами, передвигающимися по плато Персии и которые, по исчислению, составляют четверть или даже треть всего населения, многие выдают себя за потомков арабов, что более или менее подтверждается происхождением их вождей. Но каково бы ни было их происхождение, они уже превратились в иранцев и по языку, и по их внешнему виду. Таковы «арабы» Вераминского округа, на юго-востоке Тегерана: язык их персидский, каким говорят в стране, а тип их ничем не отличается от соседей; смешения превратили мало-по-малу древних арабских переселенцев в настоящих персиян.
Тюрки или курды, арабы или белуджистанцы, даже персы,—все кочевники или полу-кочевники Персии, которых главное богатство заключается в стадах и которые живут летом в кибитках на горах, чтоб спуститься зимой в окрестности городов; все они известны под родовым своим названием илятов или «Семейств». Смотря по положению политических дел, число их увеличивается или уменьшается. Если, например, область терпит от грабительства губернатора или от того, что по ней прошли войска, иляты шер-нишини, привыкшие к постоянному местожительству и к возделыванию почвы, покидают свои деревни, чтоб начать кочевую жизнь, подобно сахар-нишини; в благоприятные времена племена поселяются на землях, которые им жалуются. Только одни каулы, лулы, или карачи, которые и есть персидские цыгане, кочующие то тут, то там у окраин городов, не изменяют никогда своего образа жизни. Приноравливаясь к всякой религии, не исповедуя никакой, они искусные гадальщики, кузнецы, лудильщики, мастера разной посуды, сит и т.п., барышники и воры; они весьма походят на своих европейских единоплеменников; между ними шах выбирает себе скороходов. Число цыганских семей простирается до пятнадцати тысяч. Что касается до лутов, то это, собственно говоря, шуты и вожатые медведей, фокусники; но под этим названием обыкновенно смешивают людей самых различных племен, связанных друг с другом воровством и разбоем.
Армяне, в прежнее время весьма многочисленные на персидской территории, ныне встречаются там только небольшими общинами. Большинство из населявших северные округа провинции Азербейджана, от сорока до пятидесяти тысяч человек, ушли из Персии в 1828 году, для того, чтоб поселиться в русской Армении, где половина из них погибла от холода и от голода; в стране осталось только две тысячи пятьсот семейств. Вне пределов Азербейджана персидские армяне не более, как переселенцы. В 1605 году, когда шах Аббас I вынудил их покинуть свое отечество—берега Аракса, разрушив каналы, мосты и даже жилища на глазах изгнанников, двенадцать тысяч семейств, переселившись в Испагань, пережили все муки изгнания, и в скором времени, благодаря своему трудолюбию, обогатились. Шарден, видевший в Испагани армянскую колонию в полном благосостоянии, хвалит их промышленность и их коммерческие способности; но с этой эпохи, притеснения губернаторов довели большинство гайканов до нищеты. В последнее время их стали считать почти русскими подданными, и они пользуются особым покровительством посланника могущественной нации, советы которого считаются приказанием. Положение их значительно улучшилось, но некоторые из их общин далеко еще не в цветущем состоянии и почти вся их молодежь эмигрирует, отправляясь искать счастья в Закавказье, в Константинополь, в Индию, вплоть до Явы, и в Китай. На вопрос путешественника Полака, патриарх Испагани, которого епископство распространяется от Гамадана до Батавии, мог насчитать только около двадцати тысяч овец своей рассеянной повсеместно паствы. В верхних долинах, лежащих на северо-западе Испагани, некоторые деревни заселены единственно гайканскими земледельцами, храбрыми горцами, которые замечательно разнятся от боязливых городских армян и которые умеют защищать свои поля от окрестных разбойников-бахтиаров.
Евреи еще малочисленнее армян на персидской территории: их не насчитывают даже и двадцати тысяч с теми, которые исповедуют свою религию втайне, но которые известны за ложно совратившихся в ислам. Они находятся в большом презрении и живут в каждом городе в гетто, подобно тем, какие были в прежнее время в европейских городах, и в домах их такия низкие двери, в которые можно войти не иначе, как нагнувшись, и которые легко забаррикадировать. Подобно европейским евреям, евреи, населяющие Персию, представляют два весьма различных типа: одни имеют правильное, благородное лицо, черные глаза, большой лоб; у других широкое лицо с большим носом и курчавые волосы. Они говорят по-персидски, но примешивают к этому языку слова древне-еврейские, и вообще говорят с особым акцентом; обыкновенно, в разговоре сильно жестикулируют, за что их презирают иранцы, весьма скромные в движениях. Как и в Европе, евреи любят ремесла, в которых на их долю выпадает обработка дорогих тканей и металлов; большинство из них ювелиры, вышивальщики, ткачи шелковых материй; они также занимаются производством вин, водок, уксуса и умеют сплавливать и отделять металлы. Из среды их выходят лучшие врачи в Персии, наследовавшие славу своих предков во времена калифов. Музыканты и певцы почти все без исключения евреи.
Европейская колония в Персии состоит из небольшого числа авантюристов и купцов, не считая персонала посольств и специалистов, профессоров, медиков, разного рода промышленников или военных, призванных в страну для руководства некоторыми производствами или же для обучения войск. На всех на них смотрят как на посетителей, и народонаселение избегает их как иностранцев: почти нет примера, чтоб иностранцы, не имея интимных связей с персидскими семействами, избрали бы Иран своим вторым отечеством: дезертиры русской армии, почти все поляки, которые в прежнее время в большом числе нашли убежище на персидской территории, перешли в ислам и ныне считаются иранцами. Персия не вошла в круг заманчивых для Европы земель, каковы Египет и Малая Азия; но климатические и земельные условия, равно как и политические события, позволяют утверждать, что в недалеком будущем, в русских переселенцах не будет недостатка в городах Мазандерана, Гилана и Азербейджана; но тем не менее, их непосредственное влияние на цивилизацию страны еще не скоро даст себя чувствовать. Иранская раса, сильная своей долголетней прошлой культурой, одна из самых живучих, какие существуют, а большинство европейцев вместо того, чтоб вложить свой элемент в народ, с которым они находятся в сношениях, сами превращаются в азиатов. Таким образом, в былое время, маленькия греческие колонии центральной Азии основались на землях окрестных народов.
Древняя религия Зороастра ныне имеет только весьма небольшое число последователей между персами, и в форме весьма различной от той религии, которая должна была одержать верх в те времена, когда были провозглашены доктрины Зенд-Авеста. Известно, что парсы или зардушти имеют свои главные общины вне пределов Ирана, в Бомбее и соседних с ним городах; в самой же Персии их немного более 8.000, и встречаются они сплоченными группами только в округе Иезда или Иездана, т.е. в «Городе Света». Еще в десятом веке, со времен путешествия Ибн-Гаукаля, в каждой деревне был свой храм, свои священники, своя священная книга; но с того времени «жертвенники огню», прежде воздвигаемые на вершинах холмов, были все разрушены, за исключением одного жертвенника Тафта, близ Иезда; священники не смеют более зажигать там священный огонь, состоявший из двенадцати разноцветных огней, из коих первый был зажигаем прямо солнцем посредством чечевицеобразного стекла. Ныне жертвенники Иезда не более, как простые жаровни, спрятанные внутри почерневших развалин. Впрочем, от них уцелели только обломки, на которые указывает местное предание, и они называются в стране не иначе, как своим арабским названием атеш-газ или атеш-каде; древнее название пельви забыто. Но гебры удержали за собою право хоронить своих умерших по своим обрядам, и близ каждого города, где находится одна из их общин, высится на уединенной скале дакме или башня молчания. Гебров гнушаются, как идолопоклонников, и они давным давно были бы истреблены, если бы не обладали граматой калифа Али, обещавшего им свое покровительство, что, впрочем, ни мало не избавляет их от особой подати, требуемой с неверных. С недавнего времени число их стало уменьшаться, вследствие похищения молодых девушек, обращаемых в магометанство, и которые, сделавшись членами великой семьи ислама, не возвращались более к своим родителям. Еще и ныне самые богатые купцы-гебры могут ездить только на ослах и всякий раз обязаны слезать при встрече с мусульманином, а также обязаны носить на одежде особые цветные знаки для того, чтоб толпа могла их отличить от «истинно верующих» и могла бы преследовать их оскорблениями, не рискуя ошибиться. Однако, положение огнепоклонников значительно улучшилось с половины нынешнего столетия, вследствие духовной солидарности с ними индийских парсов, которые посылают своим единоверцам деньги для уплаты податей и для содержания школ, и которые во многих обстоятельствах прибегали к советам Англии. Кроме того, некоторые немногие персы, гордящиеся своей историй, чувствуют симпатию к этим людям, которые остались верными в современном Иране преданиям древней Персии. Между вновь возникшими сектами есть такия, которые стараются приблизиться к древней религии Зороастра и даже трудятся над восстановлением древнего культа. Великая персидская эпопея «Шах-наме» Фирдузи чествует культ предков в выражениях, будто скрывающих некоторую иронию, направленную против новой религии: «Наши отцы также боготворили Бога. Арабы обращаются в своих молитвах к камню, а те обращались к огню, горевшему яркими цветами». Многочисленные гражданские церемонии в Персии напоминают древний культ. Так, в Хорассане, когда депутация поселян выходит на встречу иностранцам, чтоб оказать им почести, делегаты несут обыкновенно, и зимой и летом, горшок, наполненный горящими углями. Во всей Персии самый большой праздник—Неруза, справляемый 20-го марта в честь весны.
Как посредники торговых сношений с Индией, гебры Иезда и Кирмана играют довольно значительную роль, и в торговых делах они отличаются от персов верностью данного слова. В религиозном отношении большинство из них слепо подчиняются своим священникам или мобедам, которые произносят молитвы и заклинания на языке пельви, которого они сами не понимают. Обряды, весьма сложные, сделались целой религией, и все внимание священнослужителей обращено исключительно на то, какие позы следует принимать во время молитвы, как произносить слова, в каком порядке должны быть размещены священные очаги, священные ветви гома (sarcostema viminalis), чаши, содержащие в себе сок божественного растения, курильницы, ступки, в которых толчется снадобье для традиционных пирогов. Посвящение в таинство детей мужского пола состоит только в том, что им дают рубашку, которая должна предохранять их от козней диавола, затем в опоясывании их шарфом, который должен дать им силу и доблесть для добрых дел. Древняя дуалистическая вера постепенно превратилась в монотеизм; кроме обрядов религия, персидских гебров не представляет никакого различия с религией соседних мусульман. Чтобы приобрести их благорасположение, огнепоклонники допускают, что Зердушт или Зороастр, автор их священной книги, есть одно и то же лицо, которого евреи, христиане и мусульмане, все «книжники», знают под именем Авраама; в каждом споре, собеседники вежливо соглашаются с ними, что это именно так и есть. Между иранскими и бомбейскими парсами произошло нечто в роде раскола; но причина этому чисто материальная и ничуть не касается вопросов о догматах: отделенные друг от друга в течение нескольких веков, эти две группы единоверцев перестали иметь общий календарь и различно произносят некоторые слова литургии. Гебры Ирана и гебры Индии имеют одинаковые обряды, и как те, так и другие, бросают своих умерших на съедение орлам и ястребам. Почти все браки у них заключаются между близкими родственниками, но никто не замечал, чтоб гебры стояли ниже своих соседей-магометан как в отношении чистокровности, так и по красоте лица. Впрочем, почти у всех персов первые браки заключаются почти всегда между двоюродными.
Девять десятых персидского населения принадлежит оффициально к религии магометан-шиитов. Можно сказать, что народ, побуждаемый патриотизмом, принял эту религиозную форму с целью противодействовать арабам и тюркам. Границы распространения секты соответствуют вообще границам государства, и даже во многих местах они сходятся совершенно: религиозные границы так же точно обозначены, как и государственные. Навязав свой культ, победители-арабы, «Пожиратели ящериц», как их презрительно называют, совсем не сделались братьями побежденных, которых они заставили принять свою веру: не прошло и полстолетия со времени вторжения арабов в Персию и со времени падения династии Сассанидов, как началась политическая реакция, но она была только обратным требованием династии: персы стояли больше самих арабов за поддержание калифата в семействе Магомета. Так как Али, племянник и зять пророка, женил своего сына Гуссейна на младшей дочери сассанидского короля Иездиджера, кровь пророка и наследных государей Ирана слилась таким образом в семье Али. Но когда несчастный калиф был умерщвлен в Куфской мечети, когда сыновья его, Гуссейн и Гассан, были задушены вместе с родственниками и друзьями в Кербельской равнине, династия Сассанидов угасла одновременно с династией Магомета. Велика была скорбь мусульман Персии, а ужасные обстоятельства, какими сопровождалась эта драма, возбуждали еще более сострадания к погибшей семье. Вскоре легенда, изобразив эти события, сделала из них предмет вражды между двумя государствами, между двумя религиями, между двумя силами, навеки враждебными, как древний маздеенский дуализм. Партизаны Али возвели его на один пьедестал с Магометом; они провозгласили его «наместником», вали Аллаха: у большинства шиитов Али считается первостепенным божеством, преемников Ормузда; особая секта али-аллахи, нозаири или назери, к которой принадлежат не только одни иранцы, но также тюрки и, может быть, даже остатки племен еврейских и несторианских, не делает никакого существенного различия между Аллахом и наилучшим из его тысячи и одного земного воплощения, калифом Али. Есть также секты, предметом боготворения которых служат двенадцать имамов, потомки калифа, чтимого святым. С другой стороны, Омар считается чем-то в роде сатаны, которого должен проклинать каждый правоверный. Ежегодно один день в году посвящается празднованию смерти Омара, и богомольцы направляются толпами к Кашану, для посещения предполагаемой могилы его убийцы.
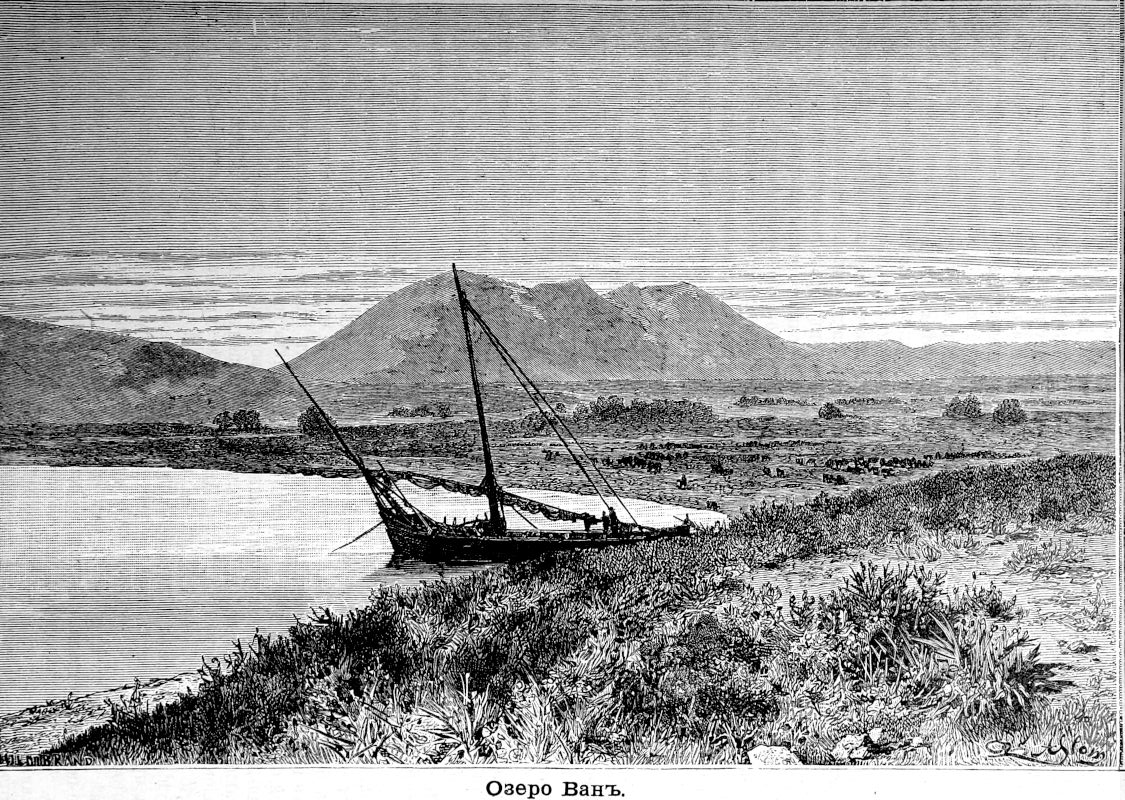
Секта шиитов, преследуемая в первое время, постепенно захватила все персидские народности, но она стала религией государства не ранее начала шестнадцатого века, с воцарением династии Сефвидов. Она еще и теперь вербует последователей в восточном Афганистане, на северо-западе между татарами Закавказья, наконец в самой Персии и свидетельствует о своей живучести развитием национальной литературы, возникшей среди народа вне всякого влияния духовенства. В прежнее время поминовения, совершаемые в честь Али и его сыновей, состояли только из молитв, воплей, погребальных процессий, сопровождаемых добровольными самоистязаниями, которые делают из обрядов шиитов потрясающее зрелище. Действующие лица драмы, Али, Гуссейн, Гассан, дети и женщины, умерщвленные в Кербеле, участвовали в этих представлениях в качестве немых свидетелей преступления; они не говорили и не действовали, тогда как теперь они стали актерами; тазие, подобные «мистериям» средних веков, ныне стали настоящими пьесами, в которых авторы большею частью неизвестные, ввели монологи, диалоги, неожиданные перипетии, осмеливаясь даже затрогивать легенду, чтоб придать положению действующих лиц более живой интерес. Труппы актеров почти все родом из Испагани, жители которой славятся между всеми персами своим звучным голосом и наилучшим акцентом, составились, чтоб давать театральные представления в различных города Ирана, и многие артисты, особенно те из них, которые изображали детей и женщин из семейства пророка, достигли славы и богатства. На некоторых сценах давали и другие мистерии, кроме убийства в Кербеле: таким образом мало-по-малу устраивается национальный театр. Семейства сеидов или сеиедов, родственные пророку Магомету, которые составляют по крайней мере пятидесятую часть всего персидского населения, принимают специальное участие в постановке тазие, как бы наиболее других заинтересованные в чествовании подвигов своих мнимых предков; но между этими семействами нет, может быть, ни одного, которое могло бы представить неопровержимое доказательство своего титула. Когда-то сеиды пользовались, так сказать, всеми правами, даже правом говорить правду государю!
Шииты отличаются от суннитов не только воспоминанием о политических распрях и национальной враждой, но главным образом значительным изменением в религии и в догматах вследствие многолетней отчужденности. В Персии древняя каста волхвов постепенно преобразовалась, благодаря соединению врачей в каждом городе. Духовная иерархия также изменилась у секты персидских шиитов гораздо больше, чем у суннитов, а Коран у них не подлежит свободному истолкованию правоверных, как это допускается у тюрков или арабов: у шиитов его могут читать и комментировать только одни муллы. Различные изображения возбуждают чувство гадливости у суннитов; у них же истинно верующий не преминет их убрать или даже убежать в другое место, когда он совершает молитву, и совершенно иначе относятся к ним шииты Персии: почти во всех домах в Иране имеется картина, изображающая пророка Али; но так как художники чувствуют себя недостойными воспроизводить черты божественной красоты, какие предание приписывает зятю Магомета, то его изображают всегда с лицом, закрытым покрывалом. В некоторых отношениях, шиизм указывает на возвращение к религии, предшествовавшей магометанству, и сунниты имеют некоторое право обвинять их в принадлежности к религии Зороастра; тем не менее есть несколько мест в Коране, которым шииты дают истолкование, более соответствующее объяснениям первых комментаторов, нежели то, какое мы встречаем у теперешних суннитов. Шииты прикидываются более правоверными, чем арабы, и считают себя поддерживателями порядка законного наследования в калифате.
Несмотря на оффициальную принадлежность к общине шиитов, большинство персов тайно проповедуют идеи, весьма различные с теми, какие преподает Коран. Каждый стремится создать себе свою собственную веру, свои собственные умовоззрения, что влечет за собой странную разницу в верованиях: один и тот же субъект соглашается с целым рядом различных доктрин. Спорные вопросы взаимно нейтрализуются, поэтому религиозные волнения масс сделались почти невозможными. Хотя духовенство и оставило за собой право истолкования священных книг, каждый перс воображает себя теологом и нисколько не боится затрогивать самые отвлеченные вопросы, хотя бы они даже привели его к ереси. Впрочем, все персы пришли к тому убеждению, что каждый человек имеет право высказывать свои мысли и наружно исповедывать веру, которую втайне он отвергает; даже шиит, странствующий среди суннитов, может, не будучи обвиняем в подлости своими единоверцами, выдавать себя за сторонника того самого Омара, которого он ненавидит в глубине своей души. Такого рода религиозное мороченье называется кетман: никто не остается обманутым, но все делают вид, что верят этому, и надеются на обоюдность успехов. Сочинения персидских сектантов имеют, как и сочинения многих философов средних веков, два совершенно противуположных значения: одно значение оффициальное и прямое, которое во всех пунктах соответствует богословию, преподаваемому в школах, а другое скрытное, мистическое, от которого ключ у его учеников и которое истолковывается в тайных собраниях.
Итак, в Персии невозможно следить за движением сект: они известны только в общих чертах, и было бы напрасным трудом стараться их перечислить. У илятов различные группы народностей все различно понимают магометанскую религию, и даже «Люди истины», как называют али-аллахов, исповедуют ее самым различным образом. Так, например, одно племя, по словам Феррье, боготворит великого святого истукана Бузурга и игнорирует Магомета. Киринди, живущие близ Керманшаха, считают богом своего предка Дауда, и по ремеслу, как и он, кузнецы. Белуджи Персии, которых считают суннитами, большею частью не имеют никакой религии и ограничиваются тем, что отрывают куски от своих одежд и привязывают их к кустам, или же бросают камни на громады, высящиеся по краям дорог. В Мазандеране племя дровосеков также игнорирует Магомета, а в юго-восточных областях Персии многие ученые, цитирующие Гафиза и едва знающие Коран, не прочь возвести поэта Шираза на место пророка. У образованных персов общепринятая доктрина, искаженная, как и все прочия, под видом кетмана, это—доктрина суфи. В сущности, они не придают никакого значения мусульманским обрядам, которые составляют для них одну только внешность, ничем не пробуждая сокровенные мысли внутреннего мира человека. Уже в четырнадцатом веке, Шемзеддин, более известный под именем Гафиза, воспевал в превосходных стихах человеческую нравственность вне всякого мистического учения и вне всякой надежды на вознаграждение в будущей жизни. Повторяя эти стихи и многие другие изречения своих знаменитых писателей, суфи говорят, по поводу их религиозной независимости, что у одних она выражается в полном скептицизме, а у других в метафизическом созерцании. В Европе большинство суфи были бы признаны пантеистами: они верят в соединение всего сокровенного в Боге и, следовательно, признавая свою собственную божественность, видят в самих себе центр всего. Недоброжелательные священники утверждают, что некоторые доктора-суфисты советуют прибегать к опьянению гашишем или опиумом, так как в состоянии головокружения и грез все представления в мозгу перепутываются, все предметы кажутся иными, все образы изглаживаются, и тогда человек снова погружается в первобытную беспредельность всемирного божества. Большинство персов имеют большую склонность искать экстаза в опьянении, которое производят наркозы или горячие напитки, вследствие чего тысячи из них преждевременно дряхлеют, пробуя созерцать великое из глубины собственного безумия.
Секта, которая в текущем столетии сильнее всего взволновала персов, это—бабисты, потому что она не ограничилась одной религиозной пропагандой, а влияние её отразилось и на политической жизни народа и имело последствием кровопролитные междуусобные войны. По их теологическим концепциям, в которых теория чисел и точек играет важную роль и считается божественной манифестацией,—ученики мирзы Али Магомета, более известного под именем Баба, создали полный идеал нового общества, и этот идеал они осуществляли в их собственных группах. Между собой они не знали другого способа управления, как милость, взаимное уважение, вежливость, и только в важных случаях допускали обращение к третейскому суду. Они запрещали бить детей и наблюдали за тем, чтоб во все время ученья ни смех, ни игры и «ничто, что могло сделать их счастливыми», не отнималось бы у них. Баб осуждает полигамию, развод, обычай водить женщин под покрывалом; он советует правоверным заботиться о счастии их жен, о доставлении им удовольствий и никогда не отказывать в нарядах, которые идут к их красоте. Женщины приняли большое участие в пропаганде бабизма, и между проповедниками секты никто не приобрел такой громкой известности своею преданностью, твердостью и даром красноречия, как прекрасная Церрина Тадж или «Золотая корона», прозванная «Её Высочество Непорочная», или Гуррет-уль-Аин, «Утеха очей». Многие европейские писатели поставили Баба в разряд сект коммунистов, но это неверно: он никогда не советовал делать собственность общим достоянием, но увещевал богатых смотреть на себя, как на казначеев бедных, и отдавать свой избыток тому, кто нуждался в необходимом. Красноречие Баба было до такой степени обаятельно, что оно стало легендарным: рассказывают, что ему достаточно было дать один финик любому из слушателей, чтоб сделать его своим последователем.
В эпоху, когда появилось их учение, Баб и его последователя ничуть не помышляли захватить в свои руки власть: их первоначальные проповедывания были совершенно миролюбивого свойства; но преследования со стороны священников, доходам которых народившаяся секта наносила большой ущерб, довели новаторов до мятежа. В 1848 году, памятном народными волнениями и междоусобными войнами как на крайнем Востоке, так и в западной Европе, в Персии происходили также междоусобные распри. После кровопролитных сражений, все бабисты Мазандерана были переколоты; затем восставший город Зенджан, находящийся на границах Азербейджана, был предан огню и жестокой расправе над жителями, а сам Баб был умерщвлен. Несколько сектантов, избегнувших участи своих товарищей, попробовали было отомстить шаху, а тот отдал приказ истребить всех оставшихся в живых последователей учения Али Магомета. Ужасную мысль возъимели верховные советники правителя—разделить пленных между высшими сановниками государства, дабы шах мог наглядно судить о преданности своих подданных, об их искренней верности по тем наказаниям, которым они будут подвергать свои жертвы. Каждый из сановников принял это к сведению, и начались пытки, от которых становится волос дыбом. Один из придворных приказывал резать перочинным ножиком своих пленных; другой их медленно душил, или разрубал на части; третий заковывал руки и ноги в кандалы, а тело приказывал рвать на куски плетьми. Дети и женщины проходили между фалангой палачей, которые жгли им тело зажженными фитилями. Среди безмолвия обезумевшей от страха толпы, раздавались только крики мучителей и замиравшие голоса мучеников, певших: «Во истину мы пришли от Бога и возвращаемся к Нему»!
Но, несмотря на эти зверские убийства, не удалось совершенно искоренить бабизм. По общему отзыву, секта эта стала многочисленнее, чем когда-либо, и тем более опасной для правительства, что отныне деятельность общины хранится втайне. В Персии у них нет вождей, но сектанты есть даже и между оффициальными представителями религии в государстве, которым не трудно входить в сношения с преемником Баба, имеющим пребывание в Азиатской Турции, и которого посещают персидские богомольцы, привлекаемые сюда святынями Кербелы и Неджефа. Каково бы ни было его действительное могущество, но нельзя умолчать о том, что Персия переживает в настоящее время критический период своей истории. Много внутренних перемен, указывая на своеобразное развитие народного духа, обещает совершиться в этой стране, в ту самую минуту, когда давление извне, возростая все более и более, угрожает отнять у Персии последнюю тень политической независимости.
Весьма общежительные и к тому же вынужденные группироваться по причине небезопасности страны и неоднократных войн, опустошивших край, персы имеют много городов: пропорционально всему населению, число городов гораздо больше, нежели на полуострове, лежащем по сю сторону Ганга. Многие города совершенно изолированы в пустыне, не имеют ни предместий в городской черте, ни домов, рассеянных по окрестным деревням. Пространство, занимаемое скученным городским населением, вообще гораздо больше того, какое приходится в Европе на то же число жителей. Дома низкие и окружены дворами и различными постройками. Дворцы правителей с их службами образуют настоящие кварталы, где иностранец может заблудиться в лабиринте проходов и дворов. Но как ни обширны и ни затейливы эти жилища, в них редко живут долгое время: почти всегда новый властелин разрушает дворец своего предшественника, или вследствие простой любви к переменам, или же, что бывает чаще, для избежания злого рока, погубившего его предместника; он воздвигает новое здание рядом с старым, и город, таким образом, увеличивается. Страх роковой судьбы заставляет также перемещать деревни, местечки и целые города: рядом с новыми городами тянутся на далекое пространство громадные развалины, которые произвели добровольно сами жители, чтоб попытать большего счастия. Груды обломков, покрывающие почву, кучи грязи, размякшей от дождей, не могут служить доказательством, как предполагали многие из путешественников, что страна эта в прежнее время была более населена.
Но есть такие города, которые силой обстоятельств должны оставаться на своем прежнем месте, или вследствие своего выгодного природного местоположения, или благодаря имеющимся там фонтанам, или же по причине связанных с теми местами религиозных воспоминаний. Таков город Мешхед, нынешняя столица Хорассана или «Страна солнца», в котором скучение городского населения наибольшее во всей северо-восточной Персии. Он обязан своим значением находящейся в нем могиле имама Реза, одного из учеников Али. До того времени, пока эти смертные останки не привлекали еще массу богомольцев, «священный Мешхед» был не более, как простая деревня, хотя легенда новейшего происхождения приписывает его основание мифологическому герою Джемшиду. Да и самое местоположение Мешхеда не из тех, которые, благодаря пересечению природных путей, предоставляют городу играть важную роль. Лежащий на высоте 930 метров, в малоплодородной равнине, которую не орошает даже ни один постоянный источник, километрах в десяти к югу от Кашаф-руда, одного из западных рукавов реки Герата,—Мешхед имеет удобное сообщение только с верхним бассейном Атрека, который простирается на северо-запад между двумя параллельными хребтами Копет-дага и Ала-дага; надо перейти хребты высоких гор, чтобы попасть во все прочия части Хорассана, на запад к Нишапуру и Дагману, на юг к Турбат-Гайдари, на юго-восток к Турбат-Шейк-и-Джами и к Герату, на северо-восток к Сераксу, на север к Келат-и-Надиру. Пути, по которым ходили богомольцы, стали торговыми путями: сто тысяч правоверных, ежегодно посещающих гробницу имама, составляют в то же время и покупателей и продавцов, которые поддерживают промышленность в городе, и Мешхед сделался торговой метрополией Хорассана, каковою был был прежде Герат. Надир-шах избрал Мешхед столицею своей обширной империи.
Единственный, достойный внимания, памятник в священном городе,—мечеть, золоченый купол которой украшен в нижней своей части разноцветными фаянсами, голубыми и желтыми на белом фоне, высится над священным камнем почти в геометрическом центре города. До сих пор ни один европеец, не переодетый богомольцем, не мог проникнуть в эту мечеть, которую иначе он осквернил бы своим присутствием; медная цепь указывает предел, за который не может переступить неверный; все домашния животные, заблудившиеся и попавшие за эту преграду, становятся принадлежностью имама, по праву, т.е. пятисот священнослужителей, которые питаются от приношений алтаря. Преддверие мечети служит местом убежища для преступников, и этот верный приют содействовал в некоторой степени заселению города; все богомольцы, приходящие говеть у гробницы имама, получают два раза в день в течение недели блюдо из пилава на счет святого. Библиотека имама имеет около 3.000 ученых сочинений; между ними есть некоторые весьма ценные. Священный храм разделяет на двое центральную аллею или киабан, улицу более двух с половиной километров в ширину, которая пересекает Мешхед от запада к востоку, от ворот Кучана до гератских ворот. Посреди этой улицы, осеняемой чинарами и вдоль которой тянутся целые ряды лавок, течет речка или, вернее, водосточный канал, чрез который живущие вблизи люди перекинули подвижной мост, чтоб иметь возможность вечером подышать чистым воздухом, несмотря на примесь к нему скверного запаха от гниющей воды. Городская ограда заключает в себе обширные пространства, занимаемые кладбищами, на которые приносят за пятьсот километров в окружности трупы набожных мусульман, желающих вознестись на небо вместе с имамом Реза. Некоторые сады находятся также в этой ограде, а возделанные поля простираются вне её стены; но жители города рассчитывают всего более на продовольствие, которое им доставляют караваны в обмен на ковры, оружие, металлические изделия и вазы из «черного камня», в роде жировика, который им доставляют соседния каменоломни. Между жителями Мешхеда насчитывают несколько сотен евреев, которые вынуждены были, в 1839 году, ценою жизни принять ислам; но они только по названию магометане, а веру исповедуют втайне свою.
На северо-западе Мешхеда область равнины, которая принадлежит и по сие время бассейну Гери-руда, усеяна курдскими деревнями; все они укреплены и могут выдержать нападение туркменских шаек. Всего только два города, как тот, так и другой населенные курдами, находятся в этой местности, одной из житниц Персии: Казимабад и Радкан, расположенные вблизи болот, откуда берет свое начало Кашаф-руд. Наилучшие животные происходят от скрещивания бахтрианского двухгорбого верблюда с дромадером или арабским верблюдом; обыкновенный верблюд поднимает тяжесть весом не более 140 килограммов, а эти метисы поднимают тяжести в 280 и даже до 300 килограммов. На севере Казимабада развалины города Ту усеивают деревню, находящуюся близ потока, текущего в Кашаф-руд: в этом-то знаменитом городе умер Гарун-аль-Рашид. Там также родился в 940 году, а равно и умер Фирдузи, автор великой персидской эпопеи «Шах-Наме»: в начале столетия маленькая часовня указывала место его погребения, а ныне только одно предание гласит о месте его упокоения. Знаменитый астроном Нассир-Эддин, основатель обсерватории в Марага, также один из родившихся в Ту. Не осталось ни одного замечательного обломка от зданий этого города, разрушение которого народное предание приписывает Чингисхану, этому первокласному истребителю человечества; но Ту обезлюдел только в конце восемнадцатого века.
Города северного склона гор, на север от Мешхеда, не могли ни увеличиваться, ни процветать, вследствие частых набегов туркмен; но благоденствие их не замедлит, как только наступит мирное время, что дозволит возделывать плодородные скаты Дерегеза или «Долины тамарисов», и когда деревни равнины не будут более опустошаемы.
Могаммедабад, Лутфабад, еще недавно бывшие незначительными местечками, несомненно, приобретут важное значение, когда зерновой хлеб, виноград и другие фрукты, шерстяные и грубые ткани туркменские будут обмениваться на мануфактурные персидские произведения. Но сколько разрушенных городов, какие груды обломков попадаются в этих плодородных областях, обработываемых в прежнее время трудолюбивым населением Маржианы! С мысов, выдающихся в равнину Теджена, можно видеть, как во многих местах горизонт изрезан зубцами «безчисленных» развалин, башен и стен, мерцавших в мираже. Тут и там виднеются целые города с их улицами, площадями, крепостями, городской стеной, вполне сохранившиеся такими, какими они были в тот день, когда их покинули; ныне их единственные жители—леопарды и шакалы. Большой город Хивабад, который Надир-шах населил пленными хивинцами и бухарцами, это—город привидений, чрез который поспешно проходят путешественники, но где ни один туземец не согласится остаться. Туркмены, возделывающие поля Хивабада, живут во всей равнине Теджена в 25-и и 30-и километрах к северу, но ни за какие блага они не согласятся раскинуть свои палатки внутри ограды: для защиты от нападений врагов они скорее построят новый город рядом со старым. На восток от Лутфабада «Пребывание грации», другой город, гораздо больший, Хусру-тепе или «Гора Хозроес», избегается точно также, и тщетно хан Дерегез желал устроить там туркменскую колонию. Между покинутыми городами есть такие, которых жители вынуждены были оставить по причине перемены течения рек. К числу таковых принадлежит Абиверд, который значится на всех картах, но в действительности перестал существовать; он заменен большим посадом Кахка, к которому ныне направляется большая река Лаин-су. Различные развалины, известные под названием Килиш, Кализа или Кализи, то-есть церковь—свидетельствуют о существовании древних несторианских общин в этом краю, который оспаривают друг у друга шииты иранские и сунниты туркменские. Искусственные холмы возвышаются местами на границах пустыни, из Хивабада в Серакс.
Близ Могаммедабада, нынешней столицы Дерегеза и главного рынка туркмен-текке, разрушенная башня указывает место палатки, в которой родился тот свирепый тюрк, из племени афшаров, который впоследствии должен был носить имя Надир-шаха и управлял столь жестоко своей обширной империей, простиравшейся от долин Кавказа до берегов Джумны. Келат-и-Надир или «крепость Надира», расположенная почти на неприступном плато, которое командует над равнинами Теджена между Могаммедабадом и Сераксом, осталась главным военным городом страны, где персидское правительство содержит сильный гарнизон. Но стратегический, пункт северо-восточной Персии, наиболее ревниво охраняемый, и за покорение которого пролито много крови в этом столетии, это—город Серакс, построенный на Гери-руде, при входе этой реки в равнину туркменов. Серакс может считаться, еще более, чем Мерв, дверью в Индию: этим путем всего легче проникали армии в долину Герата, лежащую между Персией и Афганистаном. «Серакс будет когда-нибудь или пунктом обороны для Англии, или пунктом нападения для России.» Многочисленные развалины, изолированные форты в равнине, холмы с возведенными на них укреплениями,—все свидетельствует о кровопролитных сражениях, происходивших из-за обладания этим несчастным городом. Солдаты, евреи-купцы, несколько туркменских резидентов составляют население Серакса; окрестные поля не изобилуют возделанными пашнями, которые могли бы быть превращены в обширные поля с зерновым хлебом, благодаря ирригационным каналам Теджена и обилию воды, которая течет везде, если начать рыть почву на глубине в пяти или шести метров.

На юге Мешхеда один только город принадлежит к бассейну Гери-руда, это—Турбат-Шейк-и-Джами, расположенный на берегах Джама, неподалеку от афганской границы. Другие города этой гористой области расположены все или в долинах, или же на скатах гор, весьма скудные источники которых исчезают в пустынях. К югу от Мешхеда, у подошвы гор, лежат города Турук и Шерифабад, которые имеют значение, как перекрестки дорог западных, южных и восточных, по которым идут богомольцы, направляющиеся в священный город. Неподалеку оттуда находится остроконечная вершина Тепе-ис-Салам или «Холм спасения», откуда взорам пришедших с плато богомольцев в первый раз представляются золоченые куполы Мешхеда; завидя их, они падают ниц, призывая Аллаха. На небольшом расстоянии, южнее, высятся соляные горы Кафир-Калах—«Замок неверных»—где снабжаются съестными припасами мешхедские купцы и все прочие торговцы окрестной страны. На северо-западе от ущелья Шерифабада находится другое ущелье Дерудское, которое соединяет равнину Мешхеда с равниною Нишапура. Подъем труден, а иногда совсем невозможен для вьючных животных, по причине снегов, покрывающих тропу в зимнее время. Но с этих высот, достигающих, вероятно, 3.000 метров, спускаешься на юго-запад в одну из плодоноснейших и живописнейших местностей Ирана: селения там словно затеряны среди фруктовых деревьев, ручьи журчат во всех долинах, каскады блестят между расселинами скал, дорога вьется змейкой по усыпанным цветами лугам. Путешественник, привыкший к дюнам, к песчаным пространствам, к скалам, к болотам, глинам и солончакам сахар и кевиров, с удивлением спрашивает себя: точно ли он в той самой восточной Персии, где растительность показывается такими редкими оазисами вокруг городов. Главный город этой страны, Нишапур (Нисабур, Нишаур), один из райских уголков Ирана, Нисайя или Низея, благословленная Ормуздом, одно из тех таинственных мест, которым греческая легенда приписывает честь быть родиной Дионизоса (Вакха), представлял бы, конечно, больше выгод, чем Мешхед, как метрополия восточной Персии. Ибн-Гаукал упоминает о нем на-ряду с Гератом, Мервом, Балхом, как об одной из четырех столиц Хорассана; Ибн Батута называет его «маленьким Дамаском». Якут, исходивший во всех направлениях магометанский мир, говорит, что «не видел города, который бы можно было сравнить с Нишапуром». До монгольского нашествия на Иран, Нишапур был самым цветущим, самым богатым и самым многолюдным городом во всем свете, и караваны со всех концов сходились, как в сборном пункте, в этом преддверии Востока. Разгром Нишапура был «величайшим из бедствий, когда-либо постигших ислам». В наши дни «этот царственный град Хорассана» не более, как незначительный, пришедший в упадок, городок, несмотря на плодородие окрестных местностей, производящий превосходные фрукты, хлеба, хлопок и другие продукты. Горы Биналуд, между Мешхедом и Нишапуром, очень богаты драгоценными каменными породами и прожилинами металлов, золота, серебра, меди, олова, свинца и железа; на северо-запад от города эксплоатируют ломки малахита прекрасных разновидностей; в других местах собирают селитру, идущую на выделку пороха; в Шандизе, недалеко от Мешхеда, каменоломни доставляют превосходные мраморы, белые с желтоватым оттенком, а близ Мадена, «Рудника» по преимуществу, находятся пласты каменной соли и месторождения бирюзы. Эти самоцветные камни, находимые в порфировой скале и в конгломератах, добываются из руды колонией рудокопов, переселенной из Бадахшана, страны рубинов. Большинство рудокопов работают артелями, так что продукт труда и прибыль делятся между всеми участниками. Но есть также отдельные семьи, снявшие в аренду у казны целый рудник. Годовой доход арендной платы с 14-ти бирюзовых рудников составлял в 1878 г. 77.000 франков. Работники утверждают, что бирюза или «камень счастья» «вызревает», то есть что он выигрывает в цвете, по извлечении из земли; но одной весны для этого недостаточно: нужно тысячу лет, чтобы камень приобрел весь свой блеск.
Город Себзевар, лежащий к западу от Нишапура, на тегеранской дороге, походит на большинство других городов восточной Персии бесплодием окружающих местностей; он занимает узкую долину между двумя солончаковыми пустынями. Султанабад, обыкновенно обозначаемый под именем его округа, Туршиз, отделен высокими горами от бассейна, к которому принадлежат Нишапур и Себзевар. Очень деятельный по торговле, он владеет, кроме того, хорошо орошаемыми полями и обширными пастбищами, которые простираются далеко по направлению к пустыне и по которым кочуют тысячами пастухи-номады белуджиской расы: по Феррье, совокупность становищ заключает до 8.000 палаток. Турбат-и-Гайдари, «Купол Гайдара» или Льва, называемый также Турбат-Изахан, испытал большие превратности судьбы в течение этого столетия. Расположенный на дороге из Мешхеда в Кирман, на высоте 1.355 метров, в долине, откуда нельзя выйти иначе, как переходя через высокие хребты, он тем не менее имеет значение, как торговый центр, и базар его привлекает много народу. Конолли, в 1833 г., насчитывал там только 800 домов; десять лет спустя, Феррье определял число их в 3.000; по прошествии тридцати лет, в 1872 г., английская экспедиция, предводимая Гольдсмитом, нашла там уже только 200 семейств: страшный голод предъидущего года похитил семь восьмых городского населения. В наши дни Турбат снова достиг цветущего состояния. Он принадлежит народцу татарского происхождения, пришедшему сюда, по словам Белью, в эпоху Тамерлана. На юго-востоке, город Хаф, соседний с афганской границей, важен, как главное место аймакского племени таймуров. В окружающих горах живут также гезарехи, с монгольской физиономией, как и единоплеменники их в Афганистане, но исповедующие суннитскую веру.
Южная часть Хорассана, менее богатая ручьями, чем гористая территория северо-восточной Персии, по этому самому гораздо менее производительна и менее населена. Города там редки; но, будучи расположены в стороне от большой дороги завоевателей, они менее терпели от осад и войн, чем северные города; жителям их чаще приходилось страдать от голодовок, чем от вражеских нападений. Баджистан, к югу от Султанабада,—одно из наиболее посещаемых промышленных и торговых мест этого края, и караваны приходят туда закупать очень прочные материи из грубого шелку и из козьей шерсти. Ках, называемый также «Селением счастья», принадлежит к числу священных городов, благодаря находящейся в нем могиле брата имама Резы, и, как и Баджистан, славится своими тканями, шерстяными материями, вышитыми шелками разных цветов и разнообразных рисунков. Ках—город кузнецов, а окружающие его сельские местности производят в больших количествах опиум и хлопок. Тун, бывший главный город тунского и теббесского округа, имеет теперь не более значения, как и другие маленькие города страны. Он совсем пришел в упадок, если только правда, что в былое время, как гласит предание, в нем было «тысяча мечетей и две тысячи цистерн»; его обширная осьмиугольпая цитадель частию занята садами. Нынешний главный город округа Теббес, лежащий гораздо западнее, на высоте около 600 метров, в одной из самых низких частей плоскогорья, почти окружен пустыней. Промышленности в нем нет никакой, и население его, одно из самых фанатических во всем Иране, живет очень бедно: но, помещенный на западной оконечности гористой области Хорассана, он является обязательным исходным пунктом для караванов, которым предстоит совершить переход через равнины в направлении к Иезду или к Испагани; его можно сравнить с пристанью на берегу опасного моря. Путешественники, измученные утомительным переходом через пески пустыни, находят в этом городе по крайней мере чистую воду и тень. Финики, табак, опиум и асса-фетида, собираемая в соседних пустынях, составляют главные продукты, вывозимые караванами из Теббеса.
Округ Кайн или Кугистан, простирающийся к востоку от округа Тун и Теббес, на границах Афганистана, тоже переменил свой главный город. Кайн, бывшая столица этого края, лежащая на границах «Равнины отчаяния», которая простирается на восток к Фараху, представляет теперь почти руину: стены её разорваны широкими проломами, а сады и шафранные поля заросли диким кустарником; из восьми тысяч домов, заключающихся внутри городской ограды, теперь едва-ли наберется и полторы тысячи обитаемых; укрепления, построенные некогда гебрами на вершине холма, обратились в груды обломков, но еще видны «башни молчания», куда огнепоклонники клали своих покойников. Бирджанд (прежде Мирджан), нынешняя столица области,—один из самых оживленных городов восточной Персии. Его три тысячи домов, с крышами в форме купола, которые делают их похожими на пчелиные ульи, лепятся по косогорам голых холмов, у выхода четырех подземных водопроводов; в середине лета, когда иссякнут источники в окрестностях, сельские жители перебираются в город, население которого от этого прилива временно удвоивается. Торговля очень деятельна, но знаменитые ковры, которые продаются во всей Персии, как произведения бирджандской промышленности, выделываются почти исключительно в деревне Даракш, в 80-ти километрах на северо-восток от Бирджанда, ткачами, происходящими от переселенцев из Герата. Туземцы рассказывали английской экспедиции, посетившей край в 1872 г., об исполинском чинаре, который будто-бы находится в 35-ти километрах на юго-восток от Бирджанда, в Гюльфанзе, и который имеет не менее 62-х метров (около 29-ти сажен) в окружности: дуплистый ствол служит загоном для овец, однако некоторые ветви носят еще листья. Не есть-ли этот колоссальный платан, спрашивает Юль, то знаменитое «Сухое дерево», о котором говорит средневековой итальянский путешественник Марко Поло?
Них, в соседстве Сеистана, замечателен обилием своих теплых вод, перенимаемых, как и холодные воды, в подземные водопроводы, и употребляемых для орошения полей и садов. Находящиеся в соседстве рудники, где добывали медь и свинец, теперь заброшены; но, судя по размерам древних шахт, камер и галлерей, высеченных в скале, равно как по совокупности работ, приступа к эксплоатации, нужно заключить, что население страны в ту эпоху, когда велись эти предприятия, стояло на гораздо более высокой степени цивилизации, чем в наши дни. Точно также памятники, развалины которых видны в Сеистане, древнем Седжестане, на дорогах из Ниха в Гильменд, свидетельствуют о более славном прошлом, сравнительно с настоящим: там, в родной земле Рустема, развернулась в большой части героическая история Ирана, и много раз с тех отдаленных времен сеистанцы играли значительную роль в судьбах Персии; под арабским владычеством, в Сеистане национальная партия сделала первые серьезные попытки к восстановлению независимости. Груды развалин, столь же многочисленные на персидской границе, как и в афганской части Сеистана, напоминают о первом периоде цветущего состояния края. Нынешняя столица Сеистана, Назирабад, лежащая почти на половине дороги между низменностью Гамуна и Гильмендом, состоит из двух отдельных городов, старого и нового, заключенных каждый в особенной ограде из глиняных стен; население состоит преимущественно из переселенцев из Хорассана, выгнанных с родины голодом. Секуха или «Три горы», на юг от Назирабада, имел прежде титул столицы Сеистана: цитадель господствует над одним из трех глиняных холмов, от которых город получил свое название. На востоке, в одной из плодородных местностей, орошаемой каналами, проведенными из Гильменда, другая глинистая горка, скаты которой изрезаны пропастями и оврагами, увенчана крепостью Кала-Нау или «Новый замок», представляющей один из солиднейших и живописнейших оборонительных оплотов Персии; у подножия этих укреплений приютился маленький городок.
Города Хорассана и Сеистана, лежащие в восточных бассейнах, с их приблизительным населением:
Хорассан: Мешхед (Гольдсмит)—70.000 жителей; Бирджанд (Гольдсмит)—15.000; Себзевар (Гольдсмит)—12.000; Теббес (Мак-Грегор)—10.000; Баджистан (Белью)—10.000; Нишапур (О’Донаван)—9.000; Султанабад (Стьюарт)—5.000; Тун (Мак-Грегор)—5.000; Турбат-Шейх-и-Джами (Феррье)—4.000; Турбат-и-Хайдари—4.000; Ках (Гольдсмит)—4.000; Кахка (Лессар)—3.000; Деруд (Юан-Смит)—3.000; Радкан (Шиндлер)—3.000; Хаф (Клерк)—2.500; Кайн (Мак-Грегор)—2.500 (8.000, по Белью); Серахс (Лессар)—2.000 жителей.
Сеистан: Назирабад (Гольдсмит)—6.000 жителей, Секуха (Гольдсмит)—5.000; Кала-Нау (Гольдсмит)—4.000 жителей.