IV. Малая Азия
Названия «Малая Азия» и «Анатолия», употребляемые ныне в тожественном смысле, суть термины византийского происхождения, значение которых изменилось в течение веков. По мере того, как наименование Азия, принадлежавшее в начале области незначительного протяжения на покатости Эгейского моря, распространялось на более обширную совокупность земель, постепенно увеличивавшуюся из века в век с открытиями путешественников и походами завоевателей, сделалось необходимо употреблять другие термины, во избежание путаницы понятий. Так, с начала пятого столетия христианской эры, название Малая Азия стали применять к полуострову, заключающемуся между Кипрским заливом, Понтом Эвксинским и течением реки Галис, для отличия от всего остального континента, называвшагося «Большой Азией» или «глубокой», то-есть дальней Азией. Выражение Анатолия, которое употребляли в Константинополе для обозначения небольшой части азиатского полуострова, и которое в шестнадцатом столетии, в царствование Сулеймана Великолепного, было еще оффициально названием особой провинции, получило в конце концов общий смысл и заменило имя Рум или «Романия», которое обычай давал прежде византийским провинциям, столь долго оспариваемым турками у константинопольских императоров. Сами османлисы употребляют, в форме Анадоли или Анадолю, это греческое слово Анатолия, синоним наших неопределенных выражений «Восток» или «Левант». Правда, по странному смешению понятий, какого географическая номенклатура представляет много примеров, это название Анатолия или Натолия могло быть взято турками как имя города Натолии, столицы одного из княжеств Рума, и распространено ими на всю страну.
Как бы то ни было, географические наименования Малая Азия и Анатолия имеют в наши дни довольно точный смысл и применяются к области, хорошо ограниченной. Залив Искандерунский или Александретский, проникая далеко внутрь материка между Киликией и Сирией, ясно обозначает на юго-западе крайний угол полуострова. Цепь гор и высоты, продолжающие на севере хребты Сирии и составляющие водораздельную возвышенность между Джигуном или Пирамом и притоками Евфрата, образуют естественную демаркационную линию при основании полуострова. Только в северо-восточном углу, там, где тянутся параллельно Черному морю Понтийские Альпы, раздельная черта становится неопределенной, и географическую границу проводят уже условным образом от плоскогорья Сивас к мысу Язун, через долину реки Гермили, притока Ешил-Ирмака; однако и там отроги гор Армении, резко отличаясь своим мощным рельефом и богатством своей растительности от однообразных равнин Запада, составляют естественный рубеж между Понтом и Малой Азией в собственном смысле. В этих пределах полуостров занимает пространство, почти равное пространству Франции, но обитаемое населением в пять раз менее многочисленным.
Пространство и народонаселение Малой Азии, с островами прибрежья, но без Кипра: 517.600 квадр. километр.,6.720.000 жит., 13 жителей на 1 квадр. километр.
Без всякого сомнения, Анатолия могла бы легко прокормить такое же число жителей, как самые богатые страны Европы. Правда, почти вся поверхность этого края занята высокими плоскогорьями и горами, и средняя высота страны над уровнем моря, вероятно, не менее 1.000 метров; но сколько миллионов людей могли бы жить в довольстве в плодоносной долине Меандра или в какой-либо другой равнине, покатой к морю Архипелага! Даже на внутренних возвышенностях жители могли бы группироваться массами: на многих плато, где в наши дни увидишь только палатки пастухов, почва усеяна древними городами в развалинах: на той же абсолютной высоте, на которой находится Монлуи и Бриансон, эти французские крепости, столь пугающие, как места пребывания, Малая Азия имела в былые времена сотни многолюдных городов. Разность широты вознаграждает за разность высоты; изотермическая линия 12 градусов по Цельзию проходит через Кайсарие, главный город Каппадокии, лежащий на высоте приблизительно 1.200 метров над уровнем океана, тогда как во Франции, 8 градусами севернее, эта самая линия средней годовой температуры пересекает область сентонжского прибрежья. На берегу Кипрского моря, на склоне гор, обращенных на юг, климат уже почти тропический.
Одна из главных выгод Малой Азии состоит в замечательном развитии её морского прибрежья сравнительно с пространством территории. На востоке, как на побережье Понта, так и на побережье Средиземного моря, берег представляет волнистую линию, образующую длинные полукруговые выпуклости и вогнутости, изрезанные на окружности второстепенными правильными изгибами берегового контура. Около северо-западного и юго-западного углов Анатолии, кривые с большим радиусом сменяются глубокими иссечениями берега; прибрежье разветвляется как-бы на суставы, которые, в свою очередь, выдвигают маленькие полуострова в море, усеянное островами и островками: весь западный берег разрезан на гористые полуострова, которые следуют один за другим правильно от залива к заливу, ритмируя свое движение, как стихи с гармоническим размером. Если принимать в рассчет только главные изгибы, то оказывается, что общее протяжение ионийского берега по крайней мере в четыре раза превосходит прямое расстояние, а с побережьем всех обитаемых островов длина его вдесятеро больше. Пункты берега, где море вызвало к жизни рынки и порты, возрасли численно в значительной пропорции; повсюду открываются бухты и порты; дополняясь всеми этими расчленениями, морской берег сделался оживленным.
Западная часть Малой Азии представляет поразительный пример того, как много условные деления заключают в себе произвольного. В самом деле, острова, полуострова, речные долины Анатолии до гор и плоскогорий внутренности страны вовсе не имеют азиатского характера: они принадлежат географически, так же, как исторически, к Европе. По обе стороны моря климат сходен, берега имеют одинаковый вид и одинаковое образование; на той и другой стороне поселились, друг против друга, единоплеменные населения, и одно и то же историческое движение увлекло их к одинаковым судьбам. Вместо того, чтобы разделять Элладу и Анатолию, Эгейское море, напротив, соединило их непрерывным обменом произведений и путешественников. Как во времена Геродота, Афины и Смирна, которые смотрят друг на друга через волны моря, остались греческими городами, несмотря на завоевания и нашествия варваров, переселения которых происходили сначала от востока к западу, потом приняли обратное направление—с запада на восток.
Но две Греции, Европейская и Азиатская, представляют замечательный контраст. Если азиатская Иония не менее богата расчленениями берегов, чем Европейская Греция, то различие её положения относительно соседних земель дает ей иную историческую роль. В то время как Пелопоннез—на что указывает и самое имя его—есть скорее остров, чем полуостров, да и континентальная Греция—страна почти исключительно приморская, отделенная от северных областей высокими горами, проход чрез которые возможен лишь по узким дефилеям,—расчлененное морское побережье, окаймляющее в виде полукруга полуостровной корпус Малой Азии и образующее ту область, столь благоприятную для культуры и торговли, которую Лежан называл «анатолийской подковой», составляет естественный придаток внутренних плоскогорий. Правда, от возвышенностей центра и даже долин рек, впадающих в Эгейское море, до плоских берегов окружности, сношения затруднены во многих местах горными массивами, оставляющими населениям побережья лишь узкий пояс земли; из области морских берегов на центральные плоскогорья приходится подниматься по диким скалам богазов; прибрежные равнины и внутренния степи—совершенно различные земли, имеющие различное население и различную историю. Даже в некоторых местах бассейны окружности были разделены на замкнутые бассейны, с трудом сообщающиеся один с другим: таким образом эллины, обитавшие на морском берегу, могли долгое время сохранять свою самостоятельность и свою самобытную цивилизацию рядом с могущественными азиатскими царствами, от которых они были отделены только поясом скал в несколько миль ширины; но, тем не менее, несомненно, что, вообще говоря, между областями морского прибрежья и областями внутренности страны должны были установиться правильные сообщения, постоянный обмен товаров, людей и идей. В этом и заключается оригинальность дела, выполненного во всемирной истории жителями анатолийского полуострова. Можно сказать, что эта страна состоит из двух областей, вложенных одна в другую: это азиатская земля, вставленная в рамку из европейского прибрежья.
Как область прохода для народов Востока, Малая Азия составляет естественное продолжение плоскогорий Армении и «Индийского ущелья»; но на этой оконечности Азии должна была происходить приостановка в движении племен. Только на северо-западе, там, где море, на Босфоре и Геллеспонте, съуживается до размеров реки, переселения могли совершаться без затруднения с одного континента на другой. В других же местах везде сношения между Европой и Азией производились не перемещением самих населений, но чрез посредство торговли и военных экспедиций. Впрочем, различие почвы и климата между внутренними плоскогорьями и иссеченной окружностью приморских низменностей имело следствием контраст между обитателями тех и других. Переходный пояс между Азией и Европой, между ионийцами с одной стороны, лидийцами и фригийцами с другой, находился на самом полуострове; это в Малой Азии была совершена, гением прибрежных эллинов, изумительная выработка всех элементов искусства, науки, цивилизации, принесенных из Халдеи, Ассирии и Персии, из семитического мира и даже, косвенным образом, из отдаленного Египта; они разработали все эти чужеземные элементы, и все это новое достояние было передано ими своим единоплеменникам на островах Архипелага и на континентальных берегах Греции. Анатолию сравнивали с рукой, протянутой Азией Европе; но эта рука не могла бы распространить своих благодеяний, если бы от одного берега к другому эллины не служили посредниками.
Мало найдется стран в свете, где бы, по выражению известного историка Курциуса, «так много истории было скучено на таком тесном пространстве». На этом поясе поморья, пользующемся таким благоприятным климатом, на этих берегах, так хорошо разрезанных на заливы и полуострова, в этих аллювиальных равнинах, где природа, вспомоществуемая человеком, производит пищевые растения в таком изобилии,—населения должны были стекаться толпой и оспаривать друг у друга почву с ожесточением. С одной стороны, жители плоских возвышенностей и внутренних долин усиливались сохранить в своем владении прибрежные земли Эгейского моря; с другой, народы моряков, торговых людей или пиратов, старались утвердиться на этих, так много обещающих берегах. После длинных превратностей кровопролитной и истребительной борьбы, о которой рассказывают мифы и античные поэмы, победу одержали населения наиболее подвижные, наиболее живые, населения приморские. Греки различных корней или племен: лелеги, ионийцы, доряне, овладели лучшими по положению и удобствам портами, и города, которые они основали, сделались многолюдными и могущественными центрами населения. Там-то из всех элементов, принадлежащих различным цивилизациям Египта, Сирии, Персии, Индии, областей Кавказа, вышло то движение искусства и науки, которое увлекает нас и по настоящую минуту; там истинное начало нашей культуры, наша умственная колыбель. Гомериды распевали там древнейшие песнопения нашей средиземной литературы; ионийское искусство достигло там своей высшей степени изящества и блеска; философы высказали там гипотезы о мироздании, которые до сих пор составляют предмет обсуждения. В одном из городов Малой Азии, в знаменитом Милете, Анаксимандр, Гекатей, Аристагор начертали, слишком двадцать четыре века назад, первые географические карты, на бронзовых досках. А между тем редко отдают справедливость азиатским эллинам, подобно тому, как в течение столетий видели древнюю Грецию сквозь римский мир, так точно, от действия перспективы, видят эллинскую Малую Азию преимущественно как бы в тени Греции; впечатление ансамбля было бы совершенно иное для азиатских населений. Открытия археологов доказывают, что Азиатская Греция стояла не ниже Греции Европейской в отношении произведений искусства, и что первая предшествовала последней. «Ионийская цивилизация была весной цивилизации греческой, это она дала первые плоды культуры, эпос и лирическую поэзию». Малая Азия—родина Гомера, Фалеса, Гераклита, Пифагора и Геродота. Только тогда, как в европейской Элладе весь умственный свет, казалось, сосредоточивался в Афинах, он был рассеян в многочисленных фокусах на берегах Малой Азии: в Пергаме, Смирне, Эфесе, Милете, Галикарнасе.
Конечно, разница велика между античной Ионией и нынешней турецкой территорией Анадоли. Упадок до такой степени очевиден, что одно имя Малой Азии вызывает в уме образ её славного прошлого, а не образ печальной современной эпохи. Язык почти отказывается называть провинции и города их нынешними наименованиями: мы все еще видим их такими, какими они были две тысячи лет тому назад. Однако, было бы несправедливо повторять обычные обвинения против османлисов, как будто бы они были единственными виновниками контраста, который представляет страна в сравнении с тем, чем она была в давния времена. Ведь турецкие завоеватели, как замечает Чихачев, нашли это наследие древности уже в состоянии руины. Сколько побоищ и опустошений пронеслось над этими странами со времени экспедиций римлян до Крестовых походов и до нашествий монголов! Притом же между происшедшими там переменами нет ли таких, которые должны быть приписаны природе или последствиям дурного ведения земледельческой культуры? В настоящее время между странами, которые могли бы быть в большей части покрыты лесами, Малая Азия одна из наиболее обезлесенных. Множество старинных письменных памятников говорят о лесах, существовавших в тех местностях Анатолии, где теперь увидишь лишь обнаженную землю или жалкий кустарник. Истребление лесов, конечно, увеличило крайности температур, разность между зимним холодом и летним жаром; оно влияет также на экономию приточных вод, удлинняя засухи и делая разливы более внезапными. Менее регулируемые в своем течении, воды образовали обширные болота, которые заразили атмосферу и сделали обширные пространства почти необитаемыми. В некоторых низменных равнинах деревни, стоящие на месте древних многолюдных городов, летом обязательно должны быть покидаемы жителями под страхом смерти; в некоторых из наиболее опасных округов действие чумного яда ощущается даже до высоты 1.800 метров над уровнем моря. И не только ухудшение климата уменьшило число жителей миазматическими болезнями, Малая Азия часто бывала очагом эпидемий для западных народов: сколько раз корабли из Леванта заносили чуму в порты Италии, Испании и Франции!
Но, несмотря на теперешнее печальное состояние Анатолии, нет недостатка в признаках, позволяющих надеяться на близкое возрождение страны и на обратное завоевание ее цивилизацией. Капитальное дело современного поколения состоит не в том только, чтобы расширять посредством колонизации поверхность обитаемого мира, изливать, в Африку и в Австралию излишек европейских населений, но также и в том, чтобы опять найти Восток, снова завоевать культурой эту страну нашей колыбели. Подобно морскому приливу, поток которого распространяется круговыми волнами, западная цивилизация охватывает постоянно все окружающие ее страны и не следует исключительно тому направлению с востока на запад, которое так долго было траекторией прогресса. Могучая волна, которая перекатила свои воды через Атлантический океан и омыла берега Нового Света, отливает также в Средиземное море и достигает берегов, которые, казалось, на всегда были покинуты культурой. Уже работа географического исследования почти вполне окончена в Малой Азии для всех главных линий сети, и за этим общим или суммарным ознакомлением теперь следуют местные изыскания, более подробные и более точные. Некоторые города морской окраины принадлежат уже к кругу притяжения Европы, и это движение распространяется все далее во внутрь материка. Горки развалин, могильные курганы, одетые газоном, поломанные колонны, полуразрушенные замки, города, сливающиеся с скалами или покрытые наносами рек и ручьев,—все эти руины оставляли бы глубокое впечатление грусти, если бы не предчувствовалось, что следы смерти исчезнут под новой жизнью. Это обновление уже проявляется на деле. Когда видишь, с каким рвением эллины, армяне, евреи занимаются воспитанием своих детей, готов разделять их веру в будущее. Поколение, которое они приготовляют, не ослабеет перед своей задачей.
В целом прямоугольник Малой Азии представляет плоскость, наклоненную к Черному морю. В южной части полуострова, над берегами Средиземного моря, стоят самые высокие массивы и тянутся главные горные цепи. Северный скат этой средиземной закраины сливается с плоскогорьями центральной Анатолии, а эти плоскогорья разрезаны во всех направлениях реками, долины которых, постепенно расширяющиеся, выходят устьями к Черному морю. Только на севере, там, где берег Малой Азии выдвигается в виде большой выпуклой кривой в воды Понта Эвксинского, возвышаются независимые и как-бы островные массивы между бассейнами рек Кизыл-Ирмака и Сакария, ограничивая на севере центральную равнину, впадина которой еще наполнена остатками внутреннего моря. Горы, окаймляющие в некотором расстоянии южное прибрежье и разделяющиеся на массивы и неправильные цепи, имеют в целом форму полумесяца, выпуклость которого обращена к Средиземному морю, соответствуя таким образом северной кривой черноморского прибрежья. Эти горы южной части Малой Азии обозначаются под общим названием Тавра.
Известно, что в прежнее время это название Тавр было, как и наименование Кавказ, одно из тех неопределенных выражений, которые применялись к самым различным и очень отдаленным одна от другой горам. На всем полуострове встречаются вершины, называемые Давр и Даври, которые представляют собой столько же Тавров, под едва измененными именами. По понятиям большинства писателей древнего мира, Тавр есть совокупность всех линий возвышенностей которые от западных мысов Малой Азии до неизвестных берегов крайнего Востока, образуют диафрагму азиатского континента. В наши дни это имя еще применяется вообще к нескольким различным цепям Передней Азии, но теперь обыкновенно определяют точнее каждую область гор обозначением провинции, где они находятся. Так, армянский Тавр есть совокупность массивов юго-западной Армении, которые прорезывает в своем течении Евфрат, чтобы выбраться к равнинам Месопотамии. Тавр киликийский есть угловой бастион, который возвышается на юго-востоке малоазийского плоскогорья, над долиной реки Сейгун. Затем, по направлению с востока на запад, следуют один за другим Тавры исаврийский, писидийский, ликийский. Местные турецкия названия, смысл которых более определенный, применяются к горным выступам, имеющим ясно обозначенную индивидуальность.
Тогда как в Верхней Армении и Понте, к северу от Мурада, континентальный остов образован Понтийскими цепями, прилегающими к Черному морю, в Анатолии становой хребет выступивших из-под воды земель направляется к Средиземному морю; но поперечный кряж соединяет эти две системы гор, следуя направлению всех черт географического рельефа в этой части Малой Азии, гор, долин и морских берегов. Первое звено цепи, соединяющей Понтийские Альпы с системой Альп Киликийских,—Карабельдаг, вставленный между большим изгибом Евфрата у Эгина и верхними притоками Кизыл-Ирмака. Абсолютная высота этого массива значительна, так как самая высокая вершина достигает 1.764 метров; но цоколь возвышенностей, на котором он стоит, поднимается на 1.500 метров над уровнем моря: поэтому, относительно окружающих плато он представляет лишь скромную гряду холмов. Это и есть начало горной системы Анти-Тавра, которая тянется к юго-западу в виде параллельных хребтов, кажущихся тем более высокими, чем глубже их основание подточено Сейгуном и его притоками. Впрочем, эти стены из скал, прорезанные в разных местах узкими и трудно доступными брешами, действительно повышаются, подвигаясь вперед в южном направлении; до июля месяца вершины Ханзир-дага или «Горы вепрей», Бимбога-дага или «Горы тысячи быков» и других цепей Анти-Тавра остаются убеленными снегом; во многих углублениях между скалами фирновые поля держатся круглый год, Одна из вершин Козан-дага имеет 2.812 метров высоты; к востоку от Сейгуна, одна из вершин Кермез-дага, говорят, достигает даже 3.200 метров. Обильные дожди, получаемые этой южной частью Анти-Тавра, сравнительно с волнистыми плоскогорьями севера, дают ей также более богатую растительность, обширные леса, покрытый газоном, и усеянные цветами склоны гор. Некоторые из долин, где берут начало ручьи, текущие в Сейгун, составляют поразительный контраст разнообразием своих растений и блеском своей зелени с обедневшей флорой центральных областей Малой Азии.
В самой стране, различные отрывки цепей, которые следуют один за другим по направлению с северо-востока на юго-запад, образуя легкую выпуклость со стороны запада, не обозначаются одним собирательным именем. Название Анти-Тавра, даваемое им географами, вовсе не оправдывается, ибо вместо того, чтобы возвышаться напротив Тавра-Киликийского, как соперничающий параллельный массив, они принадлежат к той же орографической системе и составляют лишь продолжение её, хотя слегка разорванное промежуточной впадиной. Анти-Тавр продолжает горы Киликии, подобно тому, как в Пиренеях средиземная цепь продолжает цепь атлантическую, от которой она отделена лишь Аранской долиной. Разрез между двумя половинами Таврских гор есть понижение почвы, в котором проходит река Замантия-су, самый полноводный из западных притоков Сейгуна; на западе тянутся вершины Ала-дага, северной оконечности киликийского Тавра; на востоке массивы Гедин-бали и Козан-даг начинают собою Анти-Тавр; но несколько гряд, которые географы рассматривают как принадлежащие к этой половине Таврской системы, продолжаются на запад от долины реки Замантия-су: таковы массивы Кале-даг и Ханзир-даг. На востоке массив Кермез-даг соединяется, посредством группы Берута, высотой в 2.400 метров, с другими параллельными горными валами, не менее правильными, чем Анти-Тавр, но следующими иному направлению, именно с запада на восток: это—цепи армянского Тавра, которые оттесняют Евфрат к востоку, прежде чем разорваться на ущелья, чтобы дать проход водам реки. На юге, отдельная цепь, точно ограниченная глубокой долиной реки Ак-су, притока Джигуна, составляет юго-восточный вал Малой Азии: это—Гяур-даг или «Гора неверных», названная так по населению, состоящему из армян и греков, которые обитают в её долинах. Этот массив тянется по направлению с северо-востока на юго-запад и соединяется посредством поперечного кряжа с сирийскими горами, известными под именем Амануса. Прерываемый глубокими понижениями гребня, он снова появляется на берегу Александретского залива, чтобы образовать два массива: Джебель-Нур или «Гора света» и Джебель-Миссис. Река Джигун огибает эти горы на юге, извиваясь в широкой аллювиальной равнине; но далее несколько холмов, некогда островных, возвышающихся среди болот, продолжают цепь и оканчиваются круто обрывающимся высоким мысом Кара-Таш или «Черный камень».
Собственно киликийский Тавр начинается величественным массивом Ала-даг или «Пестрая гора», одна вершина которой, Апиш-Кардаг, превышает 3.400 метров; но эти горы высовывают свои верхушки из такого лабиринта других цепей, поперечных или параллельных, что нужно находиться в большом расстоянии, или взойти на какой-нибудь отрог, чтобы увидеть весь ансамбль высокого ряда покрытых снегом вершин. Однако, эта могучая масса, образующая на юго-востоке внешний вал плоскогорья Малой Азии, не составляет раздельной возвышенности для стока вод. Две реки, берущие начало на внутренних возвышенностях, перерезывают насквозь массив Ала-даг, чтобы идти на соединение с Сейгуном, который и сам образуется из всех потоков, выходящих из параллельных долин Анти-Тавра. Два ущелья, которыми пробираются эти реки, Геклю-су и Чекид-су, совершенно недоступны, и от одного до другого склона нужно подниматься на гору по опасным тропинкам; одна из высоких брешей обозначена в старинных дорожниках именем Карга-Кермез, что значит «Непереходимая для воронов». Единственная дорога, которою артиллерийские фургоны могут проникнуть из пояса морского прибрежья во внутренния области Анатолии, поднимается по реке Кинду на севере от Тарса, затем вступает в боковое ущелье Гюлек-богаз, чтобы обойти крутые склоны, господствующие на западе над ущельем реки Чекид-су.
Этот проход «Пил» или Киликийские Ворота, высота которых 966 метров, всегда имел первостепенную стратегическую важность, так как здесь оканчивается диагональная линия Малой Азии между Босфором и Александретским заливом; здесь должны проходить армии, направляющиеся из Константинополя к сирийскому прибрежью или к большому изгибу Евфрата при входе его в Месопотамию. Нет пути, более прославленного в военных летописях, чем этот узкий дефилей, где сходятся дороги полуострова. До Ксеркса и Александра Македонского это ущелье уже было пройдено многими завоевателями; точно также и после них там проходили многочисленные воители. В 1836 году, Ибрагим-паша, победитель Низиба, сильно укрепил Гюлек-богаз, чтобы загородить дорогу турецким армиям; кроме того, все тропы, ведущие через гребень, были сделаны непроходимыми; весь киликийский Тавр был преобразован в неодолимую крепость. И теперь еще видны кое-какие остатки египетских редутов, так же, как крепких замков, построенных генуэзцами и армянами; эти укрепления следуют одно за другим на половине склона над поясом морского прибрежья и прежде сносились между собой посредством телеграфических сигналов; кое-какие следы сооружений видны также в дефилее. Над дорогой, проникающей в Гюлек-богаз, можно совершенно отчетливо различить остатки древней дороги, высеченной в скале ассириянами или персами; в самой узкой части ущелья видны обломки жертвенника и двух обетных столов, надписи которых стерлись, равно как ступени лестниц, над которыми были ворота, запиравшиеся в военное время. В наши дни «Киликийские Ворота» имеют важность только для торговли, несмотря на внутренния таможни, взимающие пошлину с каждого верблюжьего вьюка. Все ущелья, проходящие через цепь Тавра, представляют метеорологическое явление, аналогичное с тем, которое можно наблюдать в ущелье Сефид-руд: в них врывается яростный ветер, дующий попеременно от верховья к низовью и от низовья к верховью, соответственно суточным колебаниям температуры.
Вся западная часть киликийского Тавра, ограниченная на востоке ущельем Чекид-су, известна специально под именем Булгар-даг: это та цепь, которую путешественники, плывущие вдоль морского берега, созерцают на северном горизонте, и которую им называют как «Тавр» по преимуществу. Это, в самом деле, одна из высочайших цепей Малой Азии, одна из тех, которые смелым профилем своего гребня, изрезанного на подобие зубцов пилы, и богатством своей растительности, всего более напоминают горы Западной Европы. Массив Булгар-даг походит на Пиренеи, с той только разницей, что его высшие пики немного выше пиренейских, и что они тянутся параллельно морскому берегу, где виднеются белые города, прячущиеся под шатрами пальм. Самая высокая вершина Булгар-дага, поднимающаяся на 3.500 метров над уровнем моря,—на сто метров выше, чем пиренейский массив Маладетта,—известна в крае под названием Метдезис. Инженер Русэггер, который первый совершил восхождение на эту гору, в 1836 году, дал ей название Аллах-Тепесси или «Божия гора», в память «божественно прекрасной панорамы», которую он созерцал. С этой обсерватории, обрезанной отвесно с северной стороны страшной пропастью, видны все большие пики цепи, высшую кульминационную точку которой занимает зритель. На северо-востоке, горизонт ограничен хаосом гор всевозможных форм и цветов: одни в виде террас, другие в форме пирамид или шпицев, желтые или красные, черные или серые: это—контрфорсы Булгар-дага, где разрабатываются богатые рудники содержащего серебро свинца, называемые Булгар-Маден. Далее высятся другие горы, Ала-даг и Анти-Тавр, параллельные цепи которых очерчивают на небе пересекающиеся линии своих профилей. На севере, на плоской возвышенности, неясно отсвечивают воды больших озер и блистают искрами снега Арджижа, самой высокой вершины Малой Азии. На юге, взор обнимает весь склон гор, с их передними контрфорсами и валами, которые расходятся в разные стороны по почве равнины, как корни дуба. За первым берегом видны еще берега Сирии до Латакие, обрисовывающиеся так же отчетливо, как берега Сицилии, когда смотришь с вершины Этны; посреди голубой поверхности вод, неопределенные контуры, проглядывающие сквозь туман, указывают горы острова Кипра. Хотя расположенная в южной части Малой Азии и вполне выставленная солнечным лучам, цепь Булгар-даг сохраняет снежный покров в течение нескольких месяцев в году и высокие бреши её иногда бывают совершенно завалены снегом. На северном склоне фирны, усеянные каменными глыбами и мелкими камнями, держатся в продолжение целого года: прежде предполагали существование маленького ледника на скатах Чубан-гуйю, одной из гор, соседних с вершиной Метдезис; но образование этих масс прозрачного и голубоватого льда объясняется присутствием значительного источника, который растопляет снег, вскоре превращающийся в лед в холодные ночи.
В то время, как с одной стороны киликийский Тавр поднимается во всю свою вышину, так как основание его ограничено морем, с другой стороны его известняковые стены господствуют над плоскогорьем, средняя высота которого превышает 1.000 метров, и на котором стоят многочисленные массивы, соединяющиеся высокими террасами с цепями Булгар-даг и Ала-даг. Между Тавром и группами Гассан-дага горы следуют одна за другой непрерывным рядом, но эти высоты принадлежат к другой геологической системе, к системе вулканов, пылавших некогда в центре полуострова, на берегах древнего внутреннего моря. Господствующая вершина высится на северо-восточной оконечности этой вулканической области: это могучий конус Арджижа (Арджеха) или Аргейской горы, которая превышает все другие вершины Анатолии, как это было известно уже Страбону, родившемуся в нескольких днях ходьбы к северу от вулкана. По Лихачеву, южный край кратера находится на высоте 3.841 метра над уровнем моря, а некоторые шпицы перпендикулярных или нависших скал поднимаются еще на сотню метров выше.
Высота Аргейской горы, по Гамильтону—3.962 метра; высота Аргейской горы, по Куперу—3.993 метра; высота Аргейской горы, по Тозеру—4.008 метров.
По рассказам редких путешественников, которые, во времена Страбона, всходили на эту гору, взор, при ясном небе, открывал, будто бы, за-раз два моря, Понт Эвксинский и «море Иссийское». Ничего этого нет в действительности. С вершины, правда, созерцаешь необъятный горизонт, но на юге могучие валы Булгар-дага и Ала-дага скрывают Средиземное море, и на северо-востоке едва можно разглядеть неопределенные очертания Понтийских гор.
Аргейская гора стоит на очень высоком цоколе: на севере, Кесарийская равнина, самая низкая на всей окружности, имеет слишком 1.000 метров абсолютной высоты, тогда как на западе горный проход, отделяющий центральный массив от другой вулканической группы, переходит за высоту 1.500 метров. Контрфорсы, придаточные конусы, застывшие потоки расплавленных каменных пород окружают гору в собственном смысле так, что совокупность группы имеет поверхность, превышающую 1.000 квадр. километров. Идя вверх по южному склону, который выбрал Гамильтон, первый из новейших путешественников, совершивших восхождение на Аргейскую гору, поднимаешься последовательно на широкия террасы, расположенные в виде уступов вокруг главной вершины. Верхний конус, имеющий около 800 метров высоты, изрезан глубокими расселинами, и непогоды вырыли там расходящиеся овраги, которые обрисовывают на краю кратера как бы косынку из белого снега, спускающуюся длинными полосами между красноватых шлаков. На этих изрытых откосах малейшей перемены температуры во время ночи достаточно, чтобы заставить их скатываться в снега; они сковываются морозом, но с восходом солнца теплота освобождает их: увлекаемые собственной тяжестью, они прыгают со скалы на скалу над расселинами. Весной, в период таяния снегов, эта артиллерия очень опасна, и восхождение должно быть совершаемо ночью, прежде чем гора проснется. Летом, снег совершенно исчезает с южного ската Аргейской горы, но в глубоком кратере всегда лежат снежные массы, которые образуют там даже настоящие ледники.
Еще в эпоху Страбона эта гора проявляла остатки вулканической деятельности. Склоны её были покрыты лесами, впоследствии исчезнувшими; но равнина была «снедаема внутренним огнем», откуда часто выбрасывалось пламя; в пятом столетии христианского летосчисления Клавдиен описывает «объятые огнем вершины» Аргейской горы. Чихачев говорит о древних монетах, найденных в окрестностях города Кайсарие, на которых (монетах) изображена гора в извержении. В наши дни никому не случалось наблюдать ни фумаролл, ни источников угольной кислоты на склонах вулкана и окружающих его конусах огненного происхождения, но повсюду вид вулканических шлаков, потоков лавы и кратеров такой, какой должен был бы представлять едва охладившийся очаг извержений. Али-даг на северо-востоке, Севри-даг на юго-западе и другие горы сотнями, холмы или простые бугры, которые возвышаются в вулканической области, сохранили свои кратеры. Из всех вулканических вершин, принадлежащих к системе Аргейской горы, самые высокие после главного вулкана,—вершины Гассан-дага, поднимающиеся почти на 3.000 метров; на юго-востоке, этот массив примыкает к другим горам, почти столь же высоким, к вершинам Ешил-дага, который оканчивается над равнинами крутыми стенами и базальтовыми колоннадами; на юго-западе, вулканическая цепь соединяется с массивом Караджа-даг, который продолжается на 200 километров от Аргейской горы. Один из кратеров Караджа-дага имеет чрезвычайно любопытную форму, быть может, единственную в своем роде. Кругообразный холм, который виден в 8 километрах к юго-востоку от Карабунара, посреди небольшого соляного озера, представляет на вершине овальную чашу, край которой постепенно поднимается на восточной стороне и оканчивается нависшим выступом; по всей вероятности, жидкия вещества, извергнутые кратером, застыли на верху жерла, отчего и образовался на внешней стороне конуса выступ в виде носка амфоры.
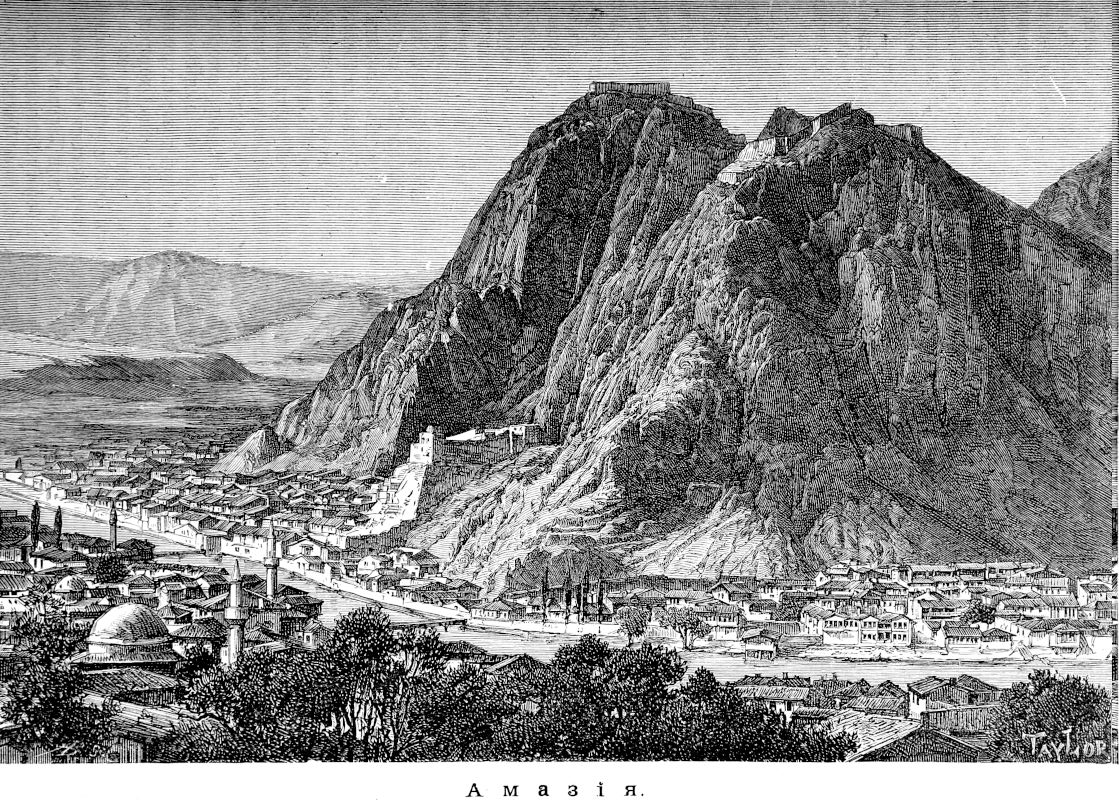
К западу от киликийского Тавра, вся передняя область морского прибрежья, заключающаяся между заливами Тарсским и Адалийским, занята лабиринтом гор, известным под именем Тавра Исаврийского или Трахейской Киликии. Географы не могли еще с достоверностью определить между этими массивами те, которые получили от древних названия Крагус, Имбарус, Андрикус. Впрочем, эти имена применялись преимущественно к горам, которые были видны с берега, какова бы ни была их важность относительно более возвышенных пиков, находящихся внутри материка. Главная группа всей области—Гёк-ку или «гора Неба», высокие вершины которой достигают 3.000 метров; большинство принадлежащих к этой группе второстепенных цепей тянутся по направлению с северо-запада на юго-восток, так же, как параллельные цепи и восточный берег Адалийского залива. Вне группы Гёк-ку мало вершин, которыя поднимались бы выше 1.500 метров. Несмотря на незначительную высоту этих гор, поморье Малой Азии не имеет более крутых берегов, чем берега Трахейской или «Круто береговой» Киликии, названной так в противуположность низменным берегам «Полевой» Киликии, которая простирается у подошвы Булгар-дага, по направлению к Александретскому заливу. Высокие мысы из сланцев, конгломератов, известняков, белого мрамора следуют один за другим без перерыва на всей окружности кривой линии берега, обращенной к острову Кипру, и между этими мысами есть такие, которые поднимаются вертикальными утесами на 200 слишком метров над поверхностью морских вод. Первый мыс, который мореплаватель огибает, пройдя низменные берега Полевой Киликии,—величественный полуостров Кавалерского мыса, Манават османлисов, крутые берега которого состоят из расположенных разноцветными лентами слоев самого причудливого вида. Соединенный с твердой землей плоским берегом, перерезанным прудами, этот полуостров образует естественную цитадель, преобразованную в сильно укрепленное место оборонительными стенами и рвами, высеченными в живом камне; в нескольких километрах к востоку, другая мраморная скала, но совершенно окруженная водой, носящая имя Провансальского острова, тоже увенчана крепостью, и, кроме того, там видны еще развалины домов и часовень. Эти остатки военных и религиозных сооружений, равно как названия мыса и острова, доселе употребляемые прибрежными моряками, напоминают о пребывании здесь христиан: эти две скалы киликийского берега были в числе крепостей, которые Лев, царь армянский, уступил папе, в конце двенадцатого столетия, и где рыцари ордена св. Иоанна Иерусалимского основали приют освобожденных христианских невольников. На запад от Кавалерского мыса другие мысы, менее любопытные по историческим воспоминаниям, столь же живописны: мыс Кизлиман, также соединенный с твердой землей низменным перешейком, состоит из пластов совершенно правильных и представляющих самые разнообразные цвета—красный, фиолетовый, коричневый, желтоватый, синий. Далее следует мыс Анамур, самая южная оконечность Малой Азии.
На севере от горного лабиринта Крутобереговой Киликии возвышается, на подобие острова, массив среди однообразных Кониехских равнин. Эта группа, носящая имя Кара-даг или «Черная гора», столь обыкновенное в землях турецкого языка, лежит на продолжении оси цепей, которые, за городом Коние, продолжаются к северо-западу, на пространстве около двухсот километров. Восточный вал, ограничивающий на западе центральную низменность Малой Азии, перерезан большим числом брешей, и возвышается, средним числом, только на двести или триста метров над уровнем высокой равнины; но на северо-западной своей оконечности он оканчивается массивами Эмир-даг и Кешир-даг, немного более высокими горами, где многочисленные пастухи располагают свои становища во время летних жаров. Западный вал, носящий имя Султан-даг, которым он обязан, может быть, своим более значительным возвышением, представляется в виде настоящей цепи с восточной стороны, над поверхностью озер и болот; но на западе и на севере он сливается во многих местах с гористым плато, где реки, впадающие в Эгейское море, Гедиз-чай, Меандр и их притоки, начинают вырывать свои долины.
К юго-западу от краевой цепи Султан-дага, горы постепенно возвышаются, приближаясь к морю. В Пизидии, где Боз-Бурун или «Седая голова», достигает почти 3.000 метров высоты, направление цепей с севера на восток; в Ликии они ориентированы по большей части с северо-востока на юго-запад. Один массив ликийского Тавра, Ак-даг или «Белая гора», достигает 3.080 метров; Сузуз-даг, стоящий напротив него с восточной стороны, почти не уступает ему по высоте, а Бей-даг или «Главенствующая гора», находящаяся на востоке от Эльмалу, может быть, превосходит Белую гору: он имеет, говорят, 3.150 метров. После Метдезиса, ливийские массивы Ак-даг и Бей-даг самые высокие из таврских вершин, и их большая, близость к морю придает им еще более величественный вид. На склонах, обращенных к северу, массивы ликийского Тавра покрыты или испещрены снегом в продолжение целого года; этой белизне своих вершин многие горы в этой части Малой Азии и обязаны, будто бы, придаваемым им эпитетом бали, имеющим большое сходство с славянским словом «белый», которое также употребляется для обозначения снеговых вершин. Название Тавр тоже сохранилось в местной номенклатуре: цепь, которая начинается у южной оконечности озера Эгердир и образует ствол всех отраслей, направляющихся к морским берегам Ликии, носит имя Даврас или Даурас.
На восточном берегу Ликии высится, достигая 2.375 метров, гора Тах-Талу, Солима древних, в основание которой врезываются ущелья, а средние склоны покрыты деревцами и кустарником: на полуденном склоне этого величественного пика горит день и ночь «Химера», о которой говорят греческие и римские географы и которая подала повод к такому множеству сказок. Огненный источник, Янар или Янар-таш, бьет фонтаном из отверстия глубиной около метра, над которым возвышаются развалины древнего языческого храма. Не видно ни малейшего дыма, который сопровождал бы пламя; в нескольких метрах расстояния, серпентиновая скала, откуда вылетает таинственный огонь, имеет температуру не выше той, какую показывает окружающая почва; в непосредственном соседстве с огненным фонтаном растут деревья, и под тенью их извивается ручей. Часто окрестные пастухи приходят готовить себе кушанье на пламени Химеры, но она отказывается, говорит легенда, варить украденную пищу. Другое отверстие на скале, подобное отверстию Янара, теперь погасло, и там незаметно никакого выделения газа. По временам, рассказывают местные жители, слышен глухой подземный рев внутри горы Тах-талу. Эта область Ликии была известна в древности под именем горы Феникс, и одна из деревень той страны до сих пор сохранила название Финека. Орлы и коршуны беспрестанно парят над объятой пламенем скалой азиатской Финикии. Не этому ли факту, спрашивает английский путешественник Феллоз, должно приписать происхождение легенды о фениксе, постоянно возрождающемся из своего пепла?
Мысы Ликии, как и мысы Крутобереговой Киликии, оканчиваются почти все высокими стенами из беловатого известняка, составляющими резкий контраст с покрывающими их сосновыми лесами. Морское побережье, разрезанное на многочисленные полуострова, обнаруживает там и сям стремление образовать острова, как бы служащие предвестниками архипелагов, прилегающих к западным берегам. Имена, данные греческими и итальянскими мореплавателями, начинают преобладать: так, главный береговой остров, Кастель-Ориццо, вероятно, обязан этим наименованием (Кастель-Россо) красноватым оттенкам своих скал; мыс и острова Хелидан или Хелидония, на юго-восточном углу Ликии, получили свое имя от ласточек, которые кружатся тучами вокруг скал; далее, на восточном берегу, открывается Генуэзский порт (Дженовезе). В Средиземном море мало найдется областей, где морские течения отличались бы такой силой, как в проливах между Хелиданскими островами. Поток, постоянно несущийся от берегов Сирии к западу, следуя вдоль прибрежья Анатолии, ударяется, на юге от Адалии, об утесы, которые выстроились поперег его течения, как громадная плотина, и, отброшенный влево, быстро уходит в открытое море через проходы, которые ему представляет небольшой Хелиданский архипелаг; в некоторых местах скорость течения доходит почти до 5 километров в час. Эти острова очень любопытны также в геологическом отношении своими естественными рвами, образовавшимися вследствие провалов или оседания почвы; три из них перерезаны от одного берега до другого аллеей, до такой степени правильной, как будто траншея была сделана рукой человека: можно подумать, что скала подалась книзу, и вместе с тем налегающие пласты опустились всей массой до высоты нескольких метров над уровнем моря. Другая достопримечательность Хелиданского архипелага—маленький пресноводный ручей, текущий на островке Грамбуза, который, повидимому, слишком мал, чтобы дожди могли питать там столь обильный источник; вероятно, вода происходит с материка и снова выступает на поверхность в виде артезианского колодца, пройдя под проливом, который имеет не менее 52 метров глубины.
Западная область плоскогорья Малой Азии понижается неравномерно к берегам Эгейского моря. На передней, обращенной к морю, стороне этого плоскогорья находятся многочисленные вырезки морского прибрежья, усложняемые, кроме того, боковыми разветвлениями, подобными разветвлениям норвежских фьордов. Возвышенности раздробляются как ткань, которая сечется. Хребты, расположенные по большей части в виде параллельных линий, понижаются уступами к морю; затем другие цепи, отделенные от первых глубокими брешами, возвышают свои крутые склоны над равнинами и, в свою очередь, прерываются широкими пространствами, как бы проливами зелени, которые соединяют поля двух покатостей; далее, гряды высот снова появляются, но их наклонное основание уже покрыто морем; они выдвигаются в виде полуостровов, и последние их выступы или мысы погружены в глубокую воду; однако, твердая земля исчезает только для того, чтобы далее в море снова выступить на поверхность в виде гористых островов, которые продолжаются другими, более низменными островами, затем островками и подводными камнями. Горы континента и островные массивы—одна и та же формация. Если уровень моря поднимется, то на окраинах твердой земли появится бахрома из новых островов; если, напротив, воды понизятся, то архипелаг морского прибрежья превратится в полуострова.
Гористое разветвление, которое отделяется от плоскогорья, чтобы развернуться к юго-западу от полуострова, начинается у горделивого массива Баба-даг, «гора Отец», Кадмус древних (1.860 метров). Этот массив огибается на востоке низменностью, через которую долина Меандра, притока Эгейского моря, сообщается с долиной реки Дулуман-Чай, впадающей в Родосское море. На юг от Кадмуса, цепь Боз-даг или «Серой горы» понижается постепенно до 1.000 метров, затем до 600 метров и еще менее; отрасли, выдвигающиеся далеко в море на углу полуострова, состоят лишь из невысоких холмов, впрочем, очень круто обрезанных и отличающихся бесконечным разнообразием форм. Горы на островах выше, чем горы соседнего поморья; так, гора Аттайрос, на острове Родосе, достигает 1.240 метров; гора Ластос, на о. Карпафосе, только метров на двадцать ниже; с этой высшей точки совершенно отчетливо видна восточная оконечность острова Крита, которую соединяет с Малой Азией, между морскими пучинами глубиной слишком 2.000 метров, порог, покрытый слоем воды толщиной от 300 до 400 метров. На север от Родоса, другой полуостров продолжается островом Сими; длинная узловатая ветвь, оканчивающаяся на мысе Крио, снова появляется на Низиросе, пирамидальная гора которого поднимается на высоту 692 метров. Далее, полуостров Галикарнасский едва отделен от острова Коса и архипелага Калимноса и Лероса узкими проходами, загроможденными подводными скалами. Замечательно, что гора Низирос, единственный еще действующий вулкан Малой Азии, высится как раз на углу полуострова Анатолии, между Эгейским морем и глубоким бассейном восточной части Средиземного моря. Фумароллы, температура которых превышает 100 градусов по Цельзию, выходящие из земли столбы пара и образование кристаллов серы—таковы в настоящее время единственные видимые явления вулканической лаборатории. Деятельность подземного очага усиливается во время сезона дождей; тогда дно кратера превращается в серное озеро, имеющее температуру кипящей воды. Искатели серы превратили кратер в завод. Одна греческая легенда говорила, что Низирос не что иное, как отрывок острова Коса, брошенный в море богом; но в действительности совершенно наоборот: окружающие земли образовались из обломков, которые жерло вулкана Низирос выбросило во время своих извержений. Островок Яли, лежащий между островами Косом и Низиросом, есть груда этих вулканических туфов, чередующихся с травертинами, которые очень богаты ископаемыми. По Горсе, этот островок, будто бы, испытал ряд колебаний уровня, которые продолжаются и в наши дни, свидетельствуя таким образом о постоянном движении лавы в подземном очаге. В этих областях Средиземного моря прилив и отлив очень чувствительны; разность уровня вод превышает 30 сантиметров в заливе Сими.
Тот же массив Баба-даг, образующий общий ствол отраслей на юго-западе полуострова, выделяет из себя также к западу ветвь, прерываемую на некотором расстоянии одна от другой глубокими долинами. Несколько вершин, имеющих слишком 1.000 метров высоты, показываются над гребнями, и около западной оконечности этой гряды массив Беш-Пармак или «Пятипалый» поднимает одну из остроконечных вершин на 1.371 метр и примыкает к «горделивому треугольнику Латмуса, похожему на фронтон храма». На север от долины Меандра, цепь гор, выступающая вне плоскогорья, гораздо правильнее, чем массив Баба-даг и его продолжения. Эта цепь, известная под разными местными именами, но вообще обозначаемая греками древним названием Мизогис, продолжается без перерыва на протяжении около 140 километров, от пролома Меандра, близ Буладана, до мысов Скала-Нова, в Эфесском заливе. Средняя высота самых высоких вершин не превышает 1.000 метров; голые и серые, они следуют одна за другой правильно с востока на запад, без промежуточных брешей, однако, в целом эта цепь имеет очень разнообразный вид, благодаря конгломератовым террасам, идущим вдоль её основания на высоте 100 и 150 метров, и которые разрезаны горными потоками на кубы и пирамиды. Возделанные пространства, расположенные уступами одно над другим, и густые деревья, наполняющие небольшие долины своей зеленью, составляют яркий контраст с красными цветами горных обвалов и осыпей. Все эти земли, которые обваливаются и покрываются рытвинами, и обломки которых уносятся ручьями, отлагающими их в виде наносов в долине Меандра, суть, очевидно, остатки отложений, которые образовались в предшествующую геологическую эпоху, в то время, когда берега Анатолии были глубже погружены в море.
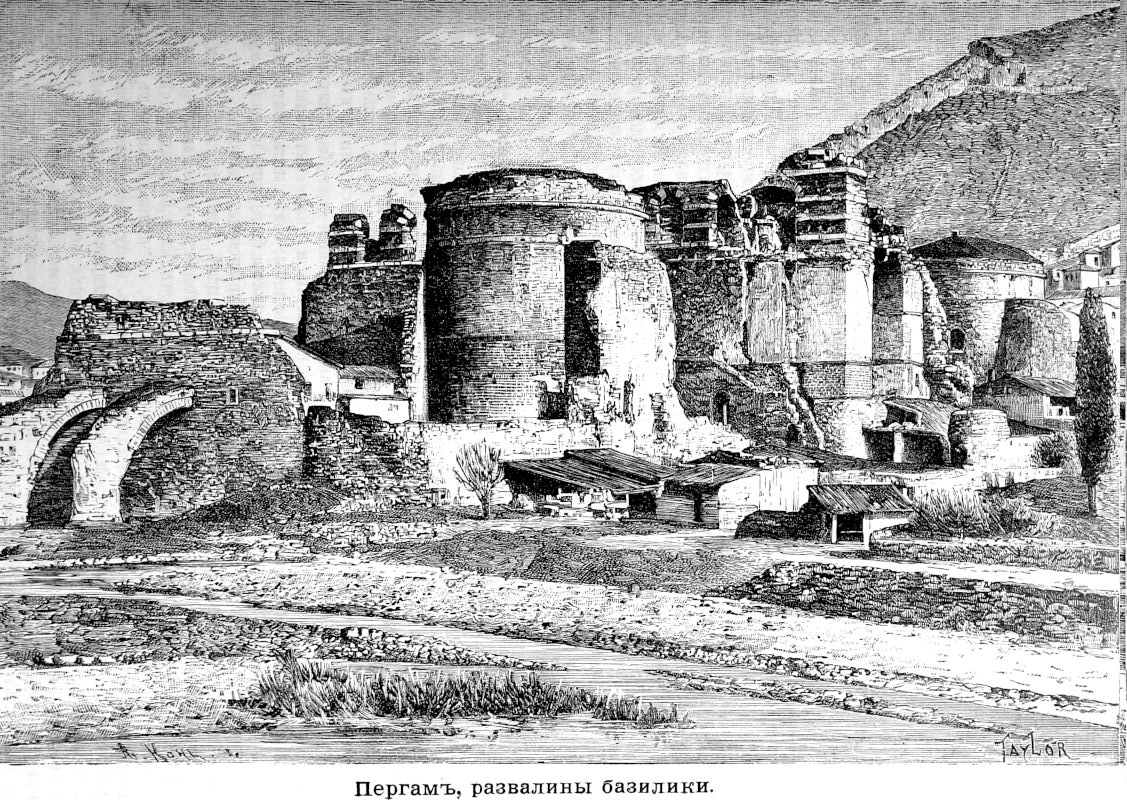
Около западной своей оконечности, цепь Мизогис понижается. Порог, под которым проходит подземным туннелем, на высоте 243 метров, железная дорога из Смирны в долину Меандра, отделяет главную цепь от массива Гумиш-даг или «Серебряной горы», изобилующей залежами наждака и других руд. На юге, группы холмов окаймляют низовье Меандра, напротив крутых склонов массива Беш-Пармак; далее виднеется в профиле направляющийся с востока на запад зубчатый хребет Самсун-даг, Микале древних. Каменистая пирамида Рапаны, возвышающаяся посреди этой цепи, над большими сосновыми лесами, лавровыми и митровыми рощами, есть самая высокая вершина азиатского прибрежья Эгейского моря (1.258 метров); непосредственно на западе закругляется верхушка другой вершины, немного пониже предъидущей, но считающейся у эллинских моряков священной горой; остаток часовни, посвященной пророку Илии, который сменил в почитании ионийцев бога солнца Аполлона-Мелькарта, стоит на краю пропасти, откуда открывается чудный вид на прибрежье и море с его заливами, проливами и островами. Напротив, как бы на расстоянии брошенного камня, виден остров Самос, оканчивающийся на западе массой Керки, еще более высокой (1.750 метров), чем вершины хребта Микале; далее, за Самосом, показываются вершины Никария, тоже поднимающиеся выше 1.000 метров, а к юго-западу различные острова, между прочим, Патмос, выделяются на фиолетовом фоне моря, то в виде черных теней, то в виде светлых паров. Пролив, отделяющий Самос от наидалее выдвинутого в море мыса Микале, имеет всего только 2 километра в ширину; да и то еще маленький островок, где отдыхают дезертиры, переправляющиеся через пролив вплавь, делит канал на два рукава. Из города Самоса население могло видеть воздвигнутый на противуположном берегу материка крест, на котором был распят тиран Поликрат «в своей славе». Этот крайний выступ твердой земли сохранил свое античное имя Микале, измененное перестановкой слогов в Камилла или Камелло.
На север от цепи Мизогис тянется другая цепь такой же высоты, Тмолус древних, которая оканчивается непосредственно на восток от Смирны громадным молом, где на половине ската приютилось несколько деревень. Вместе обе эти цепи, Мизогис и Тмолус, закругляются в виде обширного полукруга, обхватывающего долину Кайстра. На запад от этой долины, горы образуют независимые массивы, некогда отделявшиеся от внутренних гор широкими проливами. Массив Аламан-даг, Галлезион древних, сохранил свой островной вид: зелень, окружающая его откосы и проникающая в его ущелья, ограничивает мыс так же резко, как ограничивала бы вода моря; мало найдется гор, которые имели бы более горделивый вид, чем эти скалы, которых пирамиды с гладко обрезанными плоскостями или гранями, опирающиеся на скаты горных обвалов, поросших травой, отличаются такой правильностью формы, что их можно принять за гигантские памятники, воздвигнутые рукой человека; каменные стены, идущие вдоль горных хребтов, крепости, стоящие на краю пропастей, кажутся как бы принадлежащими к архитектуре горы. В противуположность почти всем другим цепям азиатской Ионии, нормальное направление которых от востока к западу, Аламан-даг выстроил свои пики в направлении с севера на юг, точно так же, как и другая, более западная ветвь, которая перерезывает Смирнский полуостров и примыкает к вершинам-близнецам Двух-Братьев, лесистые склоны которых господствуют над входом в рейд. Далее, другая цепь, превосходящая предъидущие по абсолютной высоте, следует тому же направлению с юга на север, от мыса Карака до Мимаса или мыса Кара-бурун; длинная гряда гор высится, как вал, на полуострове Эритрейском поперег Смирнского залива. Ближайший к морскому прибрежью остров Хиос ориентирован таким же образом и, следовательно, отличается от других островов азиатского архипелага протяжением по направлению меридиана. Названием своим этот остров, может быть, обязан снегу (хион), блистающему на его горах в течение нескольких зимних дней или нескольких недель. Самая высокая вершина, гора св. Илии, возвышающаяся на северной стороне острова, достигает 1.267 метров.
Формации острова Хиоса принадлежат к различным геологическим эпохам, и земля продолжает до сих пор работать, чтобы производить новые образования. Эруптивные горные породы, серпентины, порфиры, трахиты, встречаются во многих частях острова, так же, как и напротив, на полуострове Эритрейском: два параллельных массива, которые разделены рукавом моря, имеющим на пороге всего только 25 метров глубины, находятся в той же площади вулканического колебания. Известно, что эта область Ионии, одна из богатейших в Малой Азии по термальным источникам, есть одна из тех, которые наиболее страдают от подземных потрясений. В течение второй половины настоящего столетия немногие из естественных бедствий могут сравниться с страшным землетрясением, которым был разрушен город Хиос. В октябре 1883 года, почва снова дрожала преимущественно под Эритрейской областью, где виден маленький кратер, близ Чесмы. Земля разверзлась в Лацатском округе. Источники иссякли, тогда как новые ключи стали бить из земли; многие поселения и целые кварталы в городах были повалены; более пятидесяти тысяч человек должны были жить в палатках подле своих разрушенных домов.
Горная цепь, которая соединяется невысоким порогом с горами Тмолус и изгибается к западу, чтобы ограничить на севере Смирнскую бухту, не принадлежит к числу замечательных выпуклостей рельефа Малой Азии, ни по занимаемому ею пространству, ни по высоте своих вершин, но она имеет громкое имя в мифологии и истории. Это—Сипилос, где царствовал Тантал, а самая высокая гора, которая видна напротив Смирны, и усеченный конус которой обрисовывает свой профиль над другими, более близкими вершинами, есть «трон Пелопса» где возседал родоначальник, давший свое имя Пелопоннезу. Древние писатели говорят о страшных землетрясениях, разрушивших многие города и «поглотивших» гору Сипил. Теперь неприметно никаких следов этих катаклизмов, но вся западная часть цепи, обозначаемой турецким именем Яманлар-даг, образована из эруптивных горных пород. Западная часть Сипила, Манисса-даг или «гора Магнезии» состоит из меловых формаций, которые круто обрываются, на северном склоне, грозными стенами, разнообразно окрашенными, изрытыми гротами, изрезанными трещинами, которые, повидимому, проходят через всю гору насквозь. Таким образом, в массе горы открываются настоящие траншеи, совершенно правильные, и проникают далеко внутрь скал, между двумя вертикальными стенами. На восток от горы Магнезии (Манисса-даг), Сардская равнина, по которой протекает река Гермус или Гермул, простирается вдоль северного склона цепи Тмолус, известной в этом месте под названием Боз-дага или «Серой реки». Эти скаты, как и скаты массива Мизогис над долиной Меандра, обставлены по бокам красноватыми каменными обломками в форме террас, которые разрезаны реками на отдельные массивы, и края которых усажены пирамидами и обелисками, изваянными действием дождевых вод. Более высокие, чем береговые террасы Меандра, террасы Сардской долины также составляли часть сплошных слоев, которые занимали всю ширину равнины, прежде чем Гермус открыл себе ущелье для прохода к морю, между Сипилосом и горами Гассан-дага.
Массивы, возвышающиеся против цепи Тмолус, на север от Алашерской долины,—отчасти вулканического образования, и одна из заключающихся между ними равнин носит название «Спаленной страны»: это—Катакекаумене древних греков. Один конус извержения, Кара-Девлит или «Черная чернилица», поднимающийся приблизительно на 150 метров над равниной Кула, состоит сплошь из вулканического пепла и черноватых шлаков, подающихся под ногами. На запад от «Черной чернилицы» два другие конуса извержения, с правильным кратером, следуют один за другим на расстоянии 11 километров, и так же, как Кара-Девлит, дают начало потокам лавы, спускающимся с севера к Гермусу. Самый западный конус, Каплан-Алан или «Пещера тигра», представляет наверху чашу, имеющую около 800 метров в окружности. В течение неизвестного числа веков застывшие потоки лавы сохранили шероховатость своей поверхности; как во времена Страбона, они и теперь вполне заслуживают данное им греками имя «Спаленной страны»: бесплодные и черные, эти каменные реки из вулканических шлаков составляют поразительный контраст с зеленеющими равнинами, которые их окаймляют. Кроме трех конусов извержения, откуда изливаются эти лавы, относительно нового происхождения, вероятно, принадлежащие той же эпохе, как и вулканы Оверни, есть несколько других, которые можно различить только по их профилю, и которые одеты такой же точно растительностью, как и окрестные местности; склоны их покрыты виноградниками и возделанными полями, как и окружающая их равнина; наконец, на плоскогорьях, состоящих из сланца и мрамора, высятся другие вулканы, относящиеся к предшествовавшей эпохе. На запад от Катакекаумене, маленький бордюр из гор, Кара-даг, сопровождает с северной стороны долину Гермуса; поддерживаемое им плато осело или выгнулось к центру и заключает как в овальном цирке озеро Мермере, уровень которого лишь немного превышает уровень моря.
Массив Мурад-даг, составляющий западное продолжение хребта Эмир-даг, может быть рассматриваем как горной узел, откуда расходятся цепи, и откуда вытекают главные реки на северо-западе полуострова. Там берут начало Меандр, Гермус, Фимбриус. Мурад-даг, одна из высоких цепей Малой Азии, поднимающаяся слишком на 2.000 метров, продолжается на запад Ак-дагом или «Белой горой», достигающей высоты 2.440 метров. Далее продолжаются правильные разрезы цепи Демирджи-даг, выделяющей из себя на юг отроги, между прочим величественный трахитовый массив Каяджик, возвышающий свои вертикальные стены над тенистыми долинами, где извиваются воды потоков. Цепь Гассан-даг, составляющая продолжение главного хребта на востоке и на юго-западе, загибается к горе Сипилос, как бы для того, чтобы замкнуть долину Гермуса; железная дорога из Смирны в Магнезию открывает себе проход через эти ущелья, куда прежде проникали только опасные тропинки. Другие массивы, которые примыкают к Демирджи-дагу, и которые превращают в обширный лабиринт всю область, простирающуюся к Мраморному морю, закругляют по большей части свои вершины в виде длинных волнообразных повышений рельефа: это так называемые яйлы или покрытые пастбищами плато, где племя юрук располагает свои становища в летние месяцы. Однако, некоторые цепи имеют резко очертанные гребни: таков, напротив Митилены, массив Мадара-даг, сиенитовый вал, образованный в большей части из каменных глыб, нагроможденных одна на другую в виде фантастических фигур и представляющих всевозможные переходные степени формаций, от твердой скалы до сыпучего песку; там и сям обвалившиеся скалы повисли между двух крепко стоящих столбов и служат крышей мазанкам пастухов. Митилена, которую Эдремидский залив отделяет от открытого моря, тоже окружена горами; одна вершина, носящая имя «Олимпа» и иногда блистающая снежным покровом, отражается в водах внутренней бухты, называемой Масличным портом. Этот большой остров анатолийского прибережья принадлежит, очевидно, к двум орографическим системам: западный его берег составляет продолжение троянского берега, тогда как восточный идет параллельно берегам Мизии. Этому двоякому образованию остров и обязан своей причудливой конфигурацией, представляющей форму веера, протянувшего свои ветви на юг, где море проникает внутрь острова в виде кругообразных заливов.
Главный узел гор Троянской области или Троады находится не в центре территории, но на одной из её оконечностей, непосредственно на север от Эдремидского залива. Там возвышаются лесистые кручи массива Каз-дага, «Гусиной горы», Иды или Гаргары древних; однако, эти два названия должны быть применяемы в их поэтическом значении к другим, более центральным горам Троады, так как с высшей вершины Каз-дага,—достигающей 1.769 метров, по Шмидту,—но окруженной другими вершинами, почти столь же высокими, не видно равнины Илиона, и оттуда Зевс не мог бы наблюдать борьбу троянцев с греками на берегах Скамандра. Для современных эллинов Ида—священная гора, как она была священной и для верующих предшествовавших религий: близ вершины видны остатки келий и часовен, и накануне Ильина дня поселяне из окрестных деревень приходят провести ночь на самом пике, чтобы приветствовать земным поклоном дневное светило, когда оно появится на горизонте: без сомнения, эта церемония не изменилась с тех пор, как античные поэты воспевали славную вершину, которую солнце освещает своими первыми лучами, и которая «распространяет по лицу земли божественный свет». Ида еще одета великолепными лесами, от которых она и получила свое имя; но большая часть передних гор, каковы Кара-даг или Карали-даг, обезлесены и покрыты лишь мелким кустарником. Там и сям, однако, на горных пастбищах сохранились рощи сосен, не тех хвойных дерев, которые все походят друг на друга стройностью ствола и формой ветвей, как деревья европейских лесов, но сосен, которые все отличаются одна от другой положением ствола и движением ветвей. Большие сосны громадного парка, рассеянные в беспорядке по мягкой мураве, не группируются в лес довольно густой, чтобы задерживать взор; становища юруков приютились в лощинах, стада овец рассыпаны белыми пятнами по зелени лугов, по известняковым склонам и трахитовым куполам соседних гор. Внизу, на Троянской равнине, змеится Мендере, за ним показывается извилистый Дарданельский пролив, а еще далее виднеется сверкающее море, с его островами, Тенедосом, Лемносом, Имбросом, Самофракией, иногда даже треугольный профиль Афонской горы. Последние холмы системы Иды, заключенные между Безикской бухтой и входом в Дарданеллы, образуют вдоль моря островной вал, ограниченный на юге устьем ручья, бывшего некогда рекой Скамандром, на севере дельтой Мендере или Симоиса Гомера. В открытом море, обнаженная глава Тенедоса, на холмах которого нет ни одного дерева, и несколько островков, менее бедных зеленью, образуют маленький архипелаг против троянского прибрежья.
Южный берег Мраморного моря также окаймлен орографической системой в миниатюре, отдаленной от южных гор наносами и третичными формациями, которые указывают на проход в этом месте древнего пролива между морями Черным и Эгейским. Сизикский полуостров, соединенный с городом узким перешейком, тоже заключает импонирующую горную массу, Капу-даг, и острова Мраморного архипелага, названные так по их мраморным скалам, суть выступающие из-под воды горы. На восточной стороне Пропонтиды, полуостров, ограниченный линией, проведенной через заливы Гемликский и Исмидский, также имеет свой островной массив, главная вершина которого, Саманлу-даг, достигает высоты 830 метров, и который оканчивается на западе грозным Боз-Бурун или «Серым мысом», извержением траппа, подобным многим другим массивам из горных пород огненного происхождения, которые возвышаются в виде конусов на берегу моря и озер, равно как в аллювиальных равнинах страны. Полуостров Вифиния, между Исмидским заливом и Черным морем, тоже заключает вулканические формации, пробивающие другие горные породы. Плывя вдоль берегов Понта Эвксинского, от Босфора до устья Сакария, видишь на материке следующие один за другим многочисленные трахитовые мысы, изрытые при основании гротами, куда вливаются, как в пропасть, волны моря.
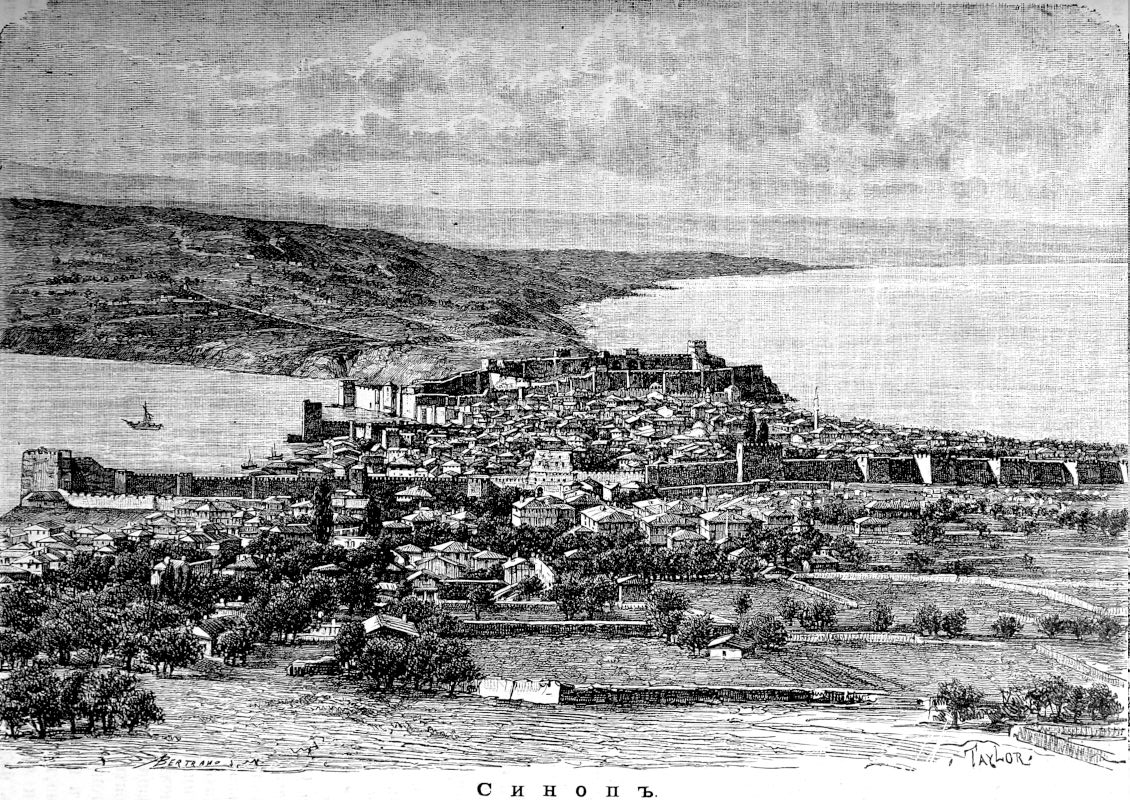
Олимп, вершину которого можно ясно различить из Константинополя в виде лазурной линии, обрисовывающейся на южной стороне горизонта, соединяется лишь неправильными хребтами с узлом Мурад-дага, во внутренних горах. Это почти уединенный массив из гнейса и гранита, одетый на скатах диоритом и мрамором. Он больше импонирует своей массой, нежели высотой; на него легко взбираться, даже на лошади, и в Бруссе много есть резидентов и приезжих, которые совершили восхождение на эту гору. Однако, абсолютная высота центральной вершины, называемой Кечиш или Монашеской горой, еще неизвестна; она, вероятно, немногим менее 2.500 метров и дает высокочтимой горе эллинов первое место между вершинами северной части Малой Азии.
Высота Олимпа, по карте Киперта—1.888 метр.; высота Олимпа, по карте Петермана—1.930 метр.; высота Олимпа, по карте Стебницкого—2.494 метр.; высота Олимпа, по барометрич. измерениям Мармона—2.247 метр.; высота Олимпа по барометрич. измерениям Фритша—2.120 метр.
Это на запад от галатского Олимпа, первый массив, получивший имя Олимпа, а между пятнадцатью или двадцатью горами, которые носят это название,—означающее «Блистательный» или «Лучезарный»,—он сделался в народном воображении главным жилищем богов. Олимп вифинский по своему северному склону, Олимп мизийский по южному склону, он стоит на рубеже двух провинций, господствуя над необъятным горизонтом, простирающимся от вод Черного моря до островов—Мраморного архипелага и до берегов Фракии. На юго-восток гора Олимп продолжается узким и правильным хребтом, который далее делится на параллельные валы. На восток от Олимпа, горы «с многочисленными складками», другие горные цепи, менее высокие и изрытые потоками, тянутся по направлению к долине Сакария. Эта река проходит узкими дефилеями, между вертикальных стен или крутых склонов, но соседния вершины имеют лишь незначительную высоту над уровнем плоскогорья. Горы в собственном смысле снова появляются лишь на восток от реки Сакария и области степей, занимающих центральную часть Малой Азии.
В своей совокупности различные горные цепи, поднимающиеся на плоской возвышенности, между бассейнами Сакария и Кизыл-Ирмака, так же, как между бассейнами Кизыл-Ирмака и Ешил-Ирмака, суть валы незначительной относительной высоты, направляющиеся с юго-запада на северо-восток. Только небольшое число из этих цепей достигают высоты 2.000 метров; многие же из них не что иное, как удлиненные возвышения рельефа, покрытые пастбищами, яйлы, посещаемые только пастухами, но которым, вероятно, предстоит современем сделаться местопребыванием многочисленных оседлых населений, так как почва там плодородна, и воздух, постоянно обновляемый верхними течениями атмосферы, которые проходят над лощинами и болотистыми степями, отличается замечательной чистотой; эти травяные плато были бы великолепными санитарными станциями для жителей Константинополя и городов морского прибрежья. Между всеми цепями этой области самая высокая— Ала-даг, одна из тех многочисленных «Пестрых гор» или, может быть, «Божественных гор», которыми изобилуют турецкия страны; её кульминационные точки возвышаются слишком на 2.400 метров над уровнем моря. Массив Ала-даг состоит из пяти параллельных валов, понижающихся пологими скатами к окружающим плоским возвышенностям и заключающим прелестные долины, которые зеленеют между их стенами. Массивы Илькас-даг, к югу от Кастамуни, Эльма-даг или «Яблонная гора», к югу от Ангоры, тоже поднимаются выше 2.000 метров; к западу от Сиваса, горная цепь, состоящая, как и Ак-даг, из параллельных стен, ориентированных по направлению с юго-запада на северо-восток, и отделенных травяными плато, заслужила по своим зимним снегам название Ак-даг или «Белой горы»; Чихачев определяет абсолютную высоту самых высоких её скал в 2.200 метров. Илдыз-даг или «Гора звезд», составляющая северо-западное продолжение предъидущих массивов, имеет только около тысячи метров высоты; но далее горы снова повышаются, чтобы соединиться с понтийскими цепями. Один высокий хребет тянется вдоль побережья, на север от глубокого понижения, по которому протекает река Ликус или Гермили. Сиениты, порфиры, покрытые там и сям осадочными породами, образуют остов этих гор, верхние пласты которых пробиты во многих местах выступающей наружу застывшей лавой: на север от Шибин-Карагиссар, один вулкан, Казан-Кая или «Каменный котел», поднимает свой выемчатый кратер слишком на 2.500 метров. Эта приморская цепь, может быть, самая богатая в Анатолии по содержанию руд железных, медных, серебряных, и кучи шлаков, оставленные древними халибами, встречаются повсюду среди лесных чащей: здесь, как гласит легенда, были изобретены молот и наковальня.
Так как Малая Азия в целом имеет форму плоской возвышенности, наклоненной к северо-западу, то истечение вод необходимо происходит главным образом в этом направлении; воды больше, чем с половины Анатолии, текут, через бассейны двух Ирмаков и Сакария, в Черное море, но затем остаются еще в центральной части полуострова обширные замкнутые низменности или котловины, где дождевые воды скопляются в виде соляных озер. В предшествовавшую геологическую эпоху, когда средиземный климат был влажнее, чем теперь, эти впадины, лучше наполненные водой, вероятно, изливали излишек своей жидкой массы в море, но общее обсыхание почвы, перевес испарения над количеством получаемых атмосферных осадков, мало-по-малу произвели разделение пресноводных озер на площади соленой воды.
Самый замечательный бассейн на северо-востоке Анатолии—это бассейн древняго Ириса, нынешнего Ешил-Ирмака, который получает почти все воды с западных разветвлений Анти-Кавказа. Тозанлы-су, рассматриваемый как главная река, по причине направления его долины, вытекает из небольших долин массива Кес-дага, южный склон которого дает начало Кизыл-Ирмаку, самой большой реке Малой Азии. Он течет сначала на запад, затем поворачивает к северу и северо-востоку, принимая в Амазии исток озера Ладик-гель, которое теперь незначительно, но которое во время Страбона занимало обширное пространство. Древний Ликус, называемый турками Келькит или Гермили, есть самая полноводная из этих двух потоков; он берет начало гораздо восточнее, чем Тозанлы-су, под меридианом Требизонда. Ниже соединения, река не получает более притоков; она прорезывает ущельем последнюю цепь скал, которая некогда преграждала её течение; затем, вступив в приморскую равнину, разливается в дельту, наносы которой завоевали у моря пространство в несколько сот квадратн. километров. Вода Тозанлы-су, слегка солоноватая, насыщена также известью, и жители Амазии принуждены часто менять ирригационные водопроводные трубы, залепляемые известковою накипью. Непосредственно к востоку от Ешил-Ирмака, течет река, часто трудно переходимая и гораздо более полноводная, чем можно было бы ожидать, судя по незначительной поверхности её бассейна; это Терме, имя которой напоминает греческое название Термедон; высокая долина, по которой бежит этот горный поток, прославилась в древности связанным с нею воспоминанием об амазонках, о которых до сих пор еще говорят местные легенды. Одна из скалистых цепей, которые перерезывает река Терме, продолжается на запад до Ириса и далее под именем Мизон-даг или «Горы амазонок».
В целом Кизыл-Ирмак или «Красная река» турок, Галис (Соленый) древних греков, описывает обширную кривую концентрическую с Ешил-Ирмаком или «Зеленой рекой»; развернутая длина его течения, между истоками в массиве Кес-даг и его дельтой, по меньшей мере в пять раз превосходит прямое расстояние между этими двумя крайними точками. В верхней своей части Красная река иногда совершенно пересыхает летом; даже в среднем течении и в соседстве дельты она переходима в брод во многих местах. Так как потеря вследствие испарения превышает прибыль от дождевых вод, то вода в реке имеет солоноватый вкус, который оправдывает её греческое имя: в равнине Сивас она проходит через пласты каменной соли, откуда жители Армении получают свой обычный запас соли. Как и Ешил-даг, Красная река делится при устье на большое число ветвей или рукавов, далеко выдвигающихся своими наносами в Черное море. Часто древние географы, следуя примеру Геродота, принимали Галис за предел Малой Азии: по ту сторону этой реки для них простиралась обширная Трансгализийская Азия. Выбор этой границы объясняется военной важностью трех значительных рек: Термодона, Ириса, Галиса, следующих одна за другой в небольшом расстоянии, как рвы крепости. Наростание аллювиальных образований в дельте Кизыл-Ирмака было значительно: тысячу лет тому назад город Паврахе, нынешний Бафра, был на берегу моря; в семнадцатом столетии он еще был посещаем кораблями.
Хотя более длинный, чем все другие реки Малой Азии, Кизыл-Ирмак катит жидкую массу, меньшую, чем Сакария (Сагарис или Сагариас древних). Эта последняя река очень извилиста, как и оба Ирмака восточной Анатолии; тогда как по прямой линии расстояние от её истоков до устья только 200 километров, общее протяжение её течения по крайней мере в три раза больше. Нормальное направление горных цепей этой области—с востока на запад, а потому в этом же направлении текут Сакария и её притоки, и чтобы достигнуть моря, они пробираются узкими поперечными долинами или дербентами (воротами), перерезывающими ряды гор. В низовой равнине Сакария, быстрая и несущая много землистых частиц, часто меняла русло, и византийские летописи рассказывают о значительных гидравлических работах, которые предпринимались с целью исправления её течения. Несколько проектов канализации этой реки были также и в наши дни представлены турецкому правительству: по одному плану, составленному французскими инженерами, предполагалось сделать Сакарию совершенно судоходной во всякое время года до расстояния 250 километров вверх от устья посредством шлюзованных запруд; в некоторых трудно-проходимых частях течения должны были быть прорыты боковые обходные каналы, а бар реки был бы избегнут прорезом морского берега, продолженным до глубокой воды. Эти проекты не были приведены в исполнение, и Сакария служит лишь для мелкого местного судоходства и для сплава леса и угля, отправляемых в Константинополь. Проекты постройки железных дорог, которые тоже не были осуществлены, отвлекли общественное внимание от планов канализации; но сакарийский путь необходимо должен быть улучшен, так как он составляет часть поперечной линии Малой Азии, отрывка кратчайшей дороги между Англией и Индией.
Озерная область центральной Анатолии прежде, кажется, составляла часть бассейна Сакарии, по крайней мере в большей половине её протяжения. Туз-гель или «Соляное море», называемое также Ходж-гиссар-гель, по имени соседнего города, лежащего близ его восточного берега, есть самый обширный озерный бассейн во всей Малой Азии: оно имеет не менее сотни километров в длину, по направлению с северо-запада на юго-восток, и нигде менее 12 километров в ширину; оно занимает площадь слишком в тысячу квадратных километров, но, вероятно, летом средняя глубина его не превышает двух метров. Около середины озера Туз-гель видны следы плотины длиной около 12 километров, которую один султан велел построить для прохода своей армии, и вода, окаймляющая эту насыпь, не представляет ни в одном месте более метра толщины. В действительности, это озеро есть не что иное, как необозримая площадь рассола. В сезон засух окружность его можно признать лишь по растениям берегов; твердая соляная плита продолжается на многие мили; но редко случается, чтобы можно было побывать на озере летом, по причине недостатка воды и продовольствия. Зимой вода наполняет всю озерную впадину, но поверх воды простирается соляная кора, имеющая различную толщину, от 5 сантиметров до 2 метров; эта кора приобретает вообще довольно крепкую консистенцию, так что по ней можно ехать на лошади; благодаря тому обстоятельству, не раз совершали переезд от одного берега до другого, как по льду замерзшего озера. Солепромышленники, эксплоатирующие Соляное озеро, ограничиваются выламыванием поверхностной плиты, которую вода отделяет от дна из синеватой глины, и вскоре на месте вынутой образуется новая соль. По анализу Филипса, вода озера Туз-гель, более тяжелая и более соленая, чем вода Мертвого моря, содержит слишком 32 части соли на 100 частей воды, и удельный вес её равен 1.240. На востоке возвышается несколько холмов, зелень которых составляет яркий контраст с блестящей белой поверхностью равнины.
На запад от озера Туз-гель, равнина усеяна многочисленными прудами, солоноватыми водными площадями, болотами и ручьями соленой воды, которые летом совершенно испаряются и высыхают, а зимой возобновляют свое течение. Некоторые из них отличаются от бассейна Туз-гель содержанием солей. Так, озеро Булук-гель, недалеко от деревни Эскиль, заключает преимущественно сернокислую магнезию и глауберову соль. Синеватые глины, составляющие ложи временных озер, которые простираются на юге и на западе в громадном бассейне степей, тоже пропитаны горькими магнезиевыми солями, без примеси хлористого натрия: близкое соседство соляных и горько-соленых озер, происходящее от прохождения источников через различные по составу слои земной коры, представляет довольно обыкновенное явление в замкнутых бассейнах; на берегах горько-соленого озера Булук-гель один из этих магнезистых ручьев был обследован от источника до устья. Пропитанный магнезиевой солью ил не имеет такой твердости, как ил, покрывающий эффлоресценции обыкновенной соли; он остается в вязком тестообразном состоянии, которое делает ходьбу затруднительной, так как грунт подается при малейшем давлении. Самые сухия пространства степи покрыты травой, которую очень любят коровы и которая распространяет восхитительный запах, когда лошадь раздавит ее копытом; в Коние из травы приготовляют душистое масло, запах которого показался путешественнику фон-Мольтке по меньшей мере столь же приятным, как розовая эссенция. Около центра равнины, между озером Туз-гель и городом Коние, близ станции Обрукли, видна лужа на дне ямы глубиной в 60 метров.
Кроме озер Центральной Анатолии, которые находятся в степях, прилегающих к Большому Соляному озеру, и составляют, очевидно, часть древнего, более обширного бассейна, вытекавшего на север через реку Сакария, есть другие резервуары, которые, хотя занимают отдельные долины в почти замкнутых цирках, повидимому, принадлежат к той же покатости Понта Эвксинского. Пороги, возвышающиеся над бассейнами, ущелья, где видны следы речных течений, указывают во многих местах следы некогда существовавших сообщений. Пруды, разсеянные в низменности, которая разделяет массивы Эмир-даг и Султан-даг, и представляющие попеременно то водные площади, напоминающие горные озера Альп, то простые болота, окруженные солью, тоже, повидимому, принадлежали прежде к приморскому бассейну Центральной Анатолии: на севере посредством пролива равнин, который открывается из Афиум-Кара-Гиссара в Кютайе, на юге посредством широкого пролома, перерезывающего вал Эмир-дага.
В области нижнего течения река Сакария принимает в себя воды, вытекающие из одного озера, незначительного по величине, но очень любопытного, как вероятный остаток образовавшейся путем размывания долины, которую открыли себе воды Черного моря, прежде, чем пробить далее на западе узкий проход Босфора. Это—озеро Сабанджа, в древности Софон, поверхность которого лежит на 31 метр выше уровня моря. В сравнении с другими озерными бассейнами Плоскогорья, оно очень глубоко, ибо лот достает в нем дно только на глубине 36 метров; однако, оно есть лишь остаток существовавшего некогда обширного внутреннего моря, так как окружающая почва состоит из размельченных в порошок земель, которые были отложены водами, и на которых теперь малейший ветерок поднимает облако пыли. На юге, высокие холмы, покрытые высоким лесом и кустарником, составляют резкий контраст с бесплодными кручами противуположного берега. При первом взгляде на местность кажется, что озеро Сабанджа указано самой природой, как внутренний порт для судоходного пути между Мраморным и Черным морями через Исмидский залив и нижнее течение реки Сакарии; глядя с высот, господствующих над долиной, подумаешь, что достаточно сделать небольшой прокоп, чтобы соединить эти два моря. Плиний Младший предлагал императору Трояну это дело канализации, и следы, которые были видны в его время, свидетельствовали, что это предприятие уже было начато Митридатом, Ксерксом или каким-либо другим царем древности. Проект был возобновляем в различные эпохи, со времени царствования султана Солимана Великолепного, и инженеры неоднократно приступали к делу, но без результата. Раздельный порог слишком высок, чтобы в стране, столь мало торговой, как Анатолия, стоило труда предпринимать это прорытие соединительного канала или постройку лестницы шлюзов между Исмидским заливом и озером Сабанджа. По приблизительной нивеллировке Гоммер-де-Гелля, подтвержденной впоследствии точными исследованиями, порог, состоящий из моласса, стертого водами, находится почти на высоте 41 метра; линия железной дороги проходит немного выше. Следовательно, относительный уровень земли и моря изменился по крайней мере от 40 до 50 метров с тех пор, как закрылся морской пролив Сабанджи, то-есть со времени события, которое, может быть, совпало с открытием Босфорского прохода. Вдоль окраины Понта Эвксинского видны еще во многих местах и на различных высотах, до 30 метров, покинутые водами берега, покрытые раковинами, которые и теперь еще принадлежат к черноморской фауне. Нет области более любопытной, как эти изменчивые перешейки и проливы между Европой и Азией, но их новейшая геологическая история еще не вполне известна. Не знают даже с достоверностью, каков порядок изменений выходного течения и входного противотечения между морями Черным и Мраморным; неизвестно даже, не представляет ли уровень двух морских поверхностей какой-либо разницы. Воды Понта Эвксинского, которые притекают ко входу, в Босфор, следуя вдоль берегов Турции, не могут все проникнуть в воронку пролива; образуется нечто в роде водоворота или противотечения, которое уносит жидкую массу вдоль берегов Анатолии: средняя скорость этого течения, которое заметно до Синопа, от 2 до 3 километров, даже до 4 километров против Инеболи. У подножия маяка этого порта были в первый раз констатированы правильные приливы и отливы в Черном море: на соседних берегах Босфора Видаль-Наке нашел, что два суточные колебания уровня вод изменяются от 9 до 12 сантиметров, смотря по состоянию ветра. Проникая в ручей Инеболи, приливная волна поднимается вверх по течению в виде очень энергичного маскарета до 2 километров расстояния от устья.
Озеро Исник или Никейское есть пресноводный бассейн, как и озеро Сабанджа, и также сообщается с морем посредством истока. На западе, Гемликский залив вдается далеко внутрь материка, как-бы для того, чтобы соединиться с озером Исник, которое, без сомнения, и само было морским заливом в предшествовавшую эпоху; расстояние от моря до озера всего только около 12 километров, а разность уровней не превышает 30 метров. На юго-западе другой озерный бассейн, сохранивший свое греческое имя Аполлония в форме Аболонта или Аболуния, занимает площадь, почти равную площади Никейского озера, и так же, как это последнее, имел, кажется, более обширное протяжение в эпоху, относительно недавнюю; берега озера Аполлония и недавно выступившие из-под воды острова усеяны раковинами столь же ярких цветов, как и раковины, покрывающие берега соседнего моря. Приток этого озерного бассейна соединяется с значительной рекой Сусурлю-чай, почти напротив впадения другого ручья, который приносит лишния воды озера Манияс, называвшагося в древности Милетополитес или Афанитес. Таких же размеров, как озеро Аполлония, резервуар Манияс находится равным образом на очень небольшом возвышении над уровнем моря. Он заканчивает собой на западе цепь озер, которые следуют одно за другим параллельно южным берегам Мраморного моря, и которые, повидимому, составляют остатки древней Пропонтиды между Эгейским морем и Понтом Эвксинским. Из четырех больших озер этой цепи, озеро Аполлония наиболее утилизируется для целей судоходства; его прибрежные жители, греческой расы, плавают по водной площади в торговых барках, переходя из одной деревни в другую.
К западу от реки Сусурлю-чай и озера Манияс, маленький бассейн реки Коджа-чай, древнего Граника, отчасти питается водами Иды и отделяет массивы Троянской области от остальной Анатолии. Коджа-чай, так же, как соседния речки, бывает настоящей рекой только после сильных дождей или во время таяния снегов, но тогда опасно переправляться через нее, и её желтоватые воды распространяются далеко в Голубое море. Между этими потоками, которые являются попеременно то бешеными реками, то маленькими ручейками, змеящимися в песках, есть один, который поэмы Гомера прославили на вечные времена: это—Мендерех; но несмотря на такую славу этого потока, ученые до сих пор еще спорят по вопросу о том, следует ли отожествлять его с Симоисом или со Скамандром. По мнению большинства историков и археологов, Мендерех есть гомеровский Симоис; напротив, Шлиман, счастливый исследователь Гиссарликских руин, признает в нем, согласно этимологии нынешнего имени Ксанф, ту реку, «прекрасные воды которой, запруженные нагроможденными трупами, не могли более течь до божественного моря». Вид почвы доказывает, что Троянская равнина есть одна из областей Малой Азии, которые наиболее изменились с античных времен. Остов гор и холмов, закругляющихся амфитеатром вокруг равнин, по которым протекает Мендерех, мог подвергаться лишь незначительным переменам вследствие обвалов или размываний, но промежуточная равнина, некогда отчасти покрытая прудами, обсохла. Кордон дюн, красивая дуга которого соединяет холмы Эрен-кой с мысом Кум-кале или «замок Песков», защищал наполнение, которое производилось в равнине наносами реки Мендереха и других проточных вод. Извилистые потоки, проходящие по этому лабиринту болотистых лугов, не носят никаких судов, и Калафат, «местечко конопатчиков», где прежде строились суда, представляет теперь собрание хат, населенное земледельцами и затерянное среди земель. В настоящее время наносы реки Мендерех, увлекаемые в море, подхватываются течением Геллеспонта и уносятся далеко в Эгейское море; только часть ила отбрасывается на мыс Кум-Кале, крепость которого засыпана песком до самых зубцов стен. Прежде река Бунарбаши, которую, по мнению большинства путешественников, следует считать Скамандром Гомера, соединялась с Мендерехом посредством болотистых водных площадей; но в виду того, что порог, разделявший бассейн Бунарбаши и покатость Безикской бухты, имел всего только несколько метров высоты, признали полезным прорыть там водосточный ров и таким образом отбросить воды в Тенедосское море. Вследствие этого, маленькая скалистая цепь Сигейского мыса, увенчанная могильными курганами, превратилась в остров. Глубокая траншея, открывающаяся около южной оконечности этой цепи, но на уровне более высоком, чем уровень нынешнего рва, доказывает, что уже в очень древнюю эпоху, быть может, даже в троянские века, занимались урегулированием распределения вод в этих плодоносных местностях.
Реки, изливающиеся с горы Иды и с соседних массивов в Эгейское море, не имеют достаточно обширного бассейна, чтобы давать сколько-нибудь значительный сток воды; но между этими потоками Тузла-су или «Соляная река», берущая начало на южном склоне горы Иды, отличается странной формой своей долины: вырывая себе рытвину в этих снеговых высотах, река течет параллельно берегу Эдремидского залива, чтобы броситься в Эгейское море севернее мыса Баба-Кале. Вместо того, чтобы прямо спуститься к соседнему морю, она остается отделенной от него стеной скал, вдоль подножия которой она течет на протяжении около 100 километров. При выходе долины, стены гор, белые с синими, красными и желтыми прожилками, везде раздроблены множеством ключей соленой воды; из почвы равнины повсюду пробиваются струйки, температура которых от 78 до 90 градусов по Цельзию, и которые соединяются в один горячий ручей, впадающий в реку Тузла-су. Из этих вод можно было бы извлекать огромное количество соли, но, по Чихачеву, годовая добыча этого минерала едва достигает там 18 или 20 тонн.
Три реки, Мадара-чай, Ходжа-чай, Бакир-чай, следуют одна за другой в южном направлении; но первая река этой покатости, несущая обильные воды, есть Гедиз-чай, древний Гермус или Гермос, который делает плодоносными лидийские равнины. Зарождаясь близ города Гедиз, который дает ей свое имя, эта река уходит из гор рядом ущелий, затем извивается длинными излучинами в Сардской равнине, некогда озерной. Маленькое солоноватое озеро Мермере, наполняющее котловину гор, на севере этой равнины, и которое, вследствие испарения, постепенно понизилось до уровня, едва превышающего морской уровень, есть, может быть, остаток внутреннего моря, которое занимало Лидийскую равнину и которое ушло через Менеменский дефилей между Сипилосом и Гассан-дагом. У выхода этих ущелий, Гедиз-чай, несущая в своих водах массу землистых частиц, не переставала увеличивать материк на счет залива; все пространство, в несколько сот квадр. километров, которое простирается к югу от Менемена, между западными мысами Сипилоса и Фокейскими горами, есть завоевание реки, представляющей попеременно засеянное хлебом поле и обширную водную площадь во время разлива. Маленькие пригорки, бывшие прежде островами, теперь соединены с твердой землей. Плиний указывает на мыс Левке, как на землю, отвоеванную таким образом у вод, и этот мыс, известный у турок под именем Трес-Тепе, находится в наши дни в 4 слишком километрах от внешнего берега, отделенного от Смирнского залива рыболовными лагунами.
Разделенный на несколько рукавов, Гедиз-чай продолжает отодвигать море на всей окружности своей дельты, но весьма неравномерно, смотря по направлению главных течений. Прежде он изливался главным образом в сторону запада к холмам Фокеи; в настоящее время устья дельты выдвигаются на юг, как бы для того, чтобы загородить вход в Смирнский порт. В период разливов море делается мутно-желтым на большое расстояние от устья реки. С восточной стороны, во всем порте, вода утратила свою прозрачность; только в редких случаях, от действия течений и при благоприятных метеорологических обстоятельствах, она принимает такой же вид, как воды в открытом пространстве Эгейского моря; восточная часть залива приняла вид озера, и если не будут предприняты своевременно работы, для защиты порта от речных наносов, он отделится от моря и сделается совершенно обособленной водной площадью. Это лишь вопрос годов, и уже можно вычислить с точностью эпоху, когда пролив должен закрыться. Перед главным устьем Гедиз-чая корабли находят еще отверстие в 2 слишком километра, где глубина варьирует от 20 до 40 метров, но на востоке фарватер, съуженный между укрепленным мысом южного берега и песчаной отмелью северных плоских берегов, имеет всего только 43 метра в ширину, а глубина его, около 10 метров, уменьшается ежегодно от 2 до 3 сантиметров. Бури иногда вдруг углубляли проход, но после этих внезапных углублений медленный процесс обмеления возобновляется, и дно снова повышается. По вычислениям инженеров, глубина фарватера уменьшится до 12 метров к 2000 году; большое судоходство со Смирнским портом сделается очень затруднительным, даже невозможным, если до того времени не восстановят на нижнем Гермусе его прежнее течение к Фокее, так, чтобы отбросить речные наносы во внешний залив.
Южные реки покатости Эгейского моря тоже принадлежат к числу потоков-«тружеников», которые завоевали обширные пространства у моря, чему помогало, может быть, постепенное поднятие морского прибрежья. В то время как Гедиз-чай угрожает только Смирнскому порту, Кайстр или Кучук-Мендерех, то-есть «Малый Меандр», древняя «Лебединая река», давно уже засыпал илом порты Эфеса, а Большой Меандр превратил во внутреннее озеро Милетский порт. Ни в какой другой части света работа засыпания речными наносами не совершается с такой быстротой, если принять во внимание незначительный сток этих речек, которые нельзя сравнивать с большими реками, каковы Нил, Рона или По. Так, хотя общая длина течения Малого Меандра, со всеми извилинами, не более 125 километров, а площадь его бассейна всего только 3.000 квадр. километров, хотя годовое количество выпадающей дождевой воды там, в среднем, на одну пятую менее, чем на французской территории, однако, эта река наполнила своими наносами порты Эфеса, засыпала илом лиман, который, по свидетельству историка Льва Диакона, существовал еще в двенадцатом столетии христианской эры, и выдвинула берег на 8 километров в море. Такия значительные перемены заставляют предполагать, что колебания уровня почвы также участвовали в перемещении морского прибрежья. Точные нивеллировки, производимые в подземных постройках гидравлических сооружений древнего Эфеса, позволят разрешить эту проблему физиографии.
Буюк-Мендерех или «Большой Меандр» есть, в самом деле, одна из полноводнейших рек Анатолии; между её истоками и устьем развернутая длина течения около 380 километров, и некоторые из притоков Меандра имеют не менее 100 километров протяжения; взятый в целом, бассейн занимает площадь около 23.900 квадр. километров, что дает возможность исчислять нормальный сток реки в 200 слишом кубич. метров в секунду, на основании среднего количества дождей, выпадающих в этой стране. Меандр берет начало на плоскогорье, вытекая из маленького озера Гойран, почти на высоте 1.000 метров над уровнем моря. Вскоре по выходе из озерного бассейна, он исчезает в расселине известняковой скалы, чтобы выйти на поверхность к востоку от Динейра, затем еще раз скрывается под землей, после чего вторично появляется подле самого города. У подошвы только-что пройденных им скал Меандр вступает в обширную равнину, бывшую некогда озером, и хотя течет на поверхности земли, перестает быть видимым, скрываемый чащами камышей, которые окаймляют его на расстоянии целых километров: эти тростники, среди которых извивается скрытый от взоров Меандр, те самые, которые легенда изображает нам наклоняющимися от берегового ветра, чтобы повторять без конца свою однообразную песню о позоре царя Мидаса. По выходе из этой равнины, Меандр, удвоенный в объеме присоединением к нему другой реки, Банас-чай, пробирается узкими горными теснинами, затем вступает в великолепные равнины, которые, за исключением нескольких коротких каменистых пространств, продолжаются до самого моря; в этом месте он, кажется, имеет уже весь свой объем; в время разлива, это настоящая большая река, подмывающая свои берега, открывающая себе новые русла, образующая или разрушающая острова. Другая река, повидимому, едва уступающая ему по величине, Чорук-су, древний Ликус, идет ему на встречу и смешивает свое течение с его водами; водные площади, происходящие от боковых инфильтраций, распространяются далеко по равнине и придают реке в иных местах вид обширного болота. Инкрустирующие источники сотнями бьют из земли на берегах Ликуса и вливают в его русло свою воду молочно-белого цвета. Кажется, что во времена Геродота слепки, образуемые на обоих берегах этими известковыми водами, соединялись так, что простирались в виде свода над рекой; поток исчезал на пространстве пяти стадий, то-есть около километра. Теперь этот туннель уже не существует, но и до сих пор можно еще признать нависшие стены, припаянные осадками к скале. Ак-су или «Белая вода», облепляющая и превращающая в камень река, которая наиболее способствовала образованию свода, переместилась к верховью, известковый свод обвалился, и Ликус снова течет под открытым небом. В короткое время колеса мельниц, отстроенных на берегу реки Ак-су, исчезают под облепляющим их каменным кругом, а деревья, на которые падает её вода, скоро превращаются в скалы.
Гора, господствующая над слиянием Меандра и Чорук-су, опоясана при основании, на протяжении нескольких километров, правильной двух-этажной террасой, высота которой над равниной около 90 километров; эта терраса, где видны, на тридцать километров кругом, блистающие на солнце белые потоки, точно молочные каскады, была вся целиком образована слепками окаменяющихся источников: большинство путешественников дают ей название Памбук-Кале (или Памбук-Калесси), «Хлопковый замок», без сомнения, по причине беловатых куч, отложенных водами; однако, местные жители ясно называют его Тамбук: это Гиераполис (священный город) греков. С верхнего этажа, окаймляющего гору, в виде площади, шириной от пятисот до шестисот метров, бьют из земли наиболее многочисленные и наиболее обильные термальные источники; в одних температура воды 60 градусов, в других 50 или даже только 40 или 36; все они имеют вкус слегка кисловатый и железистый, все выделяют угольную кислоту. Почва покрыта слоями бугорчатого травертина, отложенными этими источниками; повсюду видны следы прежних русл, покинутых вследствие перемещения источников, которые, повысив свои верхния закраины и берега своих каналов истечения, открыли себе выход ниже. Горячие ручейки, которые не могли найти себе выхода через какую-нибудь боковую трещину, не переставали подниматься над плоскогорьем и текут в верхнем желобе высокой стены, которую отложения очень обильного потока окаймили сталактитами. Одна из этих слепленных из отложений извести стен, пробитая у основания ручьем недавнего происхождения, сохранила только свой верхний слой, представляющий естественный пролет, обшитый, словно бахромой, навесами свода, которые походят на льдины замерзших каскадов. Эти явления «преобразования воды в камень» живо поражали древних. Страбон говорит, что вода Гиераполиса так быстро переходит в твердое состояние, что если ее отвести в канал, то этот канал тотчас же превращается в монолитовую стену. По словам Витрувия, тамошние жители этим способом возводили заборы вокруг своих полей. Во времена Страбона, в окрестностях Гиераполиса существовала пещера, откуда выделялся углекислый газ, смертельный для всякого, кто им дышал. Новейшие исследователи тщетно искали этой наполненной газом пещеры.
Но древние писатели ничего не говорят об истинном чуде Тамбука. Вся окружность верхней террасы исчерчена каскадами, и даже там, где воды уже не льются более скатертью или ракетами, соседния стены, образовавшиеся из сростков извести, которые были отложены другими ручьями в их бегстве, кажутся и сами настоящими водопадами: перед этими массами молочно-белого цвета, ступеньки которых поднимаются одна за другой по склону горы, стоишь точно перед каким-то замерзшим потоком: кажется, что Ниагара остановилась и застыла. Из шести больших каменных водопадов один в особенности поражает зрителя своими громадными размерами: это южный утес, расположенный непосредственно под руинами античного Гиераполиса. Известковые инкрустации, отложенные фонтанами Тамбука, принадлежат к числу удивительнейших образований нашей земли; нигде медленная и непрерывная работа капли воды не является в более грандиозном виде. В котловине верхней террасы, у подножия длинных скатов горы, несколько источников соединяются в небольшой пруд глубиной слишком 3 метра, усеянный разбитыми карнизами и колоннами из белого мрамора, обломками обрушившагося портика. Термальный ручей, вытекающий из пруда, перерезывает плато и проникает под своды дворца или гимназии, стены которых он покрыл слоем известковой накипи толщиной около 5 метров, затем соединяется с другим нормальным ручейком и льется со ступеньки на ступеньку на закраину утеса. Количество ниспадающей воды незначительно, но, глядя снизу, подумаешь, что этот каскад, скатерти которого сливаются с его каменным ложем, водопад какой-то исполинской речки; зимой, весной и даже летом по утрам пары, поднимающиеся с теплой воды и носящиеся в атмосфере, еще более увеличивают иллюзию: сквозь эту легкую дымку пара кажется, что видишь падение бурного потока. Когда, приближаясь к утесу, который развертывается обширным кругом около полкилометра в окружности, убеждаешься, что падает только тонкая прозрачная скатерть воды, невольно сравниваешь тогда бугорчатые пласты ослепительной скалы с обвалом ледника. Как лед Альп, травертин Гиераполиса примешивает к своей белизне прекрасные оттенки нежно-голубого цвета; кроме того, там и сям он отливает розовым и зеленым цветами, как алебастры и мраморы. Грандиозный в своих размерах, этот амфитеатр прелестен в деталях своих белых или слабо-окрашенных скал; ниспадая, вода, постепенно охлаждающаяся, разливается маленькими волнами, из которых последняя останавливается, отлагая известковый рубец или ободок; таким образом каждый уступ состоит из водоемов с круглой верхней закраиной, под которыми следуют один за другим новые бассейны в форме кропильницы. Вода спускается со ступени на ступень, словно по колоссальной «лестнице Нептуна». Но в своем течении она повсюду окаймляет и украшает узорами поверхность камня; нет уголка скалы, который она не изваяла бы причудливыми арабесками.
Ниже ручьев, которые приносят ему инкрустирующие воды Тамбука и соседних высот, Меандр извивается в своей широкой равнине, образуя те изгибы и повороты, которым дали его имя (меандр значит излучина). Правда, что этот поток спускается «излучинами» до самого моря и, кажется, много раз, описав дугу, опять возвращается на то же место; но в этом отношении малоазийская река далеко уступает некоторым другим рекам: он не описывает завитков, подобных завиткам Лота, Сены и Шьера, он не имеет бухт и бухточек, как заливы Миссисипи, у которого дуга низовья приближается к кривой верховья и наконец соединяется с ней. В целом, течение Меандра имеет лишь местные извилины и вовсе не представляет больших уклонений от общего направления, подобных изгибам Кизыл-Ирмака и Сакарии, к которым с гораздо большим правом можно было бы применить то, что греческие географы говорили некогда о Меандре, что «он течет, поднимаясь обратно к своему собственному истоку».
Особенно замечателен Меандр, как река-«работница». Геологическая работа, совершенная им в последние двадцать три столетия, так велика, что в этом отношении с ним не может сравниться никакой другой поток того же объема, и нет ничего удивительного, что для объяснения этой громадной работы ученые должны были прибегнуть к гипотезе поднятия почвы,—гипотезе, которая, впрочем, до сих пор еще не подтверждена непосредственными наблюдениями. Существовавший в древности Латмийский залив, на берегу которого находился приморский город Милет, и который простирался на север до подошвы холма, где стоял храм богини Приены, перестал быть заливом; от него осталось только озеро, Капикерен-Денизи или Акис-чай, западный берег которого отстоит от моря в 17 километрах по прямой линии. Бывший остров Ладе, к западу от Милета и к северу от нынешнего течения Меандра, теперь не более, как выступ материка среди внутренних болот. Поверхность пространства, завоеванного рекой в течение двадцати трех веков, может быть исчислена в 325 квадр. километров; средним числом, речной «нос» выдвигался вперед на десять метров в год. Допуская, что во всей этой области новых отложений море имело глубину только в 20 метров, следовательно, гораздо меньшую, чем глубина других пространств в заливах Малой Азии, и давая десять метров среднего возвышения наносам Меандра,—повышаемым каждым последовательным наводнением, соразмерно удлиннению дельты,—общее количество земель, отложенных рекой в эти две тысячи триста лет, было бы около десяти миллиардов кубических метров, что составит 500 кубич. метров в сутки. Пропорция эта не представляет чего-либо чрезвычайного, так как, например, Брента, порядок течения которой был изучен с наибольшей тщательностью, отлагает каждый день в лагуну Киоджиа массу грязи в восемь раз большую, хотя по количеству катимой воды итальянская река уступает Меандру. Но вероятно, что масса, отложенная этой азиатской рекой, много превышает предполагаемую толщину в 30 метров, потому что, по Чихачеву, уровень озера Акис-чай, постоянно поднимаемый увеличивающимся порогом из речных наносов, находится на 29 метров выше уровня моря. Как бы то ни было, дельта Меандра есть одна из тех, где соединились все элементы, чтобы возбуждать удивление грандиозностью совершившихся геологических преобразований: здесь мы видим заливы, занесенные песком, острова, соединившиеся с материком, города, погребенные под слоем ила. С высоты вершин, господствующих над равниной, и особенно с пиков Самсун-дага, поднимающихся непосредственно на севере от морского прибрежья, можно обозревать расстилающуюся под ногами и теряющуюся в отдаленной перспективе всю область дельты, с извилинами нынешнего Меандра, бесчисленные пересекающиеся русла ложных рек или «старых Меандров», губы устья, далеко выдвинутые в море, окрашенное до самого горизонта в желтый цвет мутными водами реки, правильные кривые береговых кордонов, прерываемых через известные промежутки рыболовными протоками, и, внутри, земель, концентрические дюны прежних берегов, последовательно покинутых водами моря с распространением речных наносов. Белая линия у подошвы зеленой горки указывает местоположение Палатии, составляющей все, что осталось от славного города Милета.
На покатости Малой Азии, обращенной к югу, первое озеро, лишния воды которого изливаются в Средиземное море, есть, повидимому, как и Акис-чай, половина бывшего морского залива, замкнутого недавними речными наносами и постепенно возвышенного порогом, который образовался в низовье: это—Кеджез-лиман, лежащий теперь, по Чихачеву, на 29 метров выше уровня моря. Подобно бассейну Акис-чай, озеро Кеджез-лиман, постепенно обновляемое реками, наполнено чуть солоноватой водой. Никакое историческое свидетельство не говорит об отделении лимана Кеджез от открытого моря; даже во времена Страбона, Каунус занимал часть порога, ограничивающего озеро с южной стороны: следовательно, прошло уже, по крайней мере, восемнадцать или девятнадцать веков с тех пор, как бывший залив превратился в озеро; но очертание морского прибрежья изменилось, так как город, стоявший тогда на самом берегу моря, теперь удален от него на 8 километров. Недалеко оттуда, близ Макри, есть очевидное доказательство колебаний почвы прибрежья. Один саркофаг, построенный на сухом берегу, покрыт серпулами и источен морскими животными до трети его высоты: следовательно, он когда-то погружался в воду и теперь опять находится на твердой земле. На прибрежье Малой Азии берега Лидии—единственные, где кораллы, принадлежащие к виду cladaeora caespitosa, строят обширные рифы; красный коралл родится также на дне моря, но ветви его слишком малы, чтобы стоило труда ловить его.
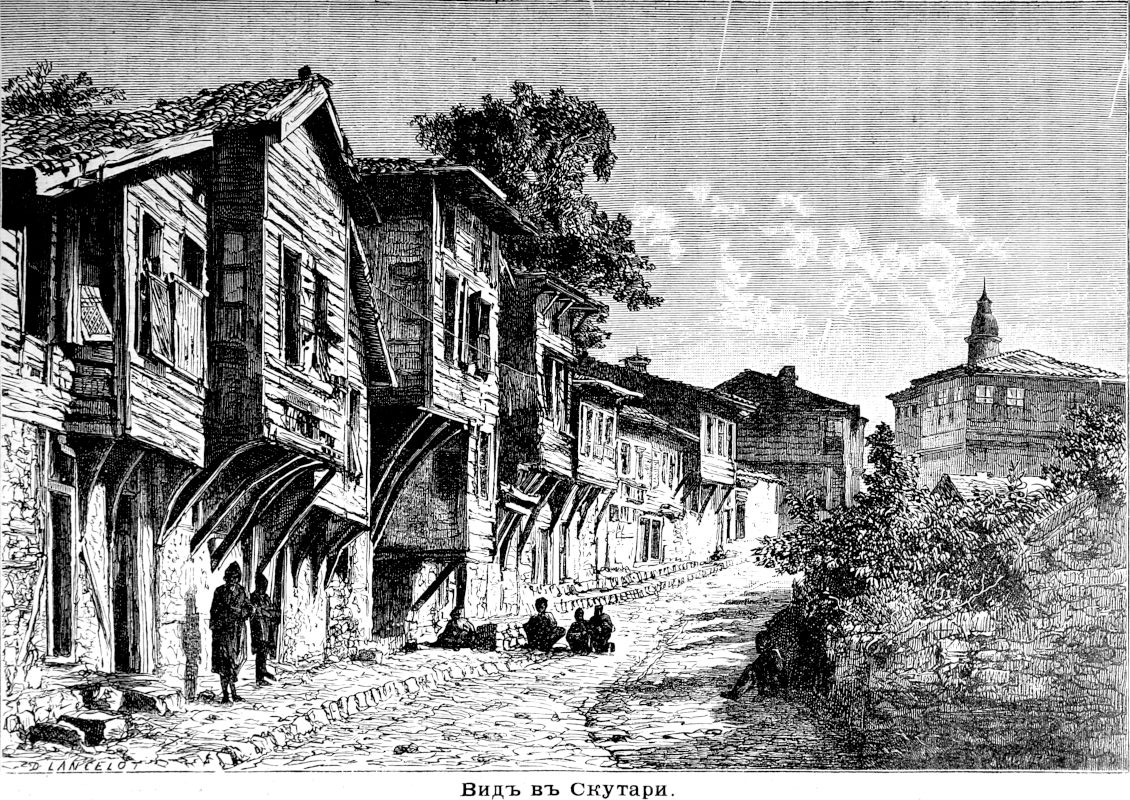
На юго-западном берегу Ликии порт Патара тоже сделался озером или, лучше сказать, болотом; но гораздо более значительная геологическая перемена совершилась в Памфилии, на северном прибрежье залива Адалия. Там во времена Страбона простиралось «очень обширное» озеро Каприя, замещенное теперь сырыми землями, в иных местах болотистыми, в других поросшими кустарником; лагуны гниющей воды наполняют низины, отделенные от моря желтым песчаным берегом, осененным приморскими соснами. Чихачев исчисляет в 400 квадратн. километров поверхность озерного бассейна Памфилии, составляющего в настоящее время часть твердой земли. Но не одни только наносы рек заполнили древний резервуар: бесчисленные источники, насыщенные известью, как, например, Тамбукские ключи, отлагали этот минерал в виде коры на почве так быстро, что трава и листья уже окаменели, не утратив своего цвета; в некоторых местах вода даже вытекает через береговые утесы прямо в море, и огромные сталактиты висят над самыми волнами. Близ Адалии видно явственно, что фронт береговых утесов выдвинулся по крайней мере на 300 метров, благодаря этим непрерывным наносам. Реки, покрывшие страну слоями травертина, беспрестанно меняют свое течение: поднимая мало-по-малу свои каменные ложа над окружающей равниной, они кончают тем, что текут в высоких водопроводах; рано или поздно берега подаются в каком-нибудь слабом пункте, и поток устремляется через боковую брешь, чтобы образовать себе другое русло. В других местах проточные воды исчезают в пористой почве, под естественными аркадами. Из века в век гидрографическое разветвление совершенно изменяется: этим и объясняется тот факт, что географы тщетно старались согласить тексты древних авторов с настоящим положением дел. Катарактес, о котором Страбон говорит как о большой реке, низвергающейся с шумом с очень высокой скалы, перестал существовать и, вероятно, разделился на многочисленные ветви, поверхностные или подземные. Фонтаны пресной воды, которые бьют среди моря, явственно видны с высоты берегового утеса, благодаря различному преломлению света в двух средах.
Ак-су, то-есть «Белая река», которая служит водостоком для западных равнин каменистого бассейна, берет начало в горах к западу от озера Эгердир, которое, быть может, выливает под землей свой излишек через эту реку, чем можно было бы объяснить тот факт, что вода в этом бассейне не солена, как почти во всех других замкнутых резервуарах. Озеро Эгердир, вероятно—самое значительное во всей Малой Азии: хотя оно не занимает столь обширной площади, как большое Соляное озеро в Ликаонии, но зато превосходит последнее глубиной. Озерная впадина Эгердир, представляющая овал, который продолжается с севера на юг и делится поперечной цепью гор на две полости, походит в южной своей части на альпийское озеро: крутые горные склоны с лесистыми террасами господствуют над его берегами; маленькие острова, где блестят белые домики между группами тополей, весело отражаются в голубой поверхности вод; на каждом шагу бесконечное разнообразие зубчатого берега изменяет пейзаж. Два озера, Бульдур и Чурук-су, лежащие западнее, на слегка волнистом плато, отличаются от Эгердира. Окруженные низменными берегами, которые попеременно то покрываются водой, то снова открываются, эти бассейны имеют вид болот на большей части своего протяжения. Вода в Бульдуре желтоватая, а в Чурук-су содержит в растворе серно-кислую магнезию (горькая или английская соль) и сернокислый натр (глауберова соль), в соединении с морской солью; летом, вода сбывает, оставляя на берегах эти минеральные вещества, кристаллизующиеся твердыми плитами.
Озеро Бейшехр-гель, хотя оно находится очень близко от скатов, наклоненных на юге к заливу Адалия, занимает место в числе озер, принадлежащих к системе замкнутых бассейнов Анатолии. Этот резервуар, называемый также озером Керели—имя, едва отличающееся от древнего греческого наименования Каралитис,—гораздо менее обширно, чем большое Соляное озеро; но, быть может, его водная масса более значительна по объему, так как он представляет несколько глубоких впадин у подошвы скалистых откосов своего западного берега; на юге белые вершины гор Писидии отражаются в голубых водах озера. Многочисленные потоки спускаются с соседних высот в Бейшехр-гель; но большинство источников теряются в расселинах почвы, прежде чем достигнуть озера; бассейн питается главным образом родниками, выходящими из озерной впадины или из расселин скал, омываемых водами озера: пузыри, поднимающиеся из бьющих на дне ключей через спокойную воду, указывают место истечения; но прибрежные жители не съумели перехватить эти чистые воды, которые теряются в безвкусной и нездоровой воде Бейшехр-геля. Летом туземцы не имеют другого питья, кроме воды колодцев, вырытых в соседстве берега и очень удаленных один от другого; иногда толпы людей и животных оспаривают друг у друга доступ к этим колодцам, влага которых так драгоценна, как будто она вытекает среди безводной пустыни, хотя неподалеку простирается целое море пресной воды.
Высота Бейшехр-геля, по Чихачеву, 1.151 метр над уровнем моря; но это озеро занимает не самую глубокую часть замкнутого бассейна южного плоскогорья Ликаонии. Из южной оконечности этого плато выходит река, которая спускается на юго-восток через ущелье между скал и теряется во впадине, лежащей метров на пятнадцать ниже, и которую еще недавно наполняло значительное озеро, Соглу: этот обширный резервуар, средняя глубина которого была от 6 до 7 метров, и который простирался на пространстве около 175 квадр. километров, опорожнился около половины настоящего столетия; но почва еще усеяна двустворчатыми раковинами, и местные жители долго сохраняли запас карпов, который дала им последняя обильная ловля. Это быстрое исчезновение озера, содержавшего слишком миллиард кубич. метров, невозможно было бы объяснить перевесом испарения над притоком воды; весьма вероятно, что обломки, загромождавшие подземные галлереи, были расчищены глубокими водами, и эти последние вылились в море. Этому-то скрытому, подземному истечению два названные бассейна, Бейшехр и Соглу, и были обязаны тем, что воды их не насытились солью, как воды большинства замкнутых озер Малой Азии. Аллювиальные земли, отложенные речками и ручьями, были преобразованы земледельцами в плодородные поля. По Гамильтону, появление и исчезновение озера Соглу представляют периодические явления, правильно чередующиеся через промежутки времени от десяти до двенадцати лет. Согласно искони установившемуся обычаю, получившему силу закона, крестьяне делаются собственниками выходящей из воды почвы, под условием оставления в пользу казны половины первой жатвы; в следующие же годы они должны платить только десятину, то-есть десятую часть собираемых плодов. Небольшие озера Ликии, в бассейне Эльмалу и соседних равнинах, имеют порядок истечения, подобный тому, какой представляет Бейшехр: они также изливают свой излишек вод через подземные галлереи, вырытые в известковых скалах. Озеро Авлан-Оглу, к югу от Эльмалу, принимает в себя быструю реку, имеющую около десяти метров в ширину и до 2 метров глубины, и исток его низвергается с шумом в пещеру. Обильные источники, снова выходящие на поверхность земли близ деревни Финека, недалеко от морского берега,—не что иное, как воды Авлан-Оглу. Естественные водоспуски или «катавотры» этой изобилующей трещинами области известны под именем дуден. По существующему в крае преданию, сообщаемому Гамильтоном, долина, которую ныне покрывают воды озера Эгердир, была совершенно сухая восемьсот лет тому назад, и образование озера произошло, будто-бы, вследствие завала подземной галлереи.
К востоку от понижения Ликаонии, некоторые озерные бассейны, теперь замкнутые, кажется, изливались некогда в Средиземное море. К числу этих озер принадлежат Кара-Бунар или «Черный фонтан», который окружен вулканическими конусами и потоками лавы; летом крестьяне окрестных селений ломают соль в некоторых из окаймляющих его соляных бассейнов, и каждую зиму образуется новая кора. К югу оттуда, озеро Эрегли есть скорее затопленная разливами водная площадь, продолжающаяся на сотню верст параллельно северному основанию Булгар-дага; это обширное болото усеяно прудами, из которых иные всегда остаются солеными, другие же зимой наполняются через маленькие притоки пресной водой, но летом опять делаются немного солоноватыми. Озеро Эрегли еще продолжает быть притоком Средиземного моря через ручей, который изливается на юге в мраморный бассейн, лежащий метров на десять ниже озерного резервуара. Неизвестно, где опять выходит наружу этот поток на противуположной покатости гор, хотя он уносит весьма значительную по объему жидкую массу, особенно весной, в период таяния снегов: тогда два озера, Эрегли и Кара-Бунар, так же, как все болота низменной равнины, превращаются в обширное внутреннее море, шириной около 150 километров, которое простирается на запад до самых ворот города Коние. Между источниками, питающими бассейн Эрегли, группа термальных источников приметна издали по конусам, которые образует вытекающая вода, отлагая вокруг отверстия содержимые в растворе минеральные вещества. Так же, как в Тамбуке, постоянно наростающий камень в конце концов залепляет выходы, и бьющая из земли вода, отыскивая новые отверстия, воздвигает горку за горкой: плато постепенно возрастает, сохраняя однообразную высоту. Ключи эти, хотя все они, повидимому, принадлежат к одному и тому же подземному озеру, разнятся между собой температурой и составом воды: одни из них имеют слишком 50 градусов по Цельзию, в других, напротив, вода почти холодная. Тогда как вода одного бассейна отлагает морскую соль, вода другого приносит серу, и большинство окружают свое отверстие гипсовым ободком; один источник образует ручеек чистой воды. Каменистое вещество, содержащееся в растворе в воде фонтанов озера Эрегли, так обильно, что пузыри газа, приходя в прикосновение с атмосферным воздухом, тотчас же превращаются в раковины бесконечно малой тонины, которые, теснясь одна к другой, постепенно складываются в компактную массу, имеющую строение оолита (икряного камня).
В древние времена, Кестрос, по-нынешнему Ак-су (Белая вода) и соседняя река, Кепро-су или Эвримедон, были судоходны при устьях; теперь они закрыты для барок, тогда как Мелас, называемый ныне Манавгат, носит парусные суда, хотя греческие и римские писатели не упоминают о нем, как о реке, доступной судам. Что касается самой полноводной реки всего этого прибрежья, на западе Полевой Киликии, Каликадна, по-нынешнему Эрмерек-су (иначе Гек-су), то течение её слишком стремительно, чтобы она могла когда-либо быть судоходной, что бы ни говорил Аммиан Марцелин, единственный из древних авторов, приписывавший ей это свойство. Восточнее, в собственной Киликии, Тарсус-чай или «река Тарс»—незначительный поток, а между тем это—река, пользовавшаяся большой известностью в древности под именем Кидна. Исток её один из самых обильных в Малой Азии. Со стены наклонной скалы, сплошь изрытой трещинами и расселинами, льются бесчисленные струйки, которые соединяются в одном бассейне, откуда река, уже непроходимая в брод, бежит бешеными прыжками через обвалившиеся каменные глыбы и затем исчезает в глубоком ущелье. Величественные кедры, имеющие по крайней мере 7 аршин в обхвате, могучие дубы, платаны, обвитые плющем и хмелем, осеняют исток своей густой листвой. Спускаясь красивыми каскадами в равнину Тарса, «хладноводный» Кидн орошает поля и сады; затем, разливаясь в виде болот, заменивших прежнее озеро, впадает в море на небольшом расстоянии к востоку от устья Сейгуна. Подобно многим другим потокам Малой Азии, Кидн часто менял русло: некогда он проходил через город Тарс, с конца же шестнадцатого столетия течет на востоке от его стен.
Но блуждающими реками по преимуществу можно назвать две реки восточной Киликии, Сар и Пирам, которые турки и арабы называют Сейгун (Сигун, Сиган, Саран) и Джигун (Джиган), или в память двух больших рек того же имени в Туркестане, более известных ныне под названием Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи, или намекая на два потока мифического рая. Сар—самая полноводная и самая длинная из этих двух рек. Она берет начало около середины полуостровного основания, к северо-востоку от Аргейской горы, в горных цепях, господствующих с южной стороны над долиной верхнего Кизыл-Ирмака, и принимает в себя воды, которые текут в параллельных понижениях Анти-Тавра и уходят из гористой области глубокими ущельями, поражающими своим грандиозным видом; на западе другие потоки спускаются с центрального плоскогорья к Сару, перейдя перед тем Тавр ущельями, еще более трудно доступными, чем Киликийские Ворота. Джигун или Пирам берет начало в водораздельной области, по другую сторону которой течет Евфрат; но до настоящей минуты Страбон остается единственным путешественником, который описывает исток этой реки, как «глубокую пропасть, откуда вода вдруг вырывается столь могучим потоком, что дротик лишь с трудом пронзает его». Страбон же говорит, притом в выражениях, отличающихся редкой точностью, об ущелье, которым Пирам выходит из области гор: «Выступы одной стены как раз соответствуют входящим углам другой, так что, будучи сближены, обе стены плотно пришлись бы одна к другой; около середины ущелья расселина дотого съуживается, что собака или заяц могли бы перескочить ее одним прыжком». Пирам соединяет в своем нижнем русле потоки всего гористого округа, простирающагося на восток от Анти-Тавра; но эти высоты, менее выставленные дождевым ветрам, чем возвышенности западной Киликии, получают меньшее количество воды; оттого Джигун, хотя бассейн его обширнее бассейна Сейгуна, много уступает последнему по среднему количеству катимой воды. По исследованиям инженеров, делавших разведки для проектированной железной дороги между Мерсиной и Аданой, оказалось, что средний сток его составляет почти только треть стока Сейгуна. Вот точные числа, относящиеся к рекам Киликии:
| Длина течения, кил. | Площадь бассейна, кв. километр. | Средний сток в секунду, куб. метров. | |
| Кидн (Тарсус-чай) | 130 | 1.400 | 20 |
| Сар (Сейгун) | 450 | 22.400 | 250 |
| Пирам (Джигун) | 450 | 24.150 | 95 |
Однако, Джигун судоходен в нижней части своего течения; по Энсворту, барка могла бы подняться по реке слишком на сто километров от устья.
С начала исторической эры эти две реки не переставали блуждать в аллювиальных равнинах, образованных их отложениями на запад Александретского залива. В настоящее время устья Сара и Пирама отстоят одно от другого по прямой линии на 72 километра; но из старинных документов видно, что часто их потоки бывали соединены одним общим устьем. В последние двадцать три столетия произошло семь больших перемен течения: три раза реки совмещались в одном русле и четыре раза разделялись; незначительного бокового прореза было бы достаточно соединить их опять. Блуждая таким образом по равнине, они не переставали прибавлять новые земли к материку. «Равнина турок», Чукур-ова, и наибольшая часть пространства, продолжающаяся от Тарса до Сиса, у восточного основания Тавра, на расстоянии слишком 100 километров, есть их «дар». Мыс Кара-Таш или «Черный камень», который служит южной опорной точкой наносимым речным осадкам, есть бывший остров, соединенный ныне с твердой землей; одно предсказание, сообщаемое Страбоном, говорит, что «настанет день, когда среброводный Пирам достигнет священных берегов Кипра». Покрытые илом пространства, окаймляющие устья обеих рек, представляют еще неопределенную область, нечто среднее между морем и землей; флора и фауна напоминают недавнее пребывание морской волны; воды наполнены рыбами, беспрестанные движения которых обнаруживаются содроганиями жидкой поверхности; мириады разной водяной птицы—пеликанов, лебедей, гусей и уток—покрывают песчаные отмели, и огромные черепахи медленно двигаются в иле.
Разсматриваемая в целом, Малая Азия имеет более холодный климат, нежели полуострова Европы под той же широтой, и температуры там отличаются большими крайностями. Контраст этот легко объясняется: в то время, как Испания, Италия, Фракия и Греция защищены от полярных ветров Пиренеями, Альпами, Балканами, Анатолия отчасти выставлена этим холодным воздушным токам, не встречающим никакой преграды при движении через равнины России и поверхность Черного моря. Та самая часть морского прибрежья Малой Азии, которая омывается водами Понта Эвксинского, представляет поразительный пример перемены, какую защита, оказываемая цепью гор, производит в климате. Так, западная зона берега, заключенного между Константинополем и Синопом, выставлена суровым зимним холодам и сильным летним жарам; но на востоке «византийский» климат изменяется, по мере того, как к северо-востоку, по ту сторону Черного моря, высокий горный вал Кавказа поднимается непереходимой стеной между полярными воздушными течениями и анатолийским прибрежьем: разности средней температуры зимы и лета уменьшаются; деревья, не могущие расти на негостеприимном западном прибрежье, с успехом произрастают на берегу восточных бухточек, в теплом «трапезондском» климате; масличное, затем померанцевое деревья появляются вокруг городов и деревень, и великолепные южные сосны или италийские кедры (pinus pinea) растут в диком состоянии по склонам холмов. Долина Чорука, по мнению ботаника Коха, должна считаться родиной этого дерева, характеризующего средиземную растительную область.
Западные берега Малой Азии, омываемые водами Эгейского моря, пересекаются изотермами, немного косвенными к градусам широты: в среднем, на ионийском прибрежье немного холоднее, чем в портах, лежащих напротив, на берегах Греции. Колебания климата там также вообще более внезапны и более неравномерны, чем по другую сторону архипелага. Острова, рассеянные перед прибрежьем, и многочисленные вырезки твердой земли видоизменяют до бесконечности нормальный порядок ветров; местные собирательные фокусы разделяют атмосферные потоки на тысячи особых струй; каждый мыс, каждый пролив имеет свой специальный ветер, внушающий опасение морякам; при входе каждого залива установляется столкновение между воздушными токами различной температуры, спускающимися с гор и поднимающимися с моря. Шквалы, внезапные порывы ветра делают некоторые воды совершенно несудоходными в зимнее время. Эти неравенства температуры, эти холода, чередующиеся с жарой, не позволяют растительности принять субтропический характер. Пальмы chamaerops, финиковые деревья не принадлежат к самобытной флоре Малой Азии. Направляясь к югу вдоль берегов Анатолии, первые группы пальм встречаешь на острове Патмосе, называемом по этой причине Пальмозой в некоторых портуланах (описания морских берегов и гаваней).
Южный пояс Малой Азии, хорошо защищенный различными массивами Тавра, пользуется, конечно, гораздо более теплым климатом, чем остальной полуостров: при равном расстоянии, мало найдется стран, где бы разность в средней температуре была так велика, как между берегом Тарса и берегом Синопа; между черноморским прибрежьем и берегами Кипрского моря Анатолия представляет ширину около пяти градусов широты, но разности годовой температуры достигают там семи градусов по Цельзию. Самое приятное время года на берегах Киликии—это два последние месяца, ноябрь и декабрь; оно отделено от летних жаров осенним кризисом, известным под именем кассима, который обыкновенно продолжается около восьми дней; во время этого периода перелома сильные грозы, сопровождаемые ливнями и градом, очищают атмосферу от миазмов и пыли, после чего жителям, спускающимся с гор, из своих летних становищ, нечего более бояться пребывания в равнине.
Долины внутренних гор и плоских возвышенностей представляют величайшее разнообразие климатов, смотря по высоте, положению относительно стран света, зелени и обнаженности почвы и тысяче противуположностей рельефа. Но общую отличительную черту всей области Малой Азии, заключающейся между горными выступами окружности, составляет редкость дождей. Облака приносят на анатолийские плоскогорья лишь незначительную пропорцию влажности, и даже морские берега получают с неба меньше воды, чем западная Европа: хотя поверхность Малой Азии почти равна пространству Франции, общий сток её рек составляет не более 2.000 кубич. метров в секунду, то-есть только около трети того количества, которое катят французские реки. В противуположность понтийской области, где количество атмосферных осадков весьма значительно в теплое время года, Полуостров принадлежит к субтропической области, которая отличается недостатком или редкостью летних дождей; так, в Смирне, где, однако, морские ветры приносят несколько ливней, падение атмосферной влаги в продолжение трех летних месяцев, июня, июля и августа, составляют только 4 сантиметра, не достигая даже пятнадцатой части годового количества дождя; но в некоторых внутренних округах шесть и семь месяцев проходят под-ряд без того, чтобы синева неба хоть раз оживилась полетом облаков. В то время, как климат морского прибрежья может быть уподоблен в целом климату южной Франции, на внутренних плоскогорьях находим метеорологический порядок, аналогичный порядку, господствующему в степях Туркестана.
Вероятные средния температуры Малой Азии, по Чихачеву:
| Год | Зима | Лето | |
| Византийский пояс | 14° Ц. | 6° | 24° |
| Трапезондский пояс | 14° | 7° | 22° |
| Пояс Пропонтиды | 14° | 7° | 22° |
| Иранский пояс | 16° | 8° | 24° |
| Южный пояс | 21° | 14° | 29° |
| Малая Азия в совокупности | 12° | 4,°8 | 22,°6 |
Климат Смирны, по Ганну:
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь | Наибольш. холод | Наиб. жара | Год | Дожди. |
| 8°,2 | 14°,6 | 26°,7 | 16°,9 | -4°,4 | 39°,6 | 18°,7 | 61 миллим. |
Анатолия есть одна из тех стран бассейна Средиземного моря, где малария особенно страшна: лихорадка—«царица полуострова». Столько рек переменили русло, усеевая окружающую местность прудами и лужами, столько болот образовалось вследствие наводнений или отступления моря, столько озер обсыхают и наполняются попеременно, смешивая пресные воды с солеными, что большая часть равнины и плоской возвышенности всегда омывается зараженной атмосферой. Нет сомнения, что с блаженных времен ионийской цивилизации климат Малой Азии утратил свою здоровость: многочисленные руины городов, которые некогда процветали в странах, ныне необитаемых, свидетельствует об этих переменах; когда берега болот выступают наружу на знойном солнце, видеть Милет значит умереть. Было время, когда реки сдерживались в своем русле и когда шпалеры деревьев задерживали водяные пары на проходе; истребление лесов имело следствием ухудшение климата. Обезлесение было дотого полное, более, чем на трех четвертях полуострова, что испорченный воздух равнины и долин приносится ветром даже на высоты, не встречая на пути ни одного массива растительности, который бы задерживал его распространение. Туземцы отлично умеют выбирать для своих яйла или летних становищ местности на горах, защищенные скалами или вершинами от вредных испарений, поднимающихся с нижних болот. В некоторых округах деревни равнины совершенно покидаются жителями в теплое время года; даже администрации переселяются в летния резиденции; нищие и воры также следуют за поселянами в горы. Становища обезлесенных яйл состоят из палаток или мазанок, сложенных из камня; в лесных же местностях, в северной Анатолии, для становищ строят хижины на манер русской избы, из еловых бревен, соединенных в виде сруба. Многие из этих временных поселений, построенных по большей части на развалинах древних городов,—важные рынки для продажи масла, сыра, скота, и негоцианты с морского прибрежья встречаются там с торговцами из внутренних местностей.
Как в отношении климата, так и в отношении флоры Малая Азия принадлежит к двум различным областям: «анатолийская подкова» составляет часть средиземного пояса: внутренния плоскогорья продолжают собой степи Центральной Азии. В этом пространстве, окруженном возвышенностями, флора относительно бедна, и растительность ограничивается кратковременной весенней деятельностью. Но какое разнообразие на окружности, благодаря переходу, который совершается от анатолийского пояса к зонам соседних стран! Так, черноморская флора, чрезвычайно богатая, составляет продолжение флоры Мингрелии; Троада, один из «раев ботаника», имеет все растения, свойственные Македонии и Фракии, рядом с представителями азиатской флоры; две Ионии, в Азии и в Европе, обменялись своими растительными видами через Эгейское море; на южных берегах Анатолии, Киликия в ботаническом отношении продолжает собой сирийское побережье, и даже многие египетские растения акклиматизировались там. Таким образом, по истории растительных видов, как и по истории людей, Малоазиатский полуостров есть переходная страна между тремя континентами—Европой, Азией и Африкой. Средиземная флора представлена преимущественно кустарниками, которые получают на склонах гор Анатолии необычайное развитие: персидские деревца, медвежьи ягоды (arbutus), лавры принимают там размеры настоящих деревьев; стволы мирт достигают во многих местах полметра и даже метра. Анатолия—богатейшая область в свете по разнообразию пород дуба: Франция имеет только 12 пород, тогда как между Понтом Эвксинским и Кипрским морем их насчитывают 52, из которых 26 не встречаются нигде в других местах.
Самый обширный лес в Малой Азии—Агач-дениз или «море деревьев», простирающийся на восток от реки Сакарии, в горах Боли, где действуют многочисленные лесопильные заводы, не нанося, однако, заметного ущерба лесным богатствам, так что вершины еще не утратили своего покрова из зелени. Все северные покатости горных цепей, параллельных Понту Эвксинскому, покрыты богатой лесной растительностью; леса находятся также в промежуточных долинах и в ущельях горных потоков. «Море деревьев» доставляет строевой и мачтовый лес турецкому флоту; но вообще лесное хозяйство ведется крайне не умело. Во внутренних областях, вдали от больших дорог, лес может быть утилизируем только в виде топлива. Обыкновенно ждут, когда дерево будет повалено бурей, или само упадет от старости; тогда отрубают ветви, чтобы увезти их на спине мулов, и выдалбливают желобки на верхней части ствола для того, чтобы задерживать дождевую воду и таким образом ускорить разложение древесной ткани. Проходит несколько лет, дерево распадается на куски, и тогда остается только дать несколько ударов топором, чтобы расколоть его на дрова. В Карии иначе никак и не эксплоатируют внутренние леса, если только не прибегают к более скорому способу, состоящему в том, что лес зажигают и затем собирают обугленные остатки.
Последовательное расположение поясов растительности на скатах гор ни в какой части Анатолии не обозначено так резко, как на южных склонах Киликийского Тавра. У основания горной цепи группы пальм, фруктовые сады, обнесенные живой изгородью из столетников, указывают субтропическую область. Затем на первых холмах показываются большие деревья с опадающими листьями: выше почвой овладевают хвойные: сначала сосны темного цвета, потом многочисленные виды можжевельника, далее киликийские ели и кедры. Ни в какой части Малой Азии или Сирии, ни даже на склонах Ливана не встретишь кедровых лесов, подобных тем, которые опоясывают отлогости Булгар-дага до высоты 2.000 метров. Многие миллионы великолепных кедров растут там группами над целым морем сосен, елей и можжевельника. Но и туда добираются пожары, зажигаемые пастухами в низком кустарнике, и часто тысячи могучих деревьев пылают разом,—кажется, будто исполинская огненная река лавы льется с горы. Над лесным поясом простирается мелкий кустарник, заменяющий горные пастбища Европы. В Киликийском Тавре редко встретишь покрытые муравой склоны, разве только по берегам источников и ручьев: там до самой подошвы голых скал вершины и до полос снега растут деревянистые растения и деревца с ярко-зеленой листвой. На такой высоте, где европейские горы представляют лишь однообразно серую поверхность пажитей, на Тавре земля усеяна пучками блестящих, ярко окрашенных цветов, которые придают этим безмолвным местностям разнообразие вида, о каком не могут дать понятие пастбища европейских Альп. На северо-востоке Малой Азии понтийские горы представляют гораздо больше сходства с горами центральной Европы, но они богаче растительностью. На многих лугах можно видеть до двухсот видов альпийских растений. Одна и та же горная вершина может принадлежать одною из своих покатостей к черноморской зоне, а другою к степной полосе: с этой стороны растения рассажены с некоторыми промежутками и отличаются однообразным типом; издали их сероватая зелень едва отделяется от тусклых цветов глины или камня.
Ботаники констатировали тот факт, что в местностях, где существовали поселения эмигрантов, встречаются колонии иностранных растительных видов. Так, между развалинами крепостей, воздвигнутых генуэзцами и рыцарями острова Родоса на некоторых мысах и на островках южного берега, родятся мылянки и другие европейские растения, происходящие от посеянных западными пришельцами шесть или семь столетий тому назад; эти растения не цветут нигде в других местах, удаленных от зданий, построенных гяурами. Есть также фруктовые сады, насаждение которых предание приписывает крестоносцам или генуэзцам; орешник, яблони и вишни сменяются одни другими в одной и той же долине, не делая захватов на окружающей почве, как равно, с другой стороны, область их распространения нисколько не уменьшилась со времени исчезновения неверных. Но если Анатолия получила в последние века некоторые растительные виды, принесенные европейцами, то сама она гораздо больше дала нашей части света. В шестнадцатом столетии первые ботанические сады Запада были в действительности не что иное, как школы акклиматизации или питомники для левантских растений: в эту-то эпоху Пьер Белон ввел во Франции каменный дуб, иудино дерево, целомудренник (agnus castus), кожевенное дерево (сумах), восточный можжевельник. белую и черную шелковицу, горд (viburnum timus), ююбу, курму или псевдолотос (diospyros lotus), мирт и многие другие анатолийские растения.
Новых насаждений в Малой Азии почти нигде не делается, разве только в области виноградников. Нигде еще не начато столь необходимое дело облесения: ограничиваются разведением вокруг городов и селений некоторых деревьев, сделавшихся, так сказать, неразлучными спутниками человека: таков платан или чинар, приобщаемый им к своему отдыху, к своим молитвам и играм, ко всей своей домашней жизни; таков кипарис, бодрствующий над мертвыми. Нет страны, где эти деревья были бы более прекрасны и более любимы и чтимы человеком, чем на анатолийском побережье. Платан как-будто возбуждает веселые мысли: его подвижная листва, колеблемая малейшим ветерком, освежает атмосферу; довольно плотная, чтобы умерять солнечный жар и пропускать лишь слабый пепельный свет, она, однако, не настолько густа, чтобы заслонять вид неба; взор простирается далеко между стволами и ветвями с светлой корой, без всякой монотонной правильности. Привычка сделала из платана дерево почти священное: многие поселяне, не имея средств соорудить минарет при мечети, устраивают деревянную площадку на горизонтальной ветви чинара, откуда муэдзин призывает правоверных на молитву, окруженный голубями, которые весело клюют зерна, рассыпанные у его ног. Кипарис также получает долю почитания, оказываемого предкам; но он не имеет того мрачного сурового вида, каким отличаются его родичи на Западе: более высокий и более широкий, он имеет стан менее правильный, ветви более раскидистые и образует великолепные массивы зелени; кладбище—это обыкновенно самое красивое, что имеет восточный город.
Истребление лесов имело следствием исчезновение большого числа животных видов. Так, лев, который, по свидетельству древних писателей, водился во всех областях полуострова, и которого видели еще во времена крестовых походов, не встречается больше, разве только, может быть, в самых глухих ущельях Ликийского Тавра, где будто-бы живет также один большой зверь кошачьей породы, которого турки называют капланом, и который, как полагают, есть не кто иной, как леопард: может быть, это—пантера, подобная той, которая бродит еще в горах Тмолуса. Гиена еще не совсем истреблена, и по ночам везде слышно завывание шакалов, которым отвечает из каждой деревни лай собак. В восточных областях шакал менее распространен, чем на ионийских берегах и центре полуострова: он частью заменен волком, бурым и черным; лисица не так обыкновенна в Малой Азии, как в южной Европе: плотоядные представлены преимущественно различными видами полудиких собак, которые бродят на улицах больших городов. Известно, что в Константинополе эти голодные животные, роющиеся в кучах нечистот и собирающиеся целыми стаями, с вытянутой мордой, с дрожащими ноздрями, вокруг костяков, висящих перед бойнями, очень редко подвергаются болезни, называемой водобоязнью, если даже подвергаются когда-нибудь. Во время своих путешествий по всем частям полуострова г. Чихачев часто видел собак, называемых «бешеными», но никогда укушенные лица не погибали от полученных ими ран. Однако, в окрестностях Смирны бывали, говорят, хотя и редко, смертельные случаи, происшедшие после укушения прокаженными водобоязнью собаками, волками и шакалами; средство, употребляемое пастухами в случае укушения бешеным животным—отвар горьких корней.
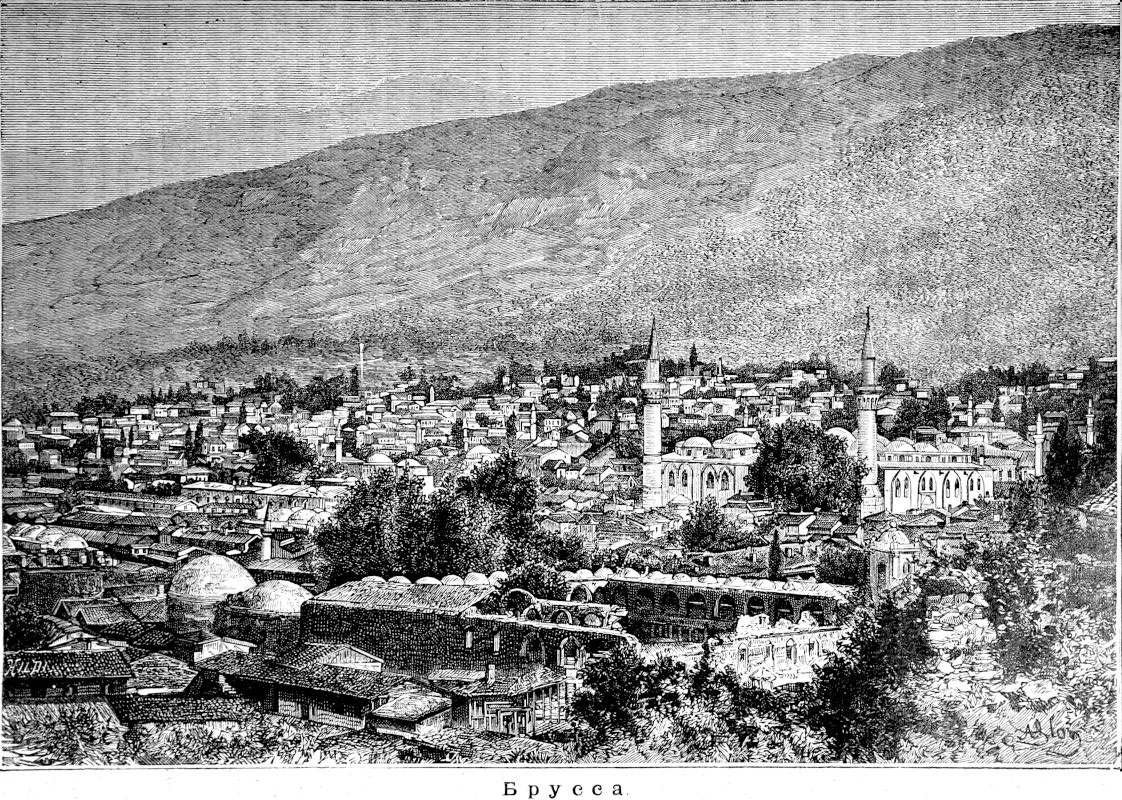
Крупная дичь, которую охотники преследуют в лесах Европы, водится также и в Малой Азии. Дикие кабаны очень обыкновенны в областях полуострова, так как турки не охотятся на них. Большой олень довольно редок, но лань и косуля встречаются стадами. Газель, которой не имеет европейская фауна, бродит в равнинах Полевой Киликии, на границах Сирии, и, вероятно, другие виды антилоп живут на плоскогорьях. Эгагр или дикая коза бегает в горах Тавра Киликийского и Анти-Тавра, соседних с областями, где коза появляется, как домашнее животное в древние времена. Так как дикая коза имеет такие же размеры, наружные формы и рога, как и прирученное животное, то весьма вероятно, что от неё произошла и домашняя порода коз. На высоких степях и горах водятся также дикие бараны, разновидность муфлона или степного барана, которого считают родоначальником европейского барана. Таким образом Малоазийский полуостров, родина стольких растительных видов, дал человечеству два из его драгоценнейших домашних животных. Что касается ангорской козы, столь замечательной блеском и нежностью своей шелковистой, вьющейся шерсти, то натуралисты сомневаются, чтобы она была анатолийского происхождения, так как ни один классический писатель не говорит об этом животном, которое, однако, непременно должно было бы обратить на себя внимание; и хотя они упоминают всех баранов, шерсть которых употреблялась для тканья ценных материй, никто не сообщает об употреблении козьей шерсти для приготовления тонких тканей. Введение ангорских коз в крае г. Чихачев приписывает тюркским племенам, пришедшим на полуостров в одиннадцатом и двенадцатом столетиях, и склонен думать, что место происхождения самих переселенцев и их стад следует искать в одной из долин Алтая, именно в долине Бухтармы, притока Иртыша; эта местность славится во всей Сибири красотой своих котов, еще более замечательных, чем ангорские, и отличающихся, как и ангорские козы, волнистой и шелковистой шерстью, что, повидимому, указывает на сходство климатических условий. Как бы то ни было, ангорская коза занимает в настоящее время небольшую территорию, около 40.000 квадр. километров, да и в этой области она с успехом разводится только на плоскогорьях и в долинах, высота которых не меньше 600 и не больше 1.600 метров. Все козьи стада вместе заключают от четырехсот тысяч до полмиллиона голов. Акклиматизация этих драгоценных животных очень трудна, так как малейшее перемещение сопровождается ухудшением качества шерсти; однако, пояс обитания ангорской козы и в это последнее время расширился. Что касается овечьей породы, то самая обыкновенная разновидность здесь—караманлы или бараны с толстым хвостом (курдюком),—порода, которая господствует также в Сирии, в области азиатских степей и даже в южной России. На всех ровных плоскогорьях и в равнинах увидишь только стада баранов; исключительную область козы составляют склоны и кручи гор. В степях почва везде изрыта подземными галлереями, выкапываемыми табарганом или тушканчиком.
Во все времена быки были редки в Малой Азии, и в некоторых округах даже было бы трудно прокормить их, так как пастбища представляют траву слишком короткую для толстых губ животного. Кажется, что в юго-западной Анатолии существуют, в небольшом количестве, зебу, похожие на ост-индских горбом на спине и маленькими подвижными рогами. Но самая обыкновенная бычачья порода—буйвол, который населяет берега рек и болотистые области на всей окружности полуострова: есть даже местности, как например, болота, образованные блуждающими руслами Сейгуна и Джигуна,—где буйвол, говорят, живет еще в диком состоянии или снова впал в это состояние. Единственный вид верблюда, который водится в Анатолии,—одногорбый, употребляемый только для перевозки тяжестей и не пригодный для езды. Тогда как в других местах двугорбые верблюды и дромадеры могут переходить лишь пески, глинистые и солончаковые пространства пустыни, малоазийские верблюды постепенно приспособлялись к хождению по кручам гор, где, впрочем, они носят лишь незначительный вьюк, не более 100 килограммов (6 пудов). Они даже лучше лошади умеют совершать восхождение по крутым каменистым тропам, но зато с какой осторожностью ставят они ноги на землю! Они идут так легко, что не слышно шума их шагов. Караван дает о себе знать только звоном колокольчиков, привешенных на груди взрослых животных. Обоз обыкновенно состоит из семи до девяти животных, привязанных одно к другому, как суда на буксире; но предводительство вверено не высокорослому животному: роль вожака почти всегда исполняет маленький осел; человек, сидящий на нем верхом, держа перед собой ружье, почти касается земли своими болтающимися ногами, и над его головным убором распростерта в виде аркады шея первого верблюда. В Малой Азии верблюд не имеет той антипатии к лошади, ослу или мулу, какую он обнаруживает в других местах: лошадь, совершенно освоившаяся с верблюдом, пасется рядом с ним и позволяет привязывать себя к одним яслям; г. Эрнест Дежарден видел верблюдов и ослов, привязанных к одному и тому же ярму. С двенадцатого столетия, эпохи вероятного введения верблюда в качестве вьючного скота, в Малой Азии все животные, сопровождающие турка-номада, успели уже сдружиться между собой.
Иммиграция верблюда в Анатолию есть один из поразительнейших признаков совершившихся перемен, территориальных и политических: он, так сказать, символизирует замену культуры средиземных рас восточной цивилизацией. Даже нынешния лошади Малой Азии, кажется, составляют по большей части продукт скрещения конских пород Востока: подобно туркменским лошадям, они имеют длинные ноги и голову немного большую, сравнительно с размерами туловища, и походят на персидские расы видом хвоста; очень сильные и выносливые, они взбираются по самым крутым и трудно доступным склонам гор; наибольшей стройностью и красотой форм они отличаются в восточных областях, в провинциях, ближайших к Армении и к Персии. Впрочем, лошади в Малой Азии относительно немногочисленны, и как вьючные, так и ездовые животные, могут быть заменены верблюдами и ослами. Эти последние, малорослые, слабосильные, часто покрытые язвами, нисколько не похожи на великолепных сирийских или египетских ослов, ни на онагров или диких ослов, которые, по свидетельству древних писателей, бродили во множестве на центральных плоскогорьях, и представители которых, говорят, встречаются еще в небольшом числе в лесных областях восточной Анатолии. Жители Малой Азии употребляют также мулов, которых они ценят выше лошади и в качестве вьючного, и в качестве верхового животного. Предания, передаваемые Илиадой, приписывают одному народу полуострова первые попытки разведения мулов.
Один из самых характеристических представителей животного царства Малой Азии—аист. Трудно вообразить себе какой-нибудь анатолийский пейзаж без этих важных птиц, сидящих на кипарисе или летающих с вытянутой вперед шеей и длинными протянутыми ногами. Есть деревни, где семейства аистов более многочисленны, чем семейства людей. Когда соха переворачивает землю на пашне, эти голенастые следуют шаг за шагом целыми бандами за пахарем; во время ежегодных перелетов с летних квартир в Малой Азии на зимния в Египте, иногда увидишь целые полчища аистов, в двадцать пять или тридцать тысяч голов, собравшиеся где-нибудь на берегу болот. Аисты, так же, как вороны, сороки, ласточки,—драгоценные союзники для земледельца, когда грозные тучи саранчи спускаются на поля; но для здешних жителей самый желанный гость из пернатых—это смармар (turdus roseus), розовый дрозд с черными крыльями, который яростно преследует саранчу, убивая насекомых не только для того, чтобы съедать их, но также и просто ради удовольствия истреблять. Один французский инженер, г. Ама, видел жителей одной деревни, переселившихся в палатки для того, чтобы предоставить птицам-истребителям удобнее гнездиться в их домах.
Обитатели Малой Азии самого разнообразного происхождения. Этот полуостров, западная оконечность передней части континента, был естественным местом схождения для воинственных племен, кочевых или торговых, пришедших из южных стран Востока или с северо-востока. В южных частях Анатолии жили семитические народы, да и внутри страны их кровь, диалекты, имена, кажется, преобладали у многочисленных населений; на юго-западе они, повидимому, смешались с чернолицыми людьми, может быть, с кушитами. В восточных провинциях главные этнические элементы были родственны персам и говорили языками, близко подходящими к зендскому; другие представляли собою пришельцев с севера, понимаемых под общим именем туранцев. На Западе переселения происходили в обратном направлении с теми, которые спускались с плоскогорий Армении; фракийцы находились в торговых и культурных сношениях между двумя покатостями Европы и Азии, наклоненными к Мраморному морю, и из одной части света в другую греки постоянно были в движении через Эгейское море. Даже из самых отдаленных стран Европы приходили эмигранты в большом числе: так, галлы поселились в Азии и в течение веков сохраняли свою самобытность среди окружающих населений. Но ни в какую эпоху полуостров не принадлежал какой-либо однородной нации, имеющей один язык и одну цивилизацию; никогда гегемония не выпадала на долю той или другой из населявших его рас. Ионийцы, карийцы, лелеги, фригийцы, пафлагонцы, ликийцы и киликийцы, все эти различные народы старались оберегать свою самостоятельность, и многие города, успев сохранить независимость, приобрели в то же время силу и славу, но единство никогда не установлялось путем федерации городов: оно создавалось, по виду, только иностранными завоеваниями, которые из граждан делали подданных и рабов.
В громадном горниле Малой Азии большинство древних наций утратили свое имя и даже самое предание о своем происхождении. Где теперь халибы, научившие некогда своих соседей искусству плавить металлы и ковать железо? Где галаты, соплеменники западных галлов, давшие свое имя одной из больших провинций Азии? Эти народы и большая часть других, о которых говорят древние, как о жителях внутренних областей полуострова, не существуют более в виде отдельных народностей: они постепенно слились с окружающими населениями. Греки на западе, армяне и курды на востоке единственные народы, которые могут прямо возвести свое начало к первым историческим временам. Да и то, между именующими себя греками есть не мало таких, которые, по происхождению, принадлежат к древним коренным народцам края, и которых язык и православная вера связали с господствующей национальностью морского прибрежья.
Внутри страны, между гористой Арменией и изрезанными берегами, омываемыми морем Архипелага, огромное большинство жителей—тюркской расы. На этих плоскогорьях, усеянных соляными озерами, выходцы из аральских и балкашских степей нашли новое отечество, мало отличающееся от старого, нашли страну, где они могли вести прежний образ жизни. Между этими чужеземцами, заменившими собой первоначальное население, есть много таких, нравы которых почти не изменилась со времен переселения, и которые таким образом являются живыми свидетелями социального состояния, уже несуществующего в странах так называемого цивилизованного мира. Так, юруки, потомки первых прибывших в край тюркских племен, принадлежавших к орде «Черного барана», в состав которой входили также сельджукские турки, до сих пор еще ведут кочевую жизнь, переселяясь дважды в год, вместе со стадами, между зимними и летними становищами. Некоторые из них имеют настоящие дома, как цивилизованные турки, но большинство живут в черных палатках или кибитках из козьей шерсти или в шалашах из древесных ветвей, куда можно проникнуть не иначе, как согнувшись, и где внутренность почти всегда наполнена дымом. Юруки—магометане только по имени. Юрукская женщина не закрывает себе лица, как турчанка, городская жительница, но она не поднимает головы, когда проходит чужой мужчина, разве что он попросит воды или молока,—тогда она бросается стремглав, чтобы наполнить просимую чашу. Обыкновенно хижины располагаются в виде круга, при чем входные отверстия обращены к общей площадке, где исполняются крупные работы, и где обсуждают дела, касающиеся всего племени. Вокруг жилищ бродят злые собаки. Каждое становище есть особый, замкнутый мирок, который не приглашает чужого; но когда он придет, оказывает ему дружелюбный прием. Племена юруков, рассеянные в Малой Азии, исчисляются сотнями; в одной только Брусской провинции насчитывают больше тридцати племен, подразделяющихся на группы без всякой географической связи. Для обозначения этих классов кочевников употребляется обыкновенно генерическое имя «туркменов»: это—неопределенный термин, применяемый безразлично к кочующим пастухам всякой расы, и который вовсе не указывает на тождество происхождения с туркменами Центральной Азии; однако, многие писатели делают различие между юруками и туркменами. Первые будто-бы полные номады, жители палатки, не имеющие никакого постоянного местопребывания, вторые—те, которые уже сделались на половину оседлыми, преимущественно на центральном плоскогорье и в горах восточной области. Впрочем, переход от одного образа жизни к другому—явление гораздо более обыкновенное, чем вообще думают: в Анатолии, как и в Персии, увеличение или уменьшение земледельческих населений зависит от общей безопасности края. Особенно туркмены легко меняют пастушеский образ жизни на земледельческий: достаточно нескольких лет спокойствия, чтобы становища заменились деревнями. Часто цыганы или чинганы,—лошадиные барышники, кузнецы, лудильщики или делатели сит, которые кочуют в большом числе в Малой Азии, обыкновенно располагая свои таборы у входов в города, также смешиваются с юруками под неопределенным наименованием туркменов. В Ливии некоторые цыганские племена занимаются скотоводством и живут в постоянных селениях.
В одной и той же местности деревни и становища принадлежат самым разнородным населениям: здесь живут греки, далее черкесы, в других местах турки и юруки. В городах каждая раса имеет свой особый квартал. Никакая общая карта не могла бы дать понятия обо всех этих населениях, перемешанных и однако отличных одно от другого. Даже там, где жители принадлежат к одной и той же расе, они часто разделены на племена или роды, живущие особняком друг от друга, и иногда третирующие друг друга, как врагов: какой-нибудь афшарский или туркменский народец, бродящий вокруг турецких деревень, отличается от оседлых резидентов этих селений только образом жизни да традициями независимости; он составляет особый мирок и старается отличиться от других оружием и костюмом. Наибольшего успеха достигли в этом отношении зейбеки, живущие в горах Мизогиса. Эти турки, потомки одной из первых дружин завоевателей, прибывших в страну, сохранили полное сознание славы своих предков, и за исключением стариков, носящих простой костюм турецких крестьян, они стараются импонировать блеском своей одежды. Почти все рослые и сильные, они хотят, кроме того, удивлять толпу богатством своей расшитой узорами куртки, широтой и роскошью пояса, высотой головного убора, сшитого из разных материй, размерами и богатством оружия. Народное воображение совершенно несправедливо видит в них население бандитов: это—сыны воинов, имеющие свои традиции чести и обычай гостеприимства, но полные гордости: как гласит их имя, «они сами себе князья»; они думают, что свет им принадлежит. Тщетно турецкое правительство хотело запретить им ношение оригинального костюма, чтобы ассимилировать их с остальным населением: они предпочитали делаться разбойниками. Тогда прибегли к другому средству, чтобы их дисциплинировать: почти все их молодые люди были взяты в солдаты, и тысячи из них пали на полях битв в Болгарии.
Под «турками» в обыкновенной речи понимаются все оседлые мусульмане Малой Азии, каково бы ни было их происхождение. Многочисленные албанцы, которых военная служба сделала, против их воли, обитателями полуострова, считаются турками, хотя по своим предкам, пелазгам, они единоплеменники греков; босняки и болгары магометане, которых изгнание, добровольное или вынужденное, со времени последних войн, бросило сотнями тысяч за Босфор, также называются турками, хотя они принадлежат к той же расе, как сербы, кроаты и русские, которые их изгнали. Татары-ногайцы, переселившиеся из Крыма, более справедливо носят название турок, на которое они имеют право по своему происхождению и языку; но турками также называют чиновников, сыновей грузинок или черкешенок, и происходящих по своим предкам от всех наций, пленницы которых населяли гаремы. Наконец, к османлисам же причисляют потомков арабов и тех из чернокожих африканцев всякого происхождения, которые некогда были привезены в страну в качестве невольников; во многих мало-азийских городах значительная часть населения есть, очевидно, помесь негров. В Джебель-Миссисе, близ Аданы, есть целые деревни, сплошь населенные чернокожими. Что касается курдов, то хотя они и магометане, но так резко отличаются от османлисов своими нравами и наружностью, что им никогда не присвоивали имени турок; подобно курдам Загроса и верхних бассейнов Тигра и Евфрата, они, очевидно, по большей части иранского происхождения. Кизыль-баши очень многочисленны между курдами Малой Азии.
Турки в собственном смысле, то есть часть нации туркменского происхождения, которая усвоила себе нравы оседлой жизни, и которая сообразуется с предписаниями и правилами ислама, являются в гораздо более выгодном свете в Анатолии, чем в Европейской Турции. Они вообще имеют смуглый цвет лица, черные глаза, темные волосы, слегка выдающиеся скулы, важную и медленную походку, несколько тяжеловатую вследствие слишком широкой одежды, обладают большой физической силой, но ловкостью не могут похвалиться: у них нет того изящества и проворства, которые отличают иранца. Между ними редко встретишь немощных и хилых; вошедшая в привычку умеренность и воздержность дает им очень чистую кровь; большинство имеет голову сплюсную назад, что объясняется положением, которое обыкновенно дается ребенку в колыбели. На азиатской стороне Босфора, особенно вокруг Олимпа, где раса менее смешана с иноплеменными элементами, нежели в других местах, османлисы являются еще с своими природными качествами; здесь они чувствуют себя более дома, чем во Фракии, среди стольких чуждых населений—греков, болгар, албанцев. Турок, не испорченный употреблением власти, не униженный угнетением, есть бесспорно один из людей, которые производят наиболее приятное впечатление совокупностью своих нравственных качеств. Он никогда не обманывает: честный, прямодушный, правдивый, он именно этими качествами вызывает насмешку или сожаление у своих соседей—грека, сирийца, персианина, армянина. Очень солидарный со своими, он охотно делится, но сам никогда не просит; что бы там ни говорили, злоупотребление бакшишем гораздо более велико в Европе, чем в восточных странах, кроме городов, где теснится толпа левантинцев. Есть ли хоть один путешественник, даже между самыми гордыми или самыми недоверчивыми, который не был бы глубоко тронут сердечным и бескорыстным приемом, оказанным ему турецкими поселянами? Завидев иностранца, глава семейства, на которого возложена обязанность принять гостя, спешит ему на встречу, помогает слезть с коня, приветствует ласковой улыбкой и приветливым жестом, расстилает на почетном месте свой самый дорогой ковер, приглашает приезжего отдохнуть, и, полный радости, что может быть ему полезным, тотчас же принимается за приготовление трапезы. Почтительный, но без унижения, как подобает человеку, уважающему себя, он никогда не делает нескромных вопросов; отличаясь безусловной веротерпимостью, он никогда не затевает религиозных споров, к чему так склонен персианин. Ему достаточно своей веры, и он считает неприличным допрашивать гостя о тайнах совести.
Присущие турку доброжелательность и справедливость не изменяют ему и в семейных отношениях. Вопреки разрешению, даваемому кораном, и несмотря на пример пашей, моногамия (единобрачие) составляет правило у азиатских османлисов, и указывают даже целые города, как, например, Фокею, которые не представляют ни одного случая многоженства. В деревнях, правда, турки берут себе вторую жену, чтобы «иметь лишнюю служанку»; точно также в некоторых промышленных городах они увеличивают посредством брака число своих работниц. Но имеет ли он одну или несколько жен, турок вообще гораздо больше уважает супружеские узы, чем западные люди; что бы ни говорили по привычке, семья не менее согласна у мусульман-османлисов, чем у европейских христиан. Полная хозяйка в доме, жена всегда третируется с доброжелательством; на детей, как бы молоды они ни были, смотрят уже как на равных по праву, и эти младшие члены семьи без хвастовства, с натуральной серьезностью, которая кажется выше их возраста; принимают участие в беседе больших; но настает час игры—они бегают, борются, прыгают, кувыркаются и резвятся с не меньшим увлечением, чем европейские дети. Природная доброта турок почти всегда распространяется и на домашних животных, и во многих округах ослы пользуются еще правом на два дня отпуска в неделю. Птичий двор, председательствуемый «благочестивым» аистом, важно восседающим на ветке платана или на коньке кровли, также представляет картину счастливой семьи. В деревнях, где живут представители двух преобладающих рас, турки и греки, нет надобности входить в жилища, чтобы узнать национальность их обитателей: аист всегда избирает себе местопребыванием крышу турка.
Хотя потомки расы завоевателей, в которой набираются по преимуществу чиновники правительства, турки не менее угнетены, чем другие национальности Оттоманской империи, если не более, потому что в посольствах никто не заступится за них, никто не походатайствует в их пользу. Налоги, сбор которых обыкновенно сдается на откуп армянам, сделавшимся в действительности худшими угнетателями страны, ложатся тяжелым бременем на бедных османлисов, отягченных, сверх того, многими другими повинностями. Когда проходят чиновники или солдаты, поселяне обязаны поставлять все необходимое для удовлетворения потребностей этих посетителей, и часто это вынужденное гостеприимство разоряет их столько же, сколько разорил бы грабеж настоящих разбойников. Когда молва возвещает о предстоящем проходе чиновников или военных, жители деревень покидают свои жилища и уходят в леса или ущелья гор. Отбывание воинской повинности лежит единственно на турках, как будто султан хочет переместить в ущерб своей расе центр тяжести населений империи, и для народа, у которого так сильно развиты семейные чувства, этот налог крови особенно тяжел и ненавистен. Во времена своих завоеваний турки перемещались целыми родами и семьями: старики, жены, дети, сестры следовали за воинами по близости от поля битвы; победители или побежденные, все разделяли одинаковую участь. Теперь же конскрипция отнимает молодых людей у семьи, не только на несколько месяцев, самое большое на три года или пять лет, как в странах Западной Европы, но на продолжительный период и часто даже на всю жизнь. Турецкие конскрипты не празднуют своего призыва на службу песнями или веселыми пирушками; почти все женатые уже два или три года, когда приходят сержанты-наборщики завладевать их личностью, они должны покидать родителей, жен, детей; все семейные связи разом порываются. Оттого, как бы ни была велика у них сила характера, они удаляются в безмолвии, точно пораженные страшным роком. В тех частях западной Анатолии, куда проникают железные дороги смирнской сети, новобранцев перевозят сотнями; на каждой станции поезд останавливается, чтобы принять новый груз рекрут. Толпа матерей, жен и сестер теснится около дверец вагонов, чтобы иметь последний поцелуй, последнее рукопожатие. Когда поезд тронется, поднимается общий взрыв криков и рыданий, и несчастные женщины тщетно бегут вдоль уходящих вагонов, протягивая цветы и масличные ветки к этим любимым фигурам, которые скоро принимают неясные очертания и, наконец, скрываются из глаз.
Ослабленные, угрожаемые в своем национальном существовании постоянными правильно повторяющимися из году в год рекрутскими наборами, одаренные, сверх того, качеством, которое, в их положении, составляет недостаток—покорностью судьбе, турки подвергаются крайней опасности, которая происходит от жизненной конкурренции с расой, обладающей более сильной инициативой. Они не могут бороться с греками, которые, под видом мирных торговых сделок, мстят им за истребительную войну, следы которой еще сохранились в Кидонии и на острове Хиосе. Турки сражаются не равным оружием: по большей части они знают только свой собственный язык, тогда как грек говорит на многих языках. Они невежественны и наивны, имея перед собой ловких и хитрых противников. Не будучи ленивым, турок не любит торопиться: «поспешение от дьявола, терпение от Бога!»—такова любимая его поговорка. Он не мог бы обойтись без своего кейфа, во время которого, погруженный в неопределенные мечты, он живет жизнью растений, не давая себе труда ни думать, ни хотеть. Между тем его соперник, сохраняя свою волю настойчивой и определенной, умеет пользоваться даже часами отдыха. Даже хорошие качества турка обращаются во вред ему: честный, верный слову, он будет работать до конца дней своих, чтобы расквитаться с долгом, и коммерсант пользуется этим, чтобы услужливо предлагать долгосрочные кредиты, которые закабалят должника навсегда. Господствующий принцип торговли в Малой Азии таков: «если хочешь благоденствовать, не делай христианину кредита больше, как на десятую часть его состояния, с мусульманином же рискуй до суммы, вдесятеро превосходящей его имущество!» Так широко кредитуемый, турок не имеет уже ничего, что бы принадлежало ему, как полная собственность. Все продукты его труда будут отданы ростовщику; его ковры, его земледельческие произведения, его стада, самая земля, наконец, все перейдет последовательно в чужия руки. Почти все местные промыслы, за исключением тканья материй и седельного мастерства, отняты у него. Лишенный всякого участия в морской торговле и в мануфактурном труде, он постепенно оттеснен с прибрежья внутрь страны, опять приведен к прежней кочевой жизни; земледелие ему оставляют только для того, чтобы заставить его обработывать свою собственную почву в качестве батрака. Скоро ему не останется ничего более, как только водить караваны или следовать за стадами с пастбища на пастбище. Турки почти совершенно изгнаны с островов ионийского берега; в больших городах прибрежья, где они еще недавно составляли большинство жителей, теперь им принадлежит лишь второе место по численности. В Смирне, главном городе их полуостровной империи, они кажутся скорее терпимыми, чем хозяевами. Даже в некоторых внутренних городах эллинский элемент уже уравновешивает турецкое население. Движение кажется неудержимым и непреодолимым—как поднимающаяся волна прилива, и османлисы сознают это не менее греков. С давнего времени крик «вон из Европы!» раздавался не только против османских правителей, но также против массы турецкой нации, и известно, что это жестокосердное желание в большей части уже осуществилось: сотнями тысяч ушли в Малую Азию эмигранты из греческой Фессалии, из Македонии, из Фракии, из Болгарии, и эти беглецы составляют лишь остаток несчастных, которые должны были покинуть отеческие дома. Этот исход османлисов из Европы продолжается и не прекратится, без сомнения, до тех пор, пока вся нижняя Румелия не сделается европейской страной по языку, нравам и обычаям. Но вот и в самой Азии туркам угрожает та же участь. Поднимается новый зловещий крик: «в степи!» и с ужасом спрашиваешь себя: неужели и это слово должно исполниться? Неужели нет возможного примирения между расами в борьбе, и неужели необходимо, чтобы единство цивилизации достигалось принесением в жертву целых народностей, да еще таких, которые отличаются самыми высокими нравственными качествами—прямотой, сознанием собственного достоинства, мужеством, терпимостью.

Греки, эти сыны угнетенной райи, которые уже смотрят на себя как на будущих хозяев полуострова, по всей вероятности, в огромном большинстве потомки ионийцев и других греков прибрежья. Однако, они не могут, взятые в массе, претендовать на чистоту крови. Разноплеменные населения, вошедшие в круг притяжения мелких греческих государств, и те, которые впоследствии эллинизировались под византийским влиянием, оставили потомство, смешанное с потомством древних греков, и слияние было полное. Отличительный признак греческой национальности, какою она сложилась ныне в Малой Азии, не раса, даже не язык, а вера в её внешних обрядностях; пределы этой народности, которую можно исчислять в миллион душ, совпадают с границами православных общин. Подобно тому, как на острове Хиосе и на полуострове Эритрейском многие деревни населены османлисами, потомками выходцев из Пелопоннеза, которые говорят только по-гречески, так точно в очень многих греческих общинах употребительный язык турецкий, и грамотеи, которые пишут на своем древнем языке, употребляют турецкие письменные знаки. Таковы, например, многие селения в долинах Гермуса и Кайстра, где греческий язык только теперь начинает входить в употребление, благодаря основанию школ. Проникая во внутрь страны, встречаешь в нескольких часах от портовых городов многочисленные греческие населения, знающие только турецкий язык; судя по названиям деревень, подумаешь, что попал куда-нибудь к туркменам, а между тем находишься посреди «азиатской Греции». С другой стороны, существуют эллинские населения, почти неизменившиеся в течение двух тысяч лет. Таковы островитяне, жители Карпафоса, Родоса, соседних островков и некоторых долин Карийского побережья, где древнее дорийское наречие оставило большое число слов. На островах Архипелага сохранились еще следы обычаев, предшествующих эллинизму: так, во внутренности островов Коса и Митилены, одни только дочери имеют право на наследство после родителей, и предложения о браке исходят от женщины. Когда старшая дочь выбрала себе мужа, отец отдает ей свой дом.
При основании полуострова, на границах Армении, сохранилось несколько групп греков, которых не коснулось никакое смешение с чуждыми элементами, ни с курдами, ни с армянами или османлисами, и которые говорят старым эллинским языком, изобилующим архаизмами, исчезнувшими из греческого диалекта, употребляемого в области морского прибрежья. Так, Фараш или Фараза, орлиное гнездо, господствующее над течением реки Замантиасу, на границах Каппадокии и Киликии, осталась до сих пор чисто греческой, несмотря на то, что она окружена туркменскими народцами. Фаразиоты, гордящиеся тем, что они говорят более чистым языком, чем ромейский (новогреческий), претендуют на происхождение из Пелопоннеза; можно по крайней мере допустить, что эллинские колонисты смешались с потомками древних каппадокийцев, подчиненных греческой цивилизации; но нет никаких народных песен, никаких древних сказаний, которые бы пролили свет на эти вопросы о происхождении. Пока фаразиоты оставались как бы блокированными в своей высокой крепости разбойничеством курдов и афшарцев, они сохраняли в целости наследие своего языка; но вольные отныне ходить по всему краю и эмигрировать в другие селения, они рассеялись по центральной Анатолии. Если бы школы не восстановляли равновесия, греческому языку грозила бы опасность исчезнуть в этой части полуострова. В некоторых деревнях, где прежде раздавалась эллинская речь, теперь греческие песни повторяются только стариками; во многих семьях дети не говорят уже национальным языком. Даже в начале текущего столетия, некоторые греческие общины, потеряв родную речь, потеряли вместе с тем и свою религию. Г. Каролидис встречал во время своего путешествия деревни, некогда эллинские по вере и языку, которые теперь сделались магометанскими. Вероятно, подобные обращения происходили и прежде, начиная с первых времен турецкого нашествия. Г. Каролидис, кажется, даже склонен думать, что каппадокийские афшары, резко отличающиеся от афшаров персидских, в действительности потомки туземцев, некогда эллинизировавшихся. По языку они не отличаются от других магометан, но нравы их в бесчисленных мелочах напоминают нравы древних греков. Упадок эллинизма в селениях внутренних областей, вероятно, достиг своего предела, потому что те из греков, которые сохранили свое имя, сохранили также сознание и гордость своего происхождения, действительного или предполагаемого, и теперь они находятся в непосредственных сношениях со своими единоплеменниками, которые, без сомнения, окажут им поддержку в борьбе за существование.
Как бы то ни было, успехи греческой национальности в областях морского прибрежья дотого быстры, что можно было бы вычислить, по правилу пропорций, во сколько десятилетий древняя эллинская Азия будет обратно завоевана у турок без пролития крови, просто постепенной заменой одной расы другою. Религиозное наименование составляет внешний кадр захватывающего греческого общества, но не догматическая пропаганда служит двигателем этого мирного завоевания. Напротив, мало-азийские греки, недавно обозначаемые под общим именем «христиан», редко отличаются ревностью в своем православии; их священники не пользуются общим влиянием, и за исключением деревень, с ними почти никогда не советуются о гражданских делах общины. Связью эллинских обществ служит патриотизм: они чувствуют себя солидарными с другими греками бассейна Средиземного моря, независимо от условных границ. Если они обращают взоры к Афинам больше, чем к Константинополю, то, тем не менее, можно сказать, что они видят отечество не в каком-нибудь городе, но в той подвижной волне, которая окружает острова Архипелага и которая, от Александрии до Одессы, омывает берега стольких греческих колоний. Все эллины Анатолии проникнуты «великой идеей» и все знают средство исполнить ее. Ни один народ не умеет лучше обеспечить свою будущность воспитанием детей. В этом отношении их инициатива равняется даже инициативе армян. В каждом городе школы—главное дело. Негоцианты, окончив деловые беседы о цене и отправке товаров, переходят к обсуждению педагогических методов, оценивают достоинство преподавателей, поощряют рвение воспитанников. Когда их посетит иностранец, они считают непременным долгом показать ему учебные заведения и детские приюты, просят его проэкзаменовать детей, высказать свое мнение по всем вопросам, касающимся воспитания, от которых зависит будущность их расы. Пункт, относительно которого все согласны—это то, что нужно прежде всего развивать в юношестве любовь к своей нации и честолюбие первенства. Все воспитанники учатся древне-греческому языку и читают классиков, чтобы познакомиться с теми временами величия и славы, которые сделали их предков воспитателями человечества; все изучают новую историю Греции и особенно подвиги, которыми ознаменовалась война за независимость. На снисходительных глазах управляющего ими турка они воспламеняются мыслью о том, чтобы прогнать его современем. Работа обратного завоевания отечества подготовляется на школьных скамьях. Так совершается мало-по-малу, мирным путем, политическая революция. Чтобы обеспечить содержание школ, этой надежды нации, нет той жертвы, которой не сделали бы общины. При жизни многие богатые частные лица строят на свой счет училища, и в духовных завещаниях патриотов образование молодых эллинов никогда не забыто.
В этом движении постепенного преобразования греки завладели уже, в ущерб туркам, многочисленными отраслями промышленности и всеми так-называемыми либеральными профессиями. В городах они делаются медиками, адвокатами, профессорами и учителями; как драгоманы и журналисты, они единственные информаторы европейцев, и на основании сообщаемых ими сведений складывается общественное мнение Запада. По каждому ремеслу, их национальности принадлежат лучшие мастера, и в их жилищах можно видеть с первого взгляда, что они сохранили от своих предков совершенное чувство веры и ритма форм. Несмотря на века варварства и угнетения, через которые прошла раса, очень многие произведения их промышленности могли бы служить образцами подобным предметам европейской индустрии. В греческих домах столярные работы—панели, потолки, паркеты—отличаются удивительной тщательностью отделки и пленяют взор скромным подбором цветов и вкусом орнаментов. В Смирнском порте лодка самого последнего гребца есть своего рода образцовое произведение по прочности конструкции, изяществу форм, счастливому распределению всего аппарата; уже по манере обвивания каната вокруг носа, сразу узнаешь, что лодочник принадлежит к народу-художнику. Чего нужно опасаться, так это того, чтобы, из любви к перемене, к новизне, подражание западным народам не увлекло их к уклонениям от хорошего вкуса и не заставило принимать фабрикуемые за границей предметы, стоящие гораздо ниже того, чем они сами обладают. Так, в городах Азии большинство греков одеваются уже «по-французски», в тот банальный и уродливый костюм, который фабрикуют для вывоза в европейских мастерских; они стыдятся носить вышитую куртку, шаровары, пояс, которые, однако, придают походке столько грации и благородства. В прежнее время им не дозволялось носить никакой одежды, кроме черной.
Благодаря своему более высокому образованию, захвату в свои руки ремесл и свободных профессий, наконец, благодаря богатству, которым они владеют, греки являются сильно вооруженными для борьбы с своими бывшими угнетателями. Они угрожают им также своим вездесущием. Мореход, путешественник, как во времена Геродота, нынешний эллин везде поспел: по своей деятельности он стоит десятка турок-домоседов, которые покидают родное место только затем, чтобы подышать чистым воздухом гор в летнем становище или яйлаке. Между греками, живущими в Азии, есть очень много приезжих из Пелопоннеза, континентальной Греции и с островов; взамен того, множество эллинов из азиатской Ионии, с берегов Черного моря, из Каппадокии отправляются на жительство к своим европейским братьям. Благодаря этим частым путешествиям, семейным союзам с одного континента на другой, благодаря также фальсификации документов, на которую легко склонить турецких чиновников за приличную взятку, не один малоазийский грек без труда превращается в эллинского подданного. Заручившись этим титулом, который изъемлет его самого и его семейство из-под непосредственного ведения турецкой администрации, он возвращается с высоко поднятым челом в свое первоначальное отечество. Таким-то образом в Смирне и в других городах азиатского поморья греческий консул имеет под своей юрисдикцией целые населения: в самом сердце турецкой территории основываются колонии эллинов, обладающих, вместе с силой, которую дает личная инициатива, неоценимыми выгодами политической независимости.
Между европейскими эмигрантами Малой Азии есть большое число выходцев, которых религия связывает с греческим миром, и которые мало-по-малу сливаются с ним. Таковы болгары и валахи; они скоро выучиваются греческому языку, и почти все, во втором поколении, сделались эллинами по нравам. К этим новым грекам примыкают представители расы, которую не ожидаешь встретить в Анатолии: это—несколько сотен семей казаков-рыболовов, поселившихся одни в дельтах Кизыл-Ирмака и Ешил-Ирмака, другие близ озера Манияс и на нижнем Кайстре, в соседстве Эфеса. Эти казаки, как и некрасовцы, поселившиеся на Дунае—староверы, бежавшие в Турцию от преследований в царствование Екатерины II, в конце прошлого столетия. Но в последние десятилетия главный поток эмиграции составляли черкесы—общее имя, под которым понимают всех переселенцев кавказского происхождения, и, конечно, эти иностранцы не из тех, сообщество которых греки находят приятным или по крайней мере сносным. Естественнее всего было бы поселить этих горцев в стране, мало отличной от той, которую они покинули: высокие долины Понтийских гор, киликийского Тавра, ликийского Ак-дага—вот те области, которые были бы для них наиболее подходящими по климату и произведениям; там им, конечно, жилось бы лучше, чем в равнине, и они не наделали бы себе так много врагов; но турецкое правительство, опасаясь, чтобы они не сделались слишком независимыми, расселило их группами по разным местам. Водворенные по большей части на землях, которые пришлось отрезать у их соседей, эллинов или турок, содержимые даже на счет окружающих общин, черкесы были встречены местным населением как грабители, и очень немногие постарались заставить простить им их непрошенное вступление в чужую семью. Незнакомые с местными языками, нежелающие научиться им, всегда гордые и молчаливые, новые пришельцы не все отказались от своих грабительских повадок, прибыв в страну, которая гостеприимно дала им у себя приют. Случаи кражи лошадей, даже похищения молодых девушек совпали с их приходом, и подозрения тотчас же направились на этих выходцев с Кавказа. «Черкес ворует даже у бедняка!»—таков общий голос в Малой Азии. Все соединились против них. Война вспыхнула против чужеземцев, особенно в греческих деревнях, жалобы которых не имели тех же шансов быть выслушанными, как жалобы турок. Во многих округах закон крови царствует между смежными общинами. Когда какой-нибудь черкес заблудится в пределах враждебных земель, он исчезает внезапно и бесследно, и никто не может или не хочет дать о нем какие-либо объяснения. Эмигранты из Кавказа, будучи в меньшинстве, принуждены были во многих местах отказаться от неравной борьбы и искать убежища в менее населенной стране; в других местах, именно близ Никомедии, они, напротив, прогнали своих соседей. Однако, нет недостатка и в таких черкесских селениях, жители которых, достаточно снабженные землями и скотом, живут в мире со своими соседями и постепенно приспособляются к новой среде. В верхней долине Меандра некоторые кавказские колонии могли бы служить примером окрестным туркам в отношении хорошей обработки полей и содержания ирригационных каналов. Из кавказцев туземцы всего менее имеют причин жаловаться на абхазов.
Прежде торговля Малой Азии была в большей части сосредоточена в руках иностранцев, почти исключительно латинских католиков, поселившихся в Смирне и других портах морского прибрежья и известных под коллективным именем левантинцев. До пробуждения греческой национальности они были единственными посредниками между турками Анатолии и портами Запада; но возрастающая деятельность эллинов и облегчения, которые употребление пароходов доставило непосредственным торговым сношениям, заметно уменьшили влияние левантинцев. Большинство их, поселившееся в стране с давнего времени и насчитывающее уже несколько поколений, представляет уже смешанную расу; многие плохо знают язык нации, к которой принадлежат по своим документам о происхождении; но они, тем не менее, ставят себя под покровительство своего консула и пользуются привилегией быть изъятыми из турецкой юрисдикции; между ними-то почти всегда выбираются консульские агенты и служащие в канцеляриях иностранных представителей. Без всякого сомнения, левантинцы исчезнут рано или поздно как особый класс: одни—чтобы слиться с населением края, другие—чтобы вернуться в лоно нации, к которой они принадлежат по происхождению. Гораздо раньше самого класса исчезнет жаргон, называемый «франкским языком», жаргон, порожденный коммерческими сношениями левантинцев с туземцами всякой расы в портах Востока. Этот жаргон, состоящий из нескольких сотен слов, приставляемых одно к другому без всякой флексии, был преимущественно итальянский, так как большинство говоривших им были уроженцы Италии; но он заключал в себе также термины провансальские, испанские, французские, равно как местные названия, греческие и турецкия, предметов торговли. Можно сказать, что это грубое собрание слов, называемое франкским языком, не существует более: оно уже заменено итальянским простонародным наречием и французским языком. Другой левантийский жаргон тоже на пути к исчезновению: это—испорченный испанский (spaniole), тот диалект, который употребляют потомки евреев, изгнанных из Испании, смешивая его с еврейскими выражениями, и который кастильцы поняли бы с трудом. В настоящее время воспитание мало-по-малу заменяет цивилизованными языками все эти уродливые говоры. Француз, высаживающийся в Смирне, с радостным удивлением слышит раздающуюся кругом него его родную речь, которую образованные туземцы приняли, как свой общий язык, и слова которой они, при том, произносят с замечательной чистотой. Это французский литературный язык сделался для армян и евреев, так же, как для греков и левантинцев, «франкским» диалектом наших дней.