III. Бассейны Тигра и Евфрата
Нижний Курдистан, Месопотамия, Ирак-Араби
Область Передней Азии, орошаемая двумя большими реками, Тигром и Евфратом, хотя и лежит среди континента, однако, представляет собою одну из стран, которые всего рельефнее отличаются от окружающих земель своими физическими чертами и историей своих народов. Нигде вид почвы и местности не показывает лучше, насколько судьбы наций гармонируют с землей, на которой они живут. Без Тигра и Евфрата как объяснить халдейскую цивилизацию или могущество Ассирии? Подобно тому, как имя Египта вызывает представление о Ниле, заключенном между двумя пустынями, затем разветвляющемся в дельту, так точно слова Вавилон и Ниневия напоминают о двух больших реках, окружающих равнины Месопотамии своими водами, беловатыми или желтыми от примеси твердых частиц. Населения равнин, заключающихся между Тавром и Персидским заливом, важностью своей исторической роли обязаны были, очевидно, не по собственному достоинству той или другой расы, ибо нации, которые организовались в области этих двух рек, имеют многосложное происхождение и образовались из самых разнородных элементов. Именно смешение этих рас, в среде, благоприятной их слиянию, так же, как их развитию интеллектуальному и социальному, и доставило Халдее и Ассирии продолжительное первенствующее значение в истории древнего мира.
Иранское плоскогорье, господствующее с востока над равнинами Тигра, расположено относительно этих низменностей как поперечная запруда, откуда стекают воды. Месопотамия представляет как бы водоспуск для населений соседних возвышенностей, которые легко могли спускаться через ту или другую из долин, наклоненных к Тигру, и акклиматизироваться, останавливаясь на каждом из лежащих на пути уступов. Точно также жители армянских гор и жители Тавра, на севере и на северо-западе, были естественно привлекаемы к равнинам, орошаемым двумя большими реками. Наконец, горцы прибрежных цепей Средиземного моря тоже устремляли взоры к Евфрату через узкую полосу пустыни. С трех сторон, обширный полумесяц равнин, покатых к Персидскому заливу, окружен возвышенностями, жители которых, так сказать, чувствовали естественное влечение к низменным полям, к обильным водам и плодоносным морским берегам. Всем этим переселенцам, пришедшим с огромной горной окружности, Месопотамия представляла аналогичные условия; разнородные элементы были ассимилированы в одну цивилизованную нацию, и из всех этих этнических контрастов образовалось высшее единство.
Как исторический путь, долина Евфрата имела, вместе с долиной Тигра, капитальную важность в древнем мире. Там проходит дорога, соединяющая линии берегового судоходства между Индией и странами Средиземного моря. Долина, продолжающая через Переднюю Азию поперечную впадину Персидского залива, достигает на северо-западе прибрежного пояса Средиземного моря, и через пролом гор сообщается с нижней долиной Оронта: таким образом естественное понижение рельефа почвы продолжается непрерывно от одного моря до другого. С тех пор как люди научились управлять своими судами на волнах, Евфрат естественно должен был сделаться посредником между Востоком и Западом и заменить труднопроходимые тропинки Ирана через горы и плоскогорья. Путь по Евфрату представляет, хоть в меньшей степени, выгоды, сходные с выгодами, присущими Нилу, и потому движение истории совершалось параллельно в той и другой стране. Вавилон был естественным соперником Египта во всемирной торговле; оттого могущественные государи этих стран всегда пытались завоевать соперничающую дорогу, чтобы уничтожить или обратить в свою пользу её конкурренцию. По крайней мере была эпоха, когда Месопотамия, повидимому, имела перевес, как средоточие торгового обмена. Двадцать пять веков назад, Вавилон был складочным местом богатств Индии, и, чтобы иметь в своем владении всю транзитную дорогу, царь Навуходоносор, уже владевший портом Тередон, на Персидском заливе, овладел городом Тиром, на Средиземном море. Евфрат, сделавшийся тогда главным торговым путем во всем свете, превосходил по важности даже дорогу Красного моря и Нила. Персидские завоеватели, привыкшие к нагорным дорогам и неопытные в морском деле, остановили движение торгового обмена между Индией и Месопотамией; видя в реках оборонительные линии, а не дороги, они перерезали их течение запрудами, с целью помешать судоходству и обеспечить себя от попыток нападения. Сделавшись повелителем империи персов, равно как стран по Нилу, Александр Македонский, понимавший цену двух великих торговых путей, перешедших под его власть, пытался реставрировать евфратскую дорогу. Он разрушил запруды, задерживавшие воды, выпрямил течение обеих рек, восстановил порт Тередон, велел построить флоты и вырыть в Вавилоне доки, где могли поместиться до тысячи судов. Эти усилия не были бесплодны, и не только во времена греческого господства, но еще и после Селевкидов, течение Евфрата оставалось дорогой между Востоком и Западом. При калифах, когда арабы обладали еще той могучей силой первого порыва, который дал им половину известного тогда света, рынки Месопотамии возобновили свою деятельность в международной торговле. Впоследствии эта область Турецкой империи обратилась в пустыню; но не видим ли мы уже предвестников возвращения счастливых дней для Месопотамии? Отлив цивилизации распространяется к тем странам, откуда к нам пришла её приливная волна. Афины, Смирна и Александрия снова выступили на всемирную сцену; точно также возродится, без сомнения, и Вавилон.
Взятая во всей совокупности её исторической жизни, эта область Передней Азии есть, бесспорно, одна из тех стран, которые пользовались наиболее продолжительной цивилизацией. Когда мидяне и персы наследовали могущественной ассирийской державе, были уже тысячи лет, как династия халдеян, эламитов, вавилонян, ниневийцев последовательно сменяли одна другую в равнинах Месопотамии, и как их учреждения, культы и языки совершали свою эволюцию. Прибрежные жители Двух Рек возводили свою мифическую историю к тем отдаленным временам, когда произошло великое наводнение, которое подало повод к преданию о потопе, сохранившемуся в их рассказах, и их достоверные летописи начинаются слишком за сорок одно столетие до нашей эпохи. Но еще ранее, до этой, ныне несомненно установленной исторической даты, какой длинный культурный период должен был пройти для того, чтобы различные элементы, представленные скифами или туранцами, «древнейшими из людей», иранцами, семитами, жителями острова Тильмун—может быть, нынешнего Барейна—могли смешаться и выработать религии, нравы, политические учреждения, запечатленные характером единства! Новейшие исследования не указывают ли также на тот факт, что и наука китайцев, которую так долго считали совершенно самобытной, самостоятельно возникшей на восточной покатости Старого Света, имеет в действительности халдейское происхождение и получила начало на берегах Евфрата? Вавилонское чародейство мы находим даже у тунгузов.
Так велико было превосходство и влияние цивилизации древних халдеев, что окрестные населения, в своих легендах, помещали между двумя реками Месопотамской низменности то идеальное место, где первые люди жили в невинности и радости. Как все народы, обитатели бассейна Евфрата должны были относиться с особенным благоговением к той стране, откуда к ним пришли искусства и науки, и эта страна превращалась в их глазах в благодатный и счастливый край, в «рай», в «Эдем»—где смерть не имела власти, куда не пробирался змей-искуситель. Иранцы обращали взоры к долинам Эльборджа или Эльбурса; индусы переносились мысленно в страну «Семи рек», над которой господствует священная гора Меру; точно также евреи, пришедшие из Месопотамии, устремляли взоры к области её рек, и их рай имел границами течения Тигра и Евфрата, а также течения рек Пизон и Гихон, оставшихся неизвестными. Матросы, поднимающиеся вверх по Шат-эль-Арабу, никогда не упускают случая показать путешественникам, как местоположение земного рая, старые деревья, растущие в Корна, при слиянии двух рек. Много существует теорий, предложенных археологами и толкователями Священного писания, которые пытались с точностью определить место, где книги евреев помещали сад блаженства; но не следует ли видеть в нем просто пояс возделанных земель, орошаемых двумя главными реками Месопотамии и проведенными из них ирригационными каналами? В клинообразных надписях Вавилонское царство всегда изображается именами четырех рек: Тигра, Евфрата, Сумани, Укни,—вероятно, тех самых, о которых говорит Книга Бытия. Имя Эдем или Ган-Эдем, как полагают, тожественно с названием Ган-Дуни, одним из наименований, которыми обозначалась Вавилонская страна, посвященная богу Дуни или Дуния. Со времени открытия литератур зендской и санскритской, слово «Земной рай», который легенда локализировала в стране Арам-Нагарайн, то-есть «Сирии Двух Рек», сделалось неопределенным выражением, применяемым к Кашмиру, к Бактриане или к какой-либо другой плодоносной области Передней Азии.
Халдея, куда все еще обращают взоры те из людей западного мира, которые ищут золотого века в прошлом, не могла не оказывать капитального влияния на религию народов, принявших её цивилизацию. Священные книги евреев, сделавшиеся ветхозаветным священным Писанием христиан, содержат многочисленные места, переписанные из халдейских книг, и даже отрывки, составленные на вавилонском наречии; сказание о жизни патриархов, о всемирном потопе, о вавилонском столпотворении и смешении языков совершенно одинаковы; космогония Книги Бытия мало разнится от той космогонии, которую передают отрывки из Бероза. Но Халдея завещала западным народам также свое научное имущество, знание небесных светил и их движений, искусство разделения времени по движению небес; она научила их взвешивать и измерять предметы с точностью, и преподала им тысячу первоначальных понятий из астрономии и геометрии, следы которых до сих пор сохранились в технических терминах. Для торговых сделок халдеи употребляли—вероятно, первые—обожженные кирпичи, на которых писался порядок платежа; из Вавилона это изобретение перешло в Персию, откуда арабы распространили его в Европу. Что касается искусств и литературы населений, живших в бассейнах Тигра и Евфрата, то действие их тоже было очень могущественно, но не прямо, а через выработку, которой их подвергли, с одной стороны, евреи и финикияне, с другой—гиттиты, киприоты, фригийцы. Их доля влияния на ход человечества была долгое время забыта; но она, так сказать, пробудилась в настоящем столетии. Первые исследователи разсказывают, как они были поражены, во время раскопки развалин, когда увидели этих крылатых быков, с бесстрастным и грозным лицом, которые охраняли вход в храмы. Легко понять ужас арабов, которые, при виде этих откапываемых священных фигур, убегали без оглядки, или падали на колени, полагая, что из земли выходит божество.
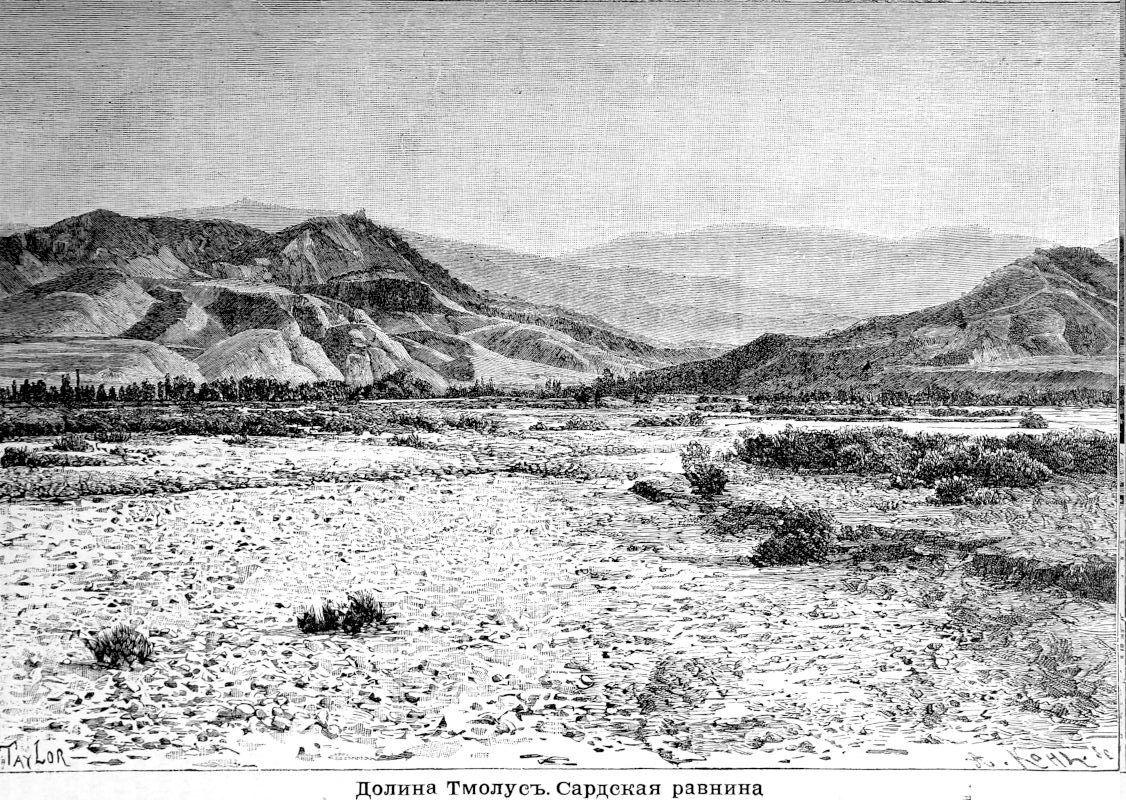
Ни в какой стране Передней Азии почва не покрыта более многочисленными руинами, чем в Месопотамии; на обширных пространствах земля смешана с осколками глиняных сосудов и кирпичей. Телли или горки обломков и мусора разбросаны сотнями и тысячами по равнине; кое-какие остатки башен и бесформенных стен напоминают города, где некогда толпились массы людей, и самое имя которых неизвестно в наши дни. Подобно соседним нациям, народы, населявшие область Двух Рек, пришли в упадок вследствие поступательного движения, которое постепенно переносило центр цивилизации из Азии на берега Средиземного моря и оттуда далее в западную Европу; но состоя из земледельцев и торговцев, рассеянных в равнине, открытой со всех сторон набегам варваров, эти народы не могли с успехом защищаться от нападений диких орд, которые, следуя по стопам цивилизованных, также подвигались постепенно с востока на запад. Города были срыты, жители истреблены, и теперь едва насчитывают пять миллионов душ в этой области, столь же обширной, как Франция, и гораздо более плодородной в тех местностях, где могут разветвляться ирригационные каналы; более половины обитателей Месопотамии, и именно обитатели нижних равнин, которые могли бы давать обильнейшие урожаи,—кочевники, живущие становищами на окраинах пустыни и всегда готовые снять свою палатку и перекочевать на другое место.
Население округов Месопотамии, по Сальнаме или оффициальному альманаху за 1879 г.:
Диарбекирский вилайет—818.000 жит.; санджак Орфа—56.000; санджак Зор или Дейр—240.000; Багдадский вилайет—3.210.000; Бассорский вилайет—790.000. Общая цифра населения—5.114.000 жит.
Естественные границы Месопотамии составляют горы, образующие на востоке и на севере первые ступени краевых цепей Персии и плоскогорий Курдистана; на северо-западе пределом служат массивы и цепи Таврских гор, общее направление которых с северо-востока на юго-запад, и которые оканчиваются выступами и мысами на берегу Средиземного моря. Но внутри обширного полумесяца, описываемого этими складками почвы вокруг Месопотамии, и даже внутри громадного острова, ограниченного течениями двух её главных рек, есть несколько гряд высот независимых или, по крайней мере, отделенных от предгорий Тавра и Курдистана глубокими проломами.
Массив Караджа-даг, на юге от узкого перешейка из скал, поднимающагося между истоками западного Тигра и крутым поворотом Евфрата у Телека, протянул свои гребни по направлению с севера на юг и образует, так сказать, стрелу громадного лука, очерченного краевыми горами Армянского нагорья; горный проход, высотой около 800 метров, отделяет его от массива Мераб-дат, передового контрфорса Тавра, занимающего крайний угол междуречной области. Караджа-даг—могучий массив из черного базальта, вершины которого, достигающие около 1.900 метров высоты, выливали некогда из своих трещин большие потоки лавы: горные ручьи, бегущие с Караджи, вырыли свои русла в этих огненных породах, которые высятся по обеим сторонам потока в виде вертикальных утесов. Так, Караджа-чай, ручей Караджа, текущий с северо-восточных склонов к Тигру, ниже Диарбекира, бежит по дну глубокого ущелья, иссеченного в массе лавы, и соединяется, на небольшом расстоянии от реки, с другим горным потоком, Кучук-чай (Маленький ручей), над правым берегом которого господствует перпендикулярная базальтовая стена, в 70 метров высоты. Город Диарбекир построен на оконечности одного из этих застывших потоков лавы, которые, очевидно, вылились в эпоху, предшедствовавшую нынешнему геологическому периоду, так как они покрыты легким слоем глинистой земли.
На западе базальтовые горы Караджа-дага опираются на боковые отроги, невысокие цепи которых разветвляются по направлению к Евфрату; некоторые из этих цепей достигают до 800 метров абсолютной высоты, превышая таким образом на четыреста или пятьсот метров уровень нижних равнин; эти высоты—к которым принадлежит, между прочим, Нимруд-даг, горы Немврода—имеют внушительный вид только благодаря своим крутым скалистым склонам. Но в большей части своего протяжения, к западу, эти возвышенности принимают характер плоскогорий: так, на запад от гор Немврода, возвышенность Кара-Сека представляет плато в роде тех, какие мы видим в южной Франции (где они известны под именем causses), хотя менее правильной формы. Этот известковый стол, имеющий 720 метров средней высоты, прерывается через известные промежутки трещинами, которые оканчиваются в кольцеобразных углублениях, впадинах, образовавшихся вследствие провала почвы, в которых скопляется немного воды во время дожливого сезона.
На востоке, Караджа-даг отделен от гор Мардин широким проломом около 800 метров абсолютной высоты, представляющим легкопроходимую дорогу путешественникам, отправляющимся из Диарбекира в степи, огибаемые течением реки Хабур. По обе стороны перевала геологический контраст полный: на западе высятся базальтовые утесы, на востоке простираются пласты известняков и мела. Высота самых высоких вершин почти одинакова, около 1.500 метров; на тех и других бывают иногда в конце апреля полосы снега. Горы Мардин, Мазиос древних географов, представляют, на высоте около 1.000 метров, многочисленные понижения гребня, через которые бассейн Евфрата сообщается с бассейном Тигра, а с восточной стороны широкая долина отделяет их от менее высокого доломитового массива Тур-Абдин, который продолжается по направлению к Тигру базальтами Гамка-дага и Элим-дага. Вершины Тур-Абдина почти все без деревьев; во многих местах камень нигде не покрыт даже травкой; только в долинах кое-где показываются редко стоящие дубы; но у подошвы южных крутых склонов, равнины, орошаемые горными потоками, разветвляющимися на тысячу ирригационных каналов и канав, представляют один громадный сад, где скучены селения столь же многочисленные, как в наилучше обработанных странах Европы. Откосы утилизируются жителями до последнего клочка земли, благодаря стенам в виде лестницы, опоясывающим каждую террасу; внизу, фруктовые деревья едва оставляют место, необходимое для дорог; тополи окружают пригорки, на которых некогда стояли оборонительные башни и храмы, деревенские акрополи или кремли.
Водораздельная возвышенность проходит гораздо ближе к Тигру, чем к Евфрату; в Лелеки-баире, где воды разделяются, при чем одни текут в Тигр, а другие образуют далее притоки Джахджаха и Хабура, раздельный хребет в десять раз более удален от Евфрата, чем от восточной реки. Он продолжается на юг, чтобы образовать массивы Карачок и Бутман, которые господствуют над Тигром и заставляют его описывать излучины по направлению к востоку. С своей стороны, массив Бутман примыкает к восточной оконечности цепи, которая выдвигается далеко к юго-западу в степи средней Месопотамии: это—Синджар, по-курдски Сингали, хребет, хотя не высокий, но, тем не менее, имеющий величественный вид, благодаря своему уединенному положению среди ровных степных пространств: с речных берегов в открывающейся взорам пустынной области видны только крутизны Синджара и скал, продолжающих его в западном направлении, Джебель-Ахдала и Джебель-Азиза, обрисовывающих на горизонте свой неравный гребень над пыльной поверхностью пустыни, и снова появляющихся по ту сторону Евфрата, чтобы соединиться с Анти-Ливаном через кряжи Джебель-Амур и Джебель-Рюак. Редко посещаемый, хребет Синджар сделался, однако, центром населения, по причине дождей, орошающих его склоны; многочисленные гроты, открывающиеся в известковых скалах, часто служили убежищем преследуемым иезидам, обитающим в окрестных селениях. Равнины, простирающиеся на запад от Синджара, по направлению к Евфрату, были свидетелями великого научного события, совершившагося в начале девятого столетия: измерения градуса меридиана собранием арабских астрономов; по их наблюдениям, длина одного градуса оказалась равной 56 и двум третям арабских миль. Но какова была в ту эпоху точная величина мили? По Беку, погрешность, сделанная астрономами, посланными калифом Аль-Мамуном, составляла около одной десятой по плюсу; по Ханыкову же, ошибка их не превышала одной пятидесятой.
К югу от хребта Синджар, в Месопотамской области встречаются только невысокие горки, почти все искусственные, да столы из скал, выгрызенных водой временных потоков (уади). На восток от Тигра, почва везде снова поднимается в виде горных валов; но эти скалы, перерезываемые притоками реки, принадлежат к иранской системе, ориентированной с северо-запада на юго-восток, и продолжаются параллельно краевым цепям Персии, снеговые вершины которых, блистающие на солнце, ясно видны из садов Багдада. К северо-востоку от Моссула, различные гряды гор, гораздо более неправильные, чем цепи Ирана, и соединяющиеся во многих местах в высокие массивы, поднимаются большим числом вершин выше 4.000 метров; массив Тура-Джелу, на востоке от Большого Заба, имеет, по Лейярду, более 4.500 метров высоты. Главная цепь, которую путешественники переходили перевалами, очень удаленными один от другого, та, которая господствует над становищами и селениями курдов гаккари; от озер, лежащих южнее озера Ван, она продолжается до краевых хребтов Персии, к которым примыкает между истоками двух рек Заб. Точная граница земли курдов или Курдистана на северо-востоке Месопотамии есть в то же время предел гористой области: это—песчаниковый вал, Джебель-Гамрин, четыреугольная призма геометрической правильности, разрезанная водами на узкия поперечные долины или ущелья, не менее правильные. Персиане дают совокупности гор, господствующих над равнинами Месопотамии, общее название Пушт-и-ку, которое можно встретить на очень многих картах, но которое на самом деле не применяется ни к какой особенной цепи. Это имя просто значит «Горы по ту сторону».
Тигр, менее длинный из двух рек-близнецов, изливающих свои воды через устья Шат-эль-Араба в Персидский залив, берет начало, как известно, в соседстве Евфрата. Близ Сиванских рудников, главные истоки, называемые Уч-Гель (Три озера), бьют из земли на расстоянии не более тысячи метров от глубокого ущелья, где течет Мурад, и образуемый ими ручей направляется на юго-запад, как бы для того, чтобы броситься в Евфрат, при выходе его из гор. Но другой поток, берущий начало также в нагорной долине, близкой к Евфрату, идет ему на встречу и увлекает его в юго-западном и южном направлении: это—Диджле, который считают главной ветвью Тигра, откуда и самое имя Шат или «Река» по преимуществу. Он течет сначала с полуостровной области, которую ограничивает Евфрат, описывая длинный ряд извилин на севере, потом на западе и на юге от возвышенных равнин Харпута; вытекая близко (всего только в нескольких километрах) от крутого поворота Евфрата, Диджле тотчас же начинает искать себе выхода из громадного круга, очерченного вокруг него рекой-соперницей. «Маленькое озеро» с солоноватой водой, Гельджук, Гельджик или Геленджик занимает в небольшом расстоянии к северу и 200 метров выше, впадину плато, кругообразная закраина которого посылает ручьи как в Тигр, так и в Евфрат. Недавно, после нескольких дождливых годов, озеро, уровень которого постепенно повышался, подобно тому, как это было с армянским внутренним морем Ван, достигло, наконец, пролома скал у его восточной оконечности, так что излишек вод его полился в Тигр: пользуясь этим обстоятельством, предприняли даже прорытие траншеи для того, чтобы урегулировать истечение озера и сделать его постоянным питательным источником реки. Так сближаются два речных бассейна, сближаются дотого, что сети их вод кажутся переплетающимися, как бы подтверждая описания древних авторов. Согласно местной легенде, поток Тигра был посещен Александром Великим; оттого этот исток называют «Рекой о двух рогах», по прозвищу, которое получил македонский завоеватель вследствие обоготворения его народами Востока.
По вступлении в Диарбекирскую равнину, «Река» быстро увеличивается в объеме от принятия притоков, посылаемых ей северными горами. Батман-су, один из наиболее обильных притоков,—второй Тигр по стремительности его вод, и бассейн этого притока, как и бассейн Диджле, начинается в непосредственном соседстве верхнего Евфрата, на южной стороне Мушских гор. Затем следуют Арзен-су и другой Шат, Ботан-су, в который впадает река Битлис, получающая начало в невысоком массиве, ограничивающем с юго-западной стороны резервуар озера Ван. Этот прекрасный ручей Битлис есть, вероятно, тот самый поток, который подал повод к басням, повторяемым Страбоном и Плинием, о проходе Тигра через озеро, в котором, будто бы, водилась только одна порода рыбы; на воды Битлиса смотрели, как на подземное истечение озера Ван, но этот поток берет начало на более высоком уровне сравнительно с уровнем озера, и вода его не солена и не содержит натра, как вода ванского замкнутого резервуара. Очевидно, только по составу воды можно будет узнать, существует ли действительно между притоками верхнего Тигра ручей, вышедший из Армянского озера подземными галлереями
Ниже соединения двух Шатов, Диджле, или западного Тигра, и Ботана, или восточного Тигра, река, которая уже катит половину жидкой массы, несомой его нижним течением в море, поворачивает на юго-восток, чтобы направиться в ущелья, перерезывающие дикия горы. На пространстве около 75 километров, тропинки оставляют берега и взбираются либо на западной, либо на восточной стороне, по крутизнам, съуживающим течение реки: там и сям, с высоты мысов, видны в глубине ущелья воды, скользящие у основания почти отвесных известковых стен или базальтовых колоннад. Ниже этого первого пролома гор, куда не решились проникнуть «Десять тысяч воинов Ксенофонта», открывается широкая равнина, и река извивается на просторе среди аллювиальных земель; но вскоре после того поток перерезывает другие горные валы, и в этих местах берега его опять делаются непроходимыми. Утесы и обвалы известняков, глин, конгломератов омываются волной: тропинки, избегая реки большими обходами, удаляются даже от нижней части притоков, которые все текут на глубине 15 метров между двух глинистых стен.
В ряде теснин, который начинается при слиянии притока Ботан-су и оканчивается выше города Моссула, река сохраняет нормальное направление, которому она следует до Евфрата, параллельно краевым цепям иранского плоскогорья. В этой части своего течения, как и в области истоков, Тигр получает большие притоки только с левой стороны: покатость правого берега представляет лишь узкую полоску земли, и почти все воды водораздельной возвышенности текут по направлению к Евфрату. Дождевые облака, приходящие с Средиземного моря и с Индийского океана, разрываются на южных скатах высот Курдистана, и в то время, как дожди, падающие на предгорья, непосредственно на север от пустыни, стекают к Евфрату, влажность, приносимая южными ветрами на высокие горы Вана и западной Персии, возвращается, в виде горных потоков, к Тигру. Некоторые из этих потоков имеют значительный бассейн: таков Большой Заб или Зарб (Зарб-эль-Кебир), верхния реки которого уносят воды области, заключенной между двумя озерами Ван и Урмия. Малый Заб (Зарб-Сагир) тоже катит много воды, часть которой он получает в персидской территории. Точно также, река Диялах, впадающая в Тигр, ниже Багдада, получает из Персии большое число ручьев, берущих начало в параллельных понижениях краевых цепей. Притоки, как и самый Тигр, должны пройти через параллельные хребты гор, прежде чем выйти из своих древних озерных впадин, чтобы вступить в равнину Месопотамии. Большой Заб, вытекающий из возвышенных долин курдского края, ударяется, на востоке от Моссула, о конгломератовые массивы, которые он перерезывает широким руслом, имеющим в некоторых местах не менее километра от берега до берега. Малый Заб тоже достигает Тигра, пройдя последовательно ряд узких поперечных долин между горами. На юго-восток от одних из «Ворот Тигра», вырезка, вертикальные стены которой имеют от 50 до 70 метров высоты, открывает проход водам реки Диялах через пласты красного песчаника массива Гамрин. В дождливое время года воды скопляются в виде временного озера в равнине Кизыл-Робат, лежащей выше ущелья. Другой приток Тигра, Адгим, берущий начало на склонах священной горы, Пир-Омар-Гудрун (2.500 метров), образует постоянное болото выше «Железных Ворот» или Демир-Капу, отделяющих его от аллювиальных равнин Месопотамии. Ниже всех рек-притоков, Тигр во многих частях своего течения выступает из берегов и выделяет из себя на восток болотистую ветвь, Гадд, которая соединяется с Керхой, рекой Луристана. Зимой вся равнина, простирающаяся от нижнего Тигра до Персидских предгорий, представляет одно внутреннее море, часто называемое в насмешку Умм-эль-Бак, что значит «Мать москитов»; летом остается сеть извилистых потоков, по которым удобно ходят мелкие суда, из Тигра в Керху, на расстоянии более 150 километров.
При слиянии с Евфратом, у Корны, Тигр, вопреки тому, что говорит Страбон, самая полноводная из двух соединяющих рек. Среднее количество протекающей в Тигре воды равно, по Ренни, 4.656 кубич. метров в секунду, тогда как в Евфрате, у Гита, по измерениям того же исследователя, оно составляет только 2.065 куб. метров. Западная река, то-есть Евфрат, теряется в его потоке, не увеличивая, повидимому, его объема. Отсюда может быть и название «Безводный Тигр», Диджлат-эль-Аура, которое прежде давали соединенным рекам, как бы желая тем указать на кажущееся исчезновение Евфрата. Общая длина Тигра, между истоков «Двурогой Реки» и местом её вступления в Шат-эль-Араб, около 2.000 километров, вдвое менее, чем длина Евфрата, и протяжение его бассейна тоже далеко уступает пространству бассейна этой последней реки; но, вместо того, чтобы извиваться в пустыне, как Евфрат по выходе из цепи Тавра, он все время течет вдоль основания гор, которые посылают ему свои воды, происходящие от снега и дождя. Получая начало в местности, лежащей на несколько сот метров выше долины Евфрата, и следуя, в направлении Персидского залива, по менее извилистой долине, Тигр имеет гораздо более наклонное падение. Он бежит быстро между крутых берегов, откуда и произошло его древне-персидское название Тигр или «Стрела», заменившее ассирийское наименование Гиддекель (Идиклат) или «Река с высокими берегами», которое сохранилось в армянском имени Дикла и в арабском Диджле. Благодаря большей скорости течения, Тигр теряет менее воды испарением и менее разливается по прибрежным равнинам в виде озер и болот. Пароходы с неглубокой посадкой подымаются по реке до Багдада и могли бы даже достигать Текрита, отстоящего от моря почти на 1.000 километров. Выше, до Моссула, ходят только барки, а еще выше, между Моссулом и Диарбекиром, единственное средство плавания составляет келлек, то-есть плот из досок, поддерживаемый на воде надутыми кожаными мешками. Мольтке и Мюльбах были первые европейцы, спустившиеся по реке этим способом и усмотревшие грандиозные ущелья, которыми Тигр выходит из области гор.
Ниже слияния двух главных ветвей—Мурада, наиболее полноводного из них, и Фрата (Кара-су, или «Черная вода»), давшего название всей реке,—Евфрат, то-есть «Река по преимуществу», несет уже большую часть водной массы, которая соединяется с Тигром в Шат-эль-Арабе. Русла двух Евфратов имеют, в среднем, более 100 метров ширины, один метр глубины, и скорость течения равна 3 метрам в секунду. В период разлива, то-есть с половины марта до конца мая, уровень поднимается обыкновенно от 5 до 6 метров и даже еще гораздо выше во время исключительно больших наводнений. Ущелья, которыми проходит поток, наполняются от утеса до утеса, и тропинки по берегам заливаются водой. Прежде, чем выйти из горной области, Евфрат усиливается еще несколькими притоками, присоединяющимися к нему как раз у вершины большой дуги, которую он описывает к западу от последних отрогов Тавра. В этом месте, воды возвышенностей Армении некогда скоплялись в озеро, бывшие берега которого видны еще на окружающих крутизнах, и которое оставило после себя многочисленные болота в богатых аллювиальных землях Малатии, отложенных течением Евфрата и его притоков. Не много найдется стран в Передней Азии, почва которых была бы столь же плодоносна, но и нет местностей более нездоровых. Между этими реками западной покатости, соединяющимися с Евфратом, самая полноводная Токмасу (Мелас древних географов), истоки которой переплетаются на водораздельной возвышенности с истоками Джигуна или Пирама Киликийского, притока Кипрского моря. Низменная равнина, орошаемая Токмой и Евфратом, лежит как раз на половине дороги из Константинополя в Багдад и составляет место роздыха на этом главном тракте Турецкой империи. Кроме того, и другие исторические пути проходят через этот бассейн, естественный центр пересечения дорог между Арменией и Сирией, между Малой Азией и низовьем Евфрата. Эта низменность, составляющая на западе продолжение верхней долины Тигра, была дорогой, указанной природными условиями местности караванам и армиям, отправляющимся из Персии к берегам Ионии. Клинообразные надписи, вырезанные на скале, господствующей над Евфратом в месте прохода, напоминают чужеземцу какой-нибудь забытый военный подвиг и славу персидского завоевателя, имя которого ученые стараются дешифрировать.
В бассейне Малатия, река находится еще на высоте 847 метров, и вал Тавра отделяет ее от нижней равнины. Поворачивая сначала на восток, чтобы следовать вдоль северного основания гор, поток вскоре вступает на юго-востоке в ущелья между скалистыми крутизнами, поднимающимися на 500 слишком метров: здесь начинаются стремнины или «пороги» Евфрата, которым турки дают название «Сорока дефилей». Эти пороги, в числе около трехсот, следуют один за другим на пространстве 150 километров, и в некоторых местах в таком близком расстоянии, что едва минуешь один катаракт, как уже слышишь рев воды на следующем пороге. Иногда, зимой, льдины задерживаются на выступающих из воды камнях и скопляются сплошными массами, по которым поселяне переходят через реку, как по мосту. Смотря по высоте вод, пороги бывают более или менее опасны: то поток убегает, образуя наклонную плоскость последовательных волн, то он низвергается каскадами. Водовороты перемещаются, и тогда как в одно время года воды кружатся медленно, в другое они несутся бешеным потоком, вырывая воронку, окруженную пеной. Справа и слева, с гор бегут ручьи, одни спускаясь по дну оврагов, через которые взор поднимается до верхних террас, с их лугами, осененными раскидистыми орешинами, другие низвергаясь шумными каскадами или даже падая с высоты карниза, откуда по временам летят также, смешанные с водяным столбом, глыбы и мелкие камни.
Один из самых опасных порогов—тот, который встречается первый на пути из Малатийской равнины: это—«Змеиный водоворот», названный так по причине волнообразного движения потока, который в этом месте имеет падение 5 метров на 180. Другие грозные пороги следуют один за другим близ Телека, там, где Евфрат, круто поворачивая на юг, затем на юго-запад, проходит под плоскогорьем, на котором бьет из земли, в 400 метрах выше, исток западного Тигра; сернистые воды вылетают фонтаном из расселины скалы, вблизи катарактов, и приметны издалека своими волютами паров: ниже, горный обвал съузил реку, и русло, средняя ширина которой перед этим местом превышает 200 метров, имеет здесь не более тридцати метров от одного берега до другого: эта теснина известна под именем Геик-Таш, что значит «Прыжок оленя». Один из последних порогов, Гергер (Гургур или Харкар), справедливо прозванный «Ревом воды», тоже считается опасным у плотовщиков. Однако, находились смельчаки, пускавшиеся в плавание через пороги. В 1838 и 1839 годах офицер Мольтке, командированный турецким правительством изучить на месте перевозочныя средства для транспортирования военного провианта, спустился по дефилею на плоте келлек: в первый раз он совершил переезд благополучно; но во второе плавание, предпринятое в сезон разлива, ему лишь с большим трудом удалось спастись от одного из водоворотов на пороге Телек; кожаные мешки были разорваны или отвязаны от плота силой течения, и несколько раз волны увлекали его под воду.
По выходе из ущелий армянского Тавра, Евфрат огибает на востоке, потом на юге, эту цепь гор, которая посылает ему многочисленные горные потоки; выше маленькой деревни Кантары видны еще кое-где пороги и стремнины. Река еще не вступила в равнину; утесы и холмы, известковые или меловые, высотой около сотни метров или даже более, прерываемые в местах впадения перерезывающих их речек, господствуют над долиной, преимущественно на правом берегу; но с высоты этих береговых круч на юге виднеются уже, через холмы, однообразные пространства Месопотамии и длинные извилины реки, с её островками и песчаными мелями. В этой части своего течения Евфрат направляется к Средиземному морю, и при вершине крайней описываемой им дуги он находится от этого моря всего только на расстоянии 155 километров. К этой излучине, столь важной в историческом отношении, сходятся естественные пути между морем и рекой. Самое имя Рум-Кале или «Крепкий замок римлян» указывает на важное значение, которое римляне или византийцы придавали этой части реки, называемой древними цейгма или «соединением», «местом переправы», по преимуществу. Выше этого пункта на Евфрате были построены мосты в разные времена, и Линч еще в 1836 году видел кое-какие обломки, в которых он признал остатки этих древних сооружений. Ниже, в Бире или Биреджике, главном месте прохода караванов, иногда скоплялось до пяти тысяч верблюдов, ожидающих судов для переправы через реку. До Балиса, лежащего на 150 километров ниже Рум-Кале, Евфрат течет почти параллельно берегу Средиземного моря, и только с этого места он поворачивает на юго-восток, чтобы пересечь наискось территорию до Персидского залива.
Справа и слева долины почва равнин довольно ровная; однако, высокие берега все еще сопровождают реку, особенно на правой стороне, где размывающее действие вод наиболее ощутительно. Некоторые цепи холмов оканчиваются выступами или высокими мысами над потоком и даже съуживают его ложе. Так, ниже Деира, Джебель-Абиад, или «Белая гора» заставляет Евфрат отступать, изгибаясь к западу до ущелья, через которое река соединяется с Хабуром. Ниже Анахаи до Гита, известковые скалы, окаймляющие берег, так близко подходят к реке, что не остается даже места для домов и нив. Некоторые селения состоят из естественных и искусственных гротов, вырытых в стенах поднимающихся над рекой утесов. Стоя внизу, различаешь жилища арабов и соседния пещеры, служащие убежищем диким голубям, только по тучам пернатых, кружащихся в воздухе. Некоторые деревни, как, например, Гадида (Гадиса), Эль-Уз, Джеба, построены на скалистых островах среди потока, который шумно ударяется о выступающие над поверхностью воды камни. Словно крепости, эти селения поднимаются над уровнем половодья, который почти на 7 метров превышает зимний горизонт вод. Внешние дома походят на стены цитадели и не имеют ни одного отверстия, через которое вода могла бы проникнуть в селение: во время наводнений деревня превращается таким образом в род кругообразной шахты, лежащей ниже потока.
Судоходный в продолжение части года, по крайней мере для пароходов небольшого водоуглубления, Евфрат имеет, ниже Биреджика, лишь весьма незначительное среднее падение до самого моря: принимая в рассчет все извилины, наклон площади истечения едва превышает один дециметр на километр; оттого вода спускается медленно, особенно в период мелководья, в конце осени и в начале зимы. Когда глубина составляет только полтора метра в самой впалой части ложа, верблюды могут безопасно пускаться через реку по крепкому дну; даже перед деревней Гадида поселяне переходят в брод. Во всем своем течении по равнине вниз от Биреджика, река Передней Азии, вероятно, уменьшается в объеме, подобно Нилу. Правда, к ней присоединяются притоки справа и слева: так, она получает Саджур из Таврских гор, Нахр-Белик—с высот Урфа, Хабур—вытекающий из гор Тур-Абдин; но, за исключением этого последнего, горные потоки, впадающие в средний Евфрат, несут значительный объем воды только в сезон дождей; другие притоки не более, как уади, почти круглый год безводные; прибрежные жители спешат отвести воду на свои поля, как только она появится на песчаном или глинистом дне ложа. Многие из этих временных потоков улетучиваются в прудах или теряются в болотах. Уади Али, начинающийся в соседстве Пальмиры, есть одно из этих русл, почти всегда сухих, а между тем он имеет не менее 300 километров. Уади Гарра, уади Гауран тоже имеют, по своим высоким берегам и широким ложам, вид больших рек, хотя летом там увидишь лишь лужи стоячей воды. Но эти временные ручьи и речки сирийской пустыни далеко превзойдены руслом потока Эль-Недж или Эр-Румом, который берет начало километрах в пятидесяти от Мадианского прибрежья, затем описывает большую дугу к югу во внутренности Аравии и оканчивается у нижнего Евфрата, пройдя пространство по меньшей мере в 2.000 километров. Эта большая «безводная река» свидетельствует о значительных климатических переменах, которые совершились с той эпохи, когда дожди могли размыть такую громадную рытвину на восточной покатости Аравии. Если бы брать в рассчет все временные воды, которые, даже из глубины Аравии, стекают на месопотамскую покатость, то поверхность бассейна Евфрата и Тигра, исчисляемая почти в 500.000 квадр. километров, увеличилась бы на целую треть. Устья временных потоков или уади бывают иногда опасны для перехода, даже когда в них совсем нет воды и дно кажется совершенно ровным. Дело в том, что во время сильных жаров почва дает широкия и глубокия трещины, которые первые дожди, увлекая мелкий песок, покрывают кремнями в виде пленки, тонкой, как лист бумаги. Путешественники должны идти с величайшей осторожностью, когда они рискуют пускаться по этому обманчивому грунту. Между двумя из этих уади, Кубейса и Мохамедие, из которых последний спускается с западных степей, непосредственно под городом Гит, простираются обширные слои пропитанной горной смолой почвы, прикрытые гипсом и глиной. бесчисленные серые холмики, поднимающиеся над поверхностью равнины, словно палатки лагеря, изливают из своего основания горную смолу (асфальт), в виде дымящихся источников, средняя температура которых от 25 до 30 градусов стоградусного термометра. Тягучая жидкость течет извилистым ручьем на почерневшей земле и медленно спускается к Евфрату.
В том месте, где западная река наиболее приближается к Тигру, и где эти два потока спускаются параллельно, на расстоянии один от другого, средним числом, около 35 километров, лежащая между ними равнина орошается Евфратом, который выше восточной реки почти на 5 метров. Кажется, что в предшествующую эпоху Евфрат в этом месте соединялся с Тигром, потому что скат от первой реки ко второй однообразен, без всякого промежуточного порога: вследствие постоянного размывания и подтачивания своего правого берега и отложения наносов на левом берегу, Евфрат постепенно удалился от Тигра, но он и теперь еще посылает ему боковые потоки. Оскудевая таким образом в пользу багдадских равнин и Тигра, получающего излишек водной массы своего близнеца, Евфрат мало-по-малу уменьшается в объеме; кроме того, значительная часть его вод переходит через плотины, худо содержимые, и разливается по болотам равнины, этим громадным «тростниковым морям», которые продолжаются на необозримое пространство, на протяжении сотен квадр. километров. Выше Вавилона, течение реки не переставало перемещаться, то вправо, то влево, иногда по собственной воле, часто вследствие труда человека, повиновавшагося приказу Нитокриса, Кира или Александра Македонского. Еще в эпоху Селевкидов, главное русло проходило к востоку от небольшого возвышения почвы, которое поднимается непосредственно на юго-западе от Багдада, и змеилось в равнинах, на расстоянии менее 25 километров от Тигра: вдоль этого древнего ложа и расположены почти все груды развалин и кучи мусора, оставшиеся от прежних городов, тогда как на берегу нынешней реки нигде не находили руин. В 80 километрах к югу от места первоначальной бифуркации начинается рукав, называемый каналом Гиндие и обязанный этим именем будто-бы работам ремонтирования, которые были предприняты одним индийским набабом; но, повидимому, он существовал уже в предшествовавшую эпоху; были уже сделаны многие прорезы, чтобы урегулировать изменчивое русло. Канал Гиндие уносит теперь около половины вод главной реки и изливается на западе в обширное «море» Неджеф; воды его очень уменьшаются в объеме от испарения, когда выходят из этого обширного болотистого резервуара, чтобы вернуться в главное русло. Вследствие этих разветвлений речного течения, произошло то, что рукав, за которым сохраняется имя Евфрата, перестал быть узнаваемым. Среди Ламлунских болот он имеет не более 74 метров от берега до берега; фарватер в собственном смысле имеет, в сухое время года, всего только 60 сантиметров глубины и от 3 до 4 метров ширины; спускаясь на барке по течению реки, англичане Кембаль и Бьюшер часто принуждены были тащить свое судно в грязи и пролагать себе проход через камыши, там, где пароходы Чесни находили за тридцать лет перед тем от 4 до 6 метров воды.
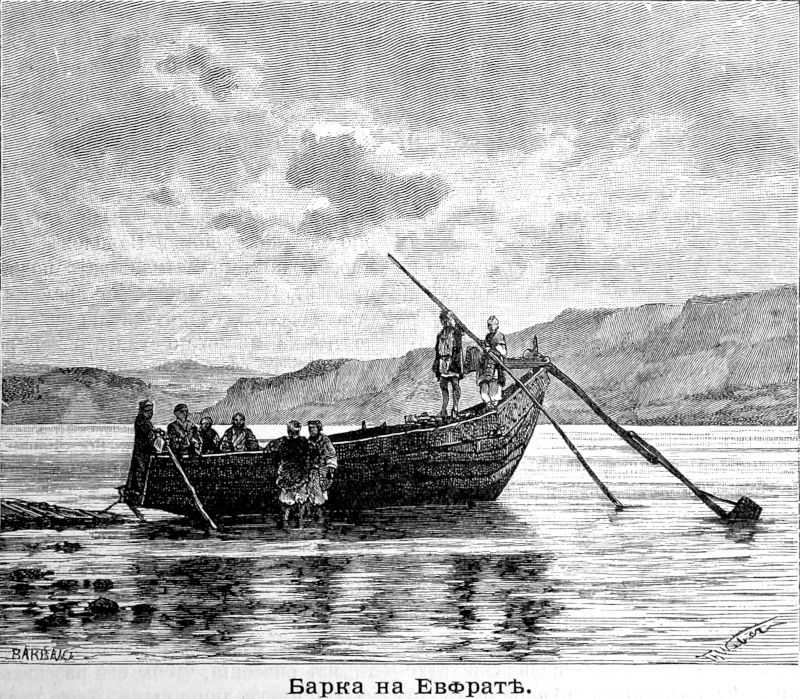
Ниже Евфрат снова принимает свою нормальную ширину, благодаря возвращению канала Гиндие и вод, изливающихся из прибрежных каналов, а также благодаря водной массе, приносимой ему Тигром, ибо, по странному явлению, восточная река, после принятия в себя истечений Евфрата, делается, в свою очередь, данником своего соперника: обмен вод совершается от верховья к низовью. При том, система канализации так же неудовлетворительна в прибрежном поясе Тигра, как и в прибрежном поясе вавилонской реки, и многие каналы, вместо того, чтобы разветвляться на второстепенные канавы и канавки, теряются в обширных болотах, заражая атмосферу. Во время наводнений часто случается, что плотины прорываются выше Багдада, и город остается по целым месяцам отделенным от восточных возвышенностей необозримой водной площадью, среди которой возвышаются там и сям, на подобие островов, пригорки, служащие убежищем для поселян, захваченных врасплох катастрофой. Поток наводнения не облегчается более, как было прежде, всеми этими боковыми каналами, которые сообщались с водовместилищами, вырытыми во внутренности туннеля, и защищали таким образом низовые равнины, сохраняя излишек вод до конца разлива. Восточные притоки Тигра, которые более удобны для канализации, чем главная река, по причине их меньшего объема и большей наклонности их скатов, гораздо лучше утилизируются: это преимущественно водам Халиса, отведенного из реки Диялах, багдадские равнины обязаны своей богатой растительностью. На берегах того же притока сделаны были с успехом первые ирригации по методам европейских гидротехников.
Во все времена хотели установить нечто в роде мистического контраста между двумя главными реками Передней Азии; в этом брачном союзе вод Евфрат представлялся воображению восточных народов мужским элементом, тогда как на Тигр смотрели, как на элемент женский. После соединения Тигра и Евфрата в общем русле Шат-эль-Араба, еще на расстоянии нескольких километров ясно заметна разница двух потоков: менее обильный, Евфрат приносит воду более медленную, более теплую, более чистую, более правильную в своем стоке; наносы или осадки его отложились уже в прибрежных болотах, тогда как «Стрела» содержит еще муть или твердые землистые частицы, увлекаемые её течением. Мыс Корна, омываемый двумя реками при их слиянии, составляет южную оконечность большого овального полуострова «Междуречье» или Месопотамия, Джезире турок, Арам-Негарайн древних халдеев и египтян во времена Тутмесов и Рамзесов. Эта островная область начинается, в строгом смысле слова, у Телексного колена, там, где пороги Евфрата отделены от истоков Тигра лишь узким валом скал; но с географической точки зрения, в отношении вида местности, почвы, климата, произведений, жителей и истории, истинная Месопотамия есть просто равнина, в которой переплетаются ирригационные воды, отведенные из этих двух рек. Искусственный вал, начинающийся на Тигре у Самарской луки и направляющийся на юго-запад к западной оконечности канала Саклавиях, ограничивает на севере эту плодоносную область Междуречья. Эта стена, называемая «валом Немврода», имела от 11 до 15 метров средней высоты и через каждые 50 метров была фланкирована башнями; но теперь во многих местах от этого сооружения остались только бесформенные развалины.
Евфрат мало утилизируется для судоходства, хотя с 1836 года пароходы спускались по реке ниже Биреджика. В различные эпохи, со времени Александра Македонского, по этому поперечному пути Передней Азии ходили целее военные флоты; император Юлиан собрал там не менее тысячи ста судов. В мирные периоды, когда судовщики не имеют причины опасаться вымогательств со стороны солдат или нападений грабителей, торговое движение возобновляется между речными пристанями, по перевозке фруктов и других произведений; плашкоуты, длиной до 12 метров, имеющие 1 метр осадки, безопасно плавают по среднему Евфрату в продолжение двух третей года, с грузом до 15 тонн. С 1563 года, эпохи, в которую один венецианский купец, Чезаре Федериго, спустился по течению из Биреджика до Фелуджи, багдадской пристани на Евфрате, европейские путешественники часто избирали речной путь, отправляясь с прибрежья Средиземного моря в города Месопотамии. До применения пара к судоходству, главное препятствие в торговых сношениях происходило от трудности проводить барки обратно к верховью: большая часть плашкоутов разбирались по прибытии на место назначения и продавались как строительный материал или на дрова, а судовщики, точно так же, как это было во времена Геродота, возвращались домой сухим путем, либо следуя вдоль берега, либо избирая более короткую, но и более трудную дорогу, через пустыню. Редкость леса на горах Армении и на Тавре делает лодочное судоходство очень дорогим, и на нижнем Евфрате, вниз от города Гита и его асфальтовых источников, употребляют, для плавания по реке, преимущественно большие корзины, сплетенные из веток тамариска; промежутки между прутьями затыкаются соломой, и вся корзина внутри и снаружи покрывается слоем асфальта, который совершенно не пропускает воды и выдерживает давление водной массы. Иногда можно видеть оригинальное зрелище, как эти корзины, кружащиеся на воде, плывут сотнями, нагруженные товарами, которых ожидают на берегу караваны верблюдов. Таким образом, нынешния суда на Евфрате отличаются от кожаных корзин, описанных у Геродота. Что касается пароходства, то река достаточно известна со времени исследований Чесни и других английских офицеров, чтобы можно было, во всей нижней части Евфрата, предварительно канализированной в местах прохода через болота, устроить правильное пароходное сообщение на все время сезона дождей; но города, сменившие могущественный Вавилон, не довольно многолюдны, чтобы поощрять подобные предприятия. От времени до времени, какое-нибудь турецкое судно появляется выше Гилле до Анаха, но можно судить о теперешней маловажности реки, как судоходного пути, по тому факту, что почти вся торговля последнего из только-что названных городов с Багдатом производится не по Евфрату, а дорогой через пустыню, направляющейся на восток к Текриту на Тигре.
Известно, как велико было плодородие вавилонской почвы, когда речные воды были искусно распределяемы по прибрежным местностям. Геродот, который, однако, ранее видел плодоносную дельту Нила, не хотел описывать растительность на берегах Евфрата, из опасения, чтобы его рассказы не показались преувеличенными. Даже после прохода стольких завоевателей и разрушения канализационных работ, сделанных ассириянами, сырая Месопотамия, совершенно непохожая, по физическим условиям, на сухую Месопотамию, то-есть полосу, обнимающую северные степи, отличалась баснословным плодородием: первые калифы извлекали из этой области громадные выгоды, когда вымогательства еще не обезлюдили края, последствием чего было постепенное распространение пустыни по возделанным землям. Статистика, составленная по повелению калифа Омара, констатирует тот факт, что производительные земли черноземной полосы Савад, общая площадь которых составляла всего только миллион сто тысяч гектаров, давали казне доход в 85 миллионов франков, контролируемый свинцовыми печатями, которые земледельцы носили на шее, после уплаты налога. В наши дни земледельческое производство далеко не так велико, но оно все еще возбуждает удивление своим обилием, и невольно задаешь себе вопрос: как природа соглашается так щедро вознаграждать столь примитивный труд араба. Тамошний земледелец ведет свое хозяйство следующим способом: он выбирает какой-нибудь хор, то-есть опушку болотистого пространства, средина которого занята грязью и тростником; затем, без всякой обработки, или просто поцарапав почву закривленной на конце палкой, которая менее взрывает землю, чем это сделал бы зуб граблей, и даже не дав себе труда вырвать сорные травы,—бросает семена ячменя в приготовленное таким образом поле. Как только покажутся листики, выпускают скот на хор, чтобы дать ему выщипать первые всходы, после чего оставляют поле без всякого ухода до дня сбора. Через четыре месяца после посева, в апреле, хлеб готов для жатвы. До тридцати и сорока колосьев родятся из каждого посеянного зерна.
Вода и теперь еще настолько утилизируется в сельских местностях, хотя и варварскими способами, что река значительно уменьшается в объеме в некоторых частях своего течения. Большинство прибрежных жителей орошают свои поля при помощи привода, который попеременно понижает и поднимает мех из козьей кожи. В промышленных округах для этой цели употребляют колеса, приводимые течением в движение и к которым привязаны бадьи, выбрасывающие воду в каменные водопроводы, построенные на вершине высокого берега. Наконец, кое-где есть каналы, регулируемые при входе шлюзом, которые берут ирригационную воду прямо из реки и разветвляются далеко по прибрежным равнинам: это лишь слабый остаток исполинских гидравлических сооружений, описанных у Геродота, во времена которого боковой резервуар, откуда получали воду ирригационные канавки, был так обширен, что мог принимать в себя в продолжение нескольких дней, не наполняясь, весь поток Евфрата. Канал, построение которого приписывалось царю Навуходоносору, и который разветвлялся параллельно реке, от Гита до моря, имел не менее 800 километров в длину; он не был превзойден ни одним из новейших сооружений этого рода. Древние каналы, остатки которых видны в прибрежных равнинах, были двоякого рода: одни, как, например, канал Нахр-эль-Мелек или «поток царя», спускавшийся наискось из Евфрата и впадавший в Тигр при Селевкии, были вырыты настолько глубоко, что поток проходил там во всякое время года и прочищал свое русло собственной силой размывания: это были судоходные пути. Другие каналы, служившие исключительно для целей орошения, получали воду только во время сезона разливов, который как раз совпадает с самым деятельным периодом растительности; но эти ирригационные канавы засоривались, заносились песком, и каждый год нужно было вынимать из них ил, который выбрасывали на берега; образовавшиеся от этого откосы достигали, наконец, высоты от 6 до 7 метров над уровнем равнин; встречаются даже такие, которые превышают 10 метров. С течением времени земледельцы утомлялись поддерживать эти каналы с двойным боковым валом; они вырывали рядом второй канал, затем третий, боковые насыпи которых возвышались последовательными рядами поперег равнины; во многих местах существует пять или шесть таких старых ирригационных каналов, окаймляющих горизонт своими параллельными стенами, которые издали походят на линии ретраншементов. Ничего не было бы легче, как снова привести эти каналы в исправное состояние очисткой от засорившего их ила и песка, тем более, что в новейшее время уже бывали примеры подобных реставраций: так, в июле 1838 года один пароход спустился по каналу Саклавиах до Тигра у Багдада. С того времени были поправлены и некоторые другие из вавилонских каналов; но ирригационные канавы, которые роют в наши дни, имеют по большей части гораздо более скромные размеры, нежели подобные же сооружения древних; они далеко не достигают такой значительной ширины (от 20 до 80 метров), какую имели древние каналы, являвшиеся настоящими реками, и не снабжены резервуарами-регуляторами, вымощенными и выложенными камнем, как старые водохранилища, которые еще видны там и сям, затерянные во внутренности земель. Запущенные и заброшенные уже сотни лет, эти гидравлические сооружения не окружены более мощной растительностью, как это было в старину: теперь кругом них во все стороны расстилается на необозримое пространство бесплодная равнина, покрытая, точно снегом, белым соляным налетом. Что касается построения речных плотин, то прибрежные жители, арабы или другие, умеют еще возводить их с большим искусством: ветви тамариска и камыш служат им материалом для приготовления фашин, которые, по своей гибкости, лучше оказывают сопротивление, чем камень; ил, залегая в промежутки между прутьями, скрепляет обшивку берегов и способствует их прочности.
В нескольких километрах ниже соединения Тигра и Евфрата, Шат-эль-Араб принимает в себя значительный приток, Керху, персидскую реку, которая спускается с гор Луристана. Имея полкилометра в ширину и от 6 до 10 метров глубины, «Река Арабов»—таков буквальный смысл слова Шат-эль-Араб—есть одна из больших рек Азии, хотя, однако, ее нельзя сравнивать с такими могучими потоками, как Ян-цзе-кианг, Ганг и Брамапутра; она даже много уступает объемом Дунаю, сопернику Евфрата по длине течения, но протекающему по стране с более сырым климатом. Средний сток Шат-эль-Араба исчисляется Барнсом в 6.696 куб. метров в секунду, что представляет истечение около 3 дециметров для всей поверхности бассейна: так как средняя глубина Персидского залива составляет 75 метров, то водам Шат-эль-Араба нужно бы было около семидесяти лет, чтобы наполнить эту впадину, если бы она была осушена каким-нибудь явлением природы. Землистые частицы, содержащиеся в водах этой реки, отлагаются при устье и образуют в море бар в форме полумесяца, представляющий в часы отлива только от 3 до 4 метров глубины: суда, имеющие более значительную осадку, должны выжидать прилива, который в среднем достигает 3 метров высоты, или употребить большую паровую силу, чтобы прорезать килем порог из грязи, запирающий вход в речное устье и покрытый слоем воды толщиной от 3 до 4 с половиной метров. Речные наносы, постепенно накопляющиеся, выдвигаются все далее и далее, заставляя море отступать за собой. В шестидесятилетний период времени, с 1793 по 1853 год, приращение дельты составляло, по Раулинсону, 3.200 метров, то-есть около 53 метров в год, и вычислено, что в течение тридцати последних веков все прибрежье подвинулось к югу слишком на 150 километров. Эти состоящие из речных наносов пространства продолжают равнины морского образования, которые можно видеть даже в соседстве Багдада, и происхождение которых обнаруживается мириадами раковин, принадлежащих к тем же видам, как и раковины Персидского залива. Но подвигаясь мало-по-малу в область морских вод, река не перестает передвигать свое течение то вправо, то влево, совершая как-бы качания, в роде качаний маятника: русло перемещается из века в век и из года в год. Было время, когда Тигр, Евфрат, Карун, даже Керха изливались в море каждый отдельно; «Две Реки», соединенные своим средним течением, были самостоятельны по низовью; они спускались параллельно морю, и русло, где соединяются воды, раздваивается там и сям, как будто две реки имеют стремление опять разделиться. Клинообразные надписи упоминают о военной экспедиции Сеннахериба против государства Элам, во время которой этот царь должен был подвергать себя и свое войско опасностям морского плавания, чтобы добраться от устья одной реки до устья другой. Прежнее независимое русло Евфрата, Паллакопас древних греков, известное в наши дни под именем Джахризадех, находится километрах в двадцати к западу от Шат-эль-Араба, и хотя ему часто дают название «безводной реки», однако, там и теперь еще течет ветвь Евфрата,в продолжение восьми месяцев в году. Морское течение, которое идет вдоль прибрежья Персидского залива, устремляясь к устью в направлении от востока к западу, от берегов Персии к берегам Аравии, постепенно засыпало песком вход Паллакопаса или «устья Абдалаха». Точно так же и нынешний лиман, частью уже засоренный илом, переменяет место; со времени построения первых английских морских карт, он отодвинулся к востоку, приближаясь к старому устью Каруна. Эта персидская река, некогда впадавшая прямо в море, теперь соединена с Шат-эль-Арабом искусственным каналом Гаффар, вырытым в 40 километрах ниже города Бассоры. Первоначальное русло Каруна существует еще под именем Бамишира, давая таким образом персианам независимый торговый пункт, которым они, впрочем, не стараются воспользоваться, чтобы не иметь надобности расчищать и поддерживать проход из реки в море.
Устья Шат-эль-Араба и Бамишира старые, покинутые течением речные русла, боковые истоки или ветви верхних вод, пруды, наполняющиеся в период разлива, топкие илистые берега—все это вместе образует неопределенное, переходное пространство, которое уже перестало быть морем, но еще не успело сделаться твердой землей: это—область, которую можно сравнить с Сандербаном Ганга, но растительность её гораздо менее богата: вместо непроницаемой чащи джунглей, где кусты и деревья переплетаются стволами и ветвями, здесь увидишь лишь камыши в затопленной равнине, и в часы прилива путешественники, уже прошедшие бар и поднимающиеся по речному течению, могли бы подумать, что находятся еще на море; только на северном горизонте, ряды пальм, которых видны лишь вееры, показываются в воздухе, как стаи птиц. Солончаковые пространства возвышающиеся над уровнем наводнения, покрыты солончаковыми растениями, тогда как земля уже твердая, но еще затопляемая периодическими пресными водами, поросла особого рода тростником, mariscus elatus, волокнистые корни которого переплетаются в ткань дотого плотную, что почва превращается в род войлока, оказывающего сопротивление самым сильным разливам; там, где mariscus овладел почвой, размывания уже не бывает: вода скользит вдоль берега, не подтачивая перепутанного до бесконечности сплетения корней. В мелких и тинистых водах, окаймляющих пояс тростников, живут мириадами барвены, которые роют себе норы в иле и поднимают его мало-по-малу, облегчая таким образом захват почвы растениями. Фауна Шат-эль-Араба отчасти морская. Акулы поднимаются с приливом до города Бассоры, и даже выше в Тигре и Евфрате, но они заходят по большей части в Карун, вода которого, спускающаяся с гор Хузистана, гораздо прохладнее; в нескольких сотнях метров температура воды разнится на 8 градусов Цельзия. В Каруне ладейщики встречают этих акул во всем низовье до запруды Аваз; их видели даже в соседстве Шустера.
На берегах обеих рек, Тигра и Евфрата, и в степях подошвы Синджара и Мардинских гор, летния жары почти невыносимы. Зимние холода там тоже очень чувствительны, особенно в открытом поле; лужи замерзают по ночам: когда дует северный ветер, арабы валятся с лошадей, как безжизненные массы; верблюды, окоченевшие от холода, не в состоянии двигаться. Месопотамская область обязана исключительно этим двум главным рекам своей замечательной географической индивидуальностью: по климату она представляет переходный пояс, где перекрещиваются метеорологические явления соседних стран, и где встречаются флоры и фауны, принадлежащие различным областям. Тогда как северные округи заняты предгорьями Курдистана и первыми уступами плоскогорья Персии, обширные пространства, заключающиеся между двумя реками, состоят из глинистых или каменистых степей, и растительность, окаймляющая правый берег Евфрата, ограничена песками пустыни или соляной эффлорессенцией высохших болот. С одной стороны, скаты гор убираются весной самыми разнообразными цветами, и стада газелей прячутся в густой траве; с другой—бесплодная почва дает только тощий кустарник, и дикая фауна представлена лишь хищными зверями, бродящими вокруг палатки бедуина. От Багдада до Мардина не увидишь, может быть, и шести дерев, разве только в возделанных лощинах, да на вершине холмов. Однако, северные степи представляют также местами пространства очень плодородной земли, где могли бы жить миллионы людей, если бы они утилизировали воды ручьев и отводили в свою пользу течения Тигра и Евфрата; весной охотничьи собаки, бегающие по степи, возвращались домой все желтые от насевшей цветной пыли. Большая равнина, зеленеющая с февраля по май, желтая в остальное время года, принадлежит к русскому поясу по чернобыльникам, к сахарной области по мимозам, к бассейну Средиземного моря—по злакам. По мнению большинства ботаников, подтверждающему то, что говорил двадцать три столетия назад Бероз, равнина Двух рек есть страна по преимуществу хлебных злаков: там был испечен первый хлеб; в начале настоящего столетия, в 1807 году, путешественник Оливье открыл в одном овраге, непригодном для культуры, пшеницу, ячмень, полбу в диком состоянии, и с того времени многие ботаники находили эти виды в области среднего Евфрата. С юга на север и с запада на восток Месопотамия представляет ряд поясов, отделенных один от другого неправильными линиями. Пальмы не переходят на севере за южное основание массива Синджар; на Евфрате последняя большая пальмовая роща находится в городе Анах; в Текрите, на Тигре, находим две последние плодовитые финиковые пальмы, составляющие как-бы авангард финиковых лесов нижней Месопотамии: они указывают естественный предел арабского владычества, а далее на севере начинается область курдского армянского масличного дерева. Хлопчатник растет в Диарбекирских равнинах, но далее этого предела он не встречается; выше европейские плодовые деревья, которые, однако, первоначально были привезены в нашу часть света из Передней Азии, их настоящей родины,—яблони, груши, абрикосовые деревья, окружают селения, но вишни нет, так же, как в северной Армении и на Понтийском прибрежье.
В равнинах Междуречья лев бродил еще в половине настоящего столетия, даже в соседстве Мардинских гор, но он исчез с берегов среднего Тигра выше болот Керхи. Слон и дикий тур, на которых охотились ассирийские цари в окрестностях Ниневии, не встречаются там более, по крайней мере уже слишком двадцать пять веков. Равным образом дикий осел перестал уже принадлежать к месопотамской фауне. Пеликану, еще недавно столь обыкновенному в евфратских лесах, тоже грозит опасность исчезнуть в очень близком будущем, так как пух его идет на муфты, очень ценимые, особенно в России. В степи самый обыкновенный зверек—тушканчик или табарган, разрывающий почву своими норками, так что в некоторых местах лошадям очень опасно бежать по такому обманчивому, постоянно проваливающемуся под ногами грунту. Евфрат и его прибрежные местности сохранили еще кое-какие остатки флоры и фауны, отличной от растительного и животного царства степей; река имеет собственную растительность, своих особенных птиц и диких животных: на берегах её водятся куропатки, франколины, сороки, гуси, утки и другие пернатые, которых никогда не встретишь в 2 километрах расстояния на пустынной равнине. На скалах вокруг Биреджика гнездится ибис (ibis comata), абиссинская птица; кажется, он не имеет колоний в других местах долины Евфрата, и жители охраняют эту птицу, видя в ней как бы покровителя их города. Бобры сохранились еще в средней части течения реки, а в прибрежных болотах обитает особый вид черепахи, trionix euphratica, длиной около метра. Чесни утверждает, что будто в Евфрате, именно в области ближайших к Сирии излучин, водятся крокодилы; однако, этот факт подвергнут сомнению некоторыми зоологами.
Во все времена с самого начала писанной истории, население Месопотамии было смешанного происхождения. Иранцы севера и востока, семиты юга и запада встречались в равнинах Тигра и Евфрата, и в этой области Междуречья образовались новые нации, непохожия на первоначальные расы и отличающиеся особенными качествами, подобно тому, как сплавы приобретают новые свойства, отличные от свойств первоначальных металлов, из которых они составлены. Ассирияне и халдеи имели свой особенный гений, отличный от гения их соседей, персов и мидян, арабов, сирийцев и евреев; но они не сохранили отдельного существования, как эти соседние народы. Сделавшись слабейшими, они были истреблены или смешались со своими победителями, утратив свое имя, свой язык, сознание своей национальности; однако, и до сих пор существует еще между курдами одно племя, которое носит имя Айсор и претендует на прямое происхождение от древних ассириан. Падение цивилизаций Вавилона и Ниневии позволило первоначальным элементам снова взять верх, и в наши дни вся Месопотамия разделена, как завоеванная земля, между этнологическими областями арабов равнины и горских курдов и туркменов. В половине семнадцатого столетия, когда Оттоманская империя была в борьбе с Австрией, арабы племени шаммар или шомер из Неджеда воспользовались удалением турецких войск на театр войны, овладели несколькими городами на берегу Евфрата и прошли победоносно по равнинам до Мардинских гор. Другое племя арабов, аназехи, пошли по их следам, чтобы иметь свою долю в завоевании, и после продолжительной и кровопролитной борьбы, вся область, простирающаяся от гор Сирии до предгорий Ирана, оказалась разделенной между двумя названными главными народцами и их союзниками. Аназехи распространили свое владычество в северо-западных степях до самых ворот города Алеппо; шаммары стали господствовать в Месопотамии. Война в собственном смысле прекратилась между шаммарами и аназехами, но мир не был заключен, и набеги из территории в территорию часто повторяются. По сведениям, собранным английской путешественницей, Анной Блент, численность этих племен определяется приблизительно следующими цифрами:
Аназехи и союзные племена: 30.000 палаток или 120.000 душ; шаммары и союзные племена: 28.000 палаток или 112.000 душ.
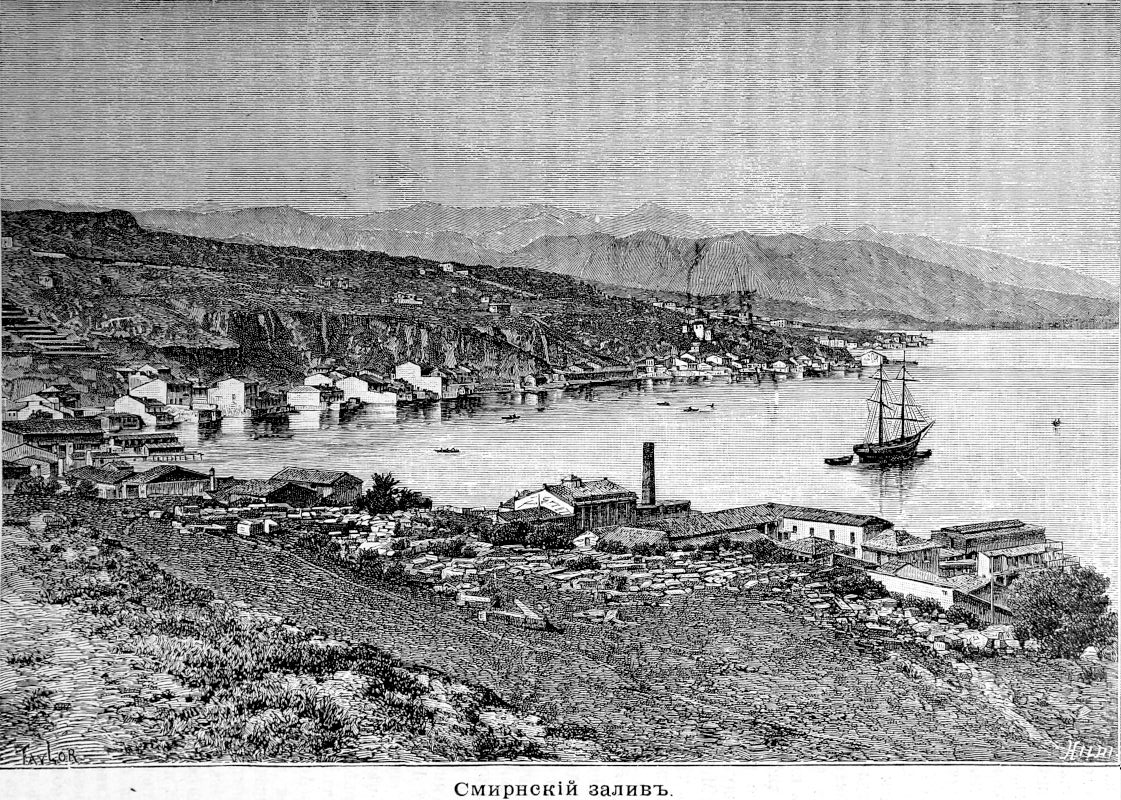
Со времени крымской войны прибрежные города на Евфрате были снова завоеваны турками; паши установили военные посты на больших дорогах, по которым ходят караваны, и некоторые племена оставили кочевую жизнь, променяв ее на земледельческий труд; они не носят более копья. Так, могущественный народец монтефиков или «соединенных», численность которого прежде простиралась по меньшей мере до тридцати тысяч палаток, состоит теперь из феллахов, водворённых на нижнем Евфрате и на Тигре. Племена бенилаам, заключающее около четырех тысяч семейств, баттар, зигрит, абу-могамед, шаб на нижнем Каруне, которые, впрочем, в сильной степени смешаны с иранскими элементами, тоже принадлежат к числу арабов-земледельцев, населяющих пригородные деревни, но они повиновались лишь призыву торговли: правительство тщетно пыталось ранее действовать на них силой. Различные племена кочевых бедуинов, внезапно окруженные войсками, получили приказ построить себе избы и обработывать соседния земли под надзором солдат; но как только гарнизон уходил, они снова отправлялись в свои излюбленные степи. Всего легче совершается переход от бродячей жизни к оседлому существованию у тех народцев, которые занимаются скотоводством, то-есть кочуют со стадами баранов и буйволов; наездники же, привыкшие владеть копьем, не могут принудить себя покинуть пустыню. Некоторые племена приспособились к постоянной жизни среди болот, где они обитают в хижинах, сделанных из тростника: таковы хозаилы и маданы, которых никогда никакие завоеватели не пытались преследовать в их топях и трясинах. Этим болотным жителям достаточно прорвать плотины, чтобы оградить себя от всякого внешнего нападения или преследования. Другие кланы арабов, зобеири, например, состоят исключительно из лодочников. Во всей Месопотамии нет более красивых мужчин, чем эти рослые, сильные матросы: ни один из их молодых людей не может думать о женитьбе, если он не совершил по крайней мере трех плаваний вверх по Тигру, из Шат-эль-Араба до Багдада.
Курды предгорий принадлежат, вероятно, как и курды Персии и Армении, к различным расам, но они походят друг на друга нравами и образом жизни. В большинстве, они магометане, но несториане тоже представлены между ними значительными группами, особенно в долине реки Большой Заб, вокруг Джуламерка; халдеи имеют в Моссуле и в его окрестностях общины, более богатые, чем те, которые существуют на плоскогорье Урмия; сурияни или христиане-якобиты живут в числе около 30.000 душ в горах Тур-Абдинских, вокруг Мидиата и монастыря Дер-Амер; развалины семидесяти обширных монастырей свидетельствуют о важности, которую имела некогда эта секта: шемсиехи, иезиди или «обожатели диавола», также имеют в верхней Месопотамии свои убежища на Синджаре, где они долгое время пользовались почти полной независимостью. Некоторые специальные секты, остатки гонимых гностиков, равным образом удалились в уединенные массивы Месопотамии: рассказывают об одной общине, живущей в Мардинских горах, которая, как полагают, происходит от поклонников солнца, изгнанных из Харрана, города Авраама. Угрожаемые смертью, при калифе Аль-Мамуне, потому что не имели священной «Книги» или Библии, как христиане и евреи, эти сектанты принуждены были обратиться оффициально в одну из терпимых религий: большинство их присоединились для виду к секте христиан-якобитов, населяющих, вместе с ними, около шестидесяти деревень в горах Мардин и Тор. С тем искусством притворяться, которым так хорошо владеют вообще восточные люди, они аккуратно исполняют религиозные обряды, предписанные патриархом; но потихоньку продолжают поклоняться солнцу, луне, всему сонму звезд и регулируют свою жизнь по сочетаниям планет и волшебным заклинаниям. На нижнем Евфрате и в долине Каруна живут другие христианские гностики, которые, как полагают, тоже сохранили некоторые обрядности культа небесных светил: это гараниты или сабейцы (но не сабеяне), названные так по имени одного из их пророков; сами себя они называют мандайе, что значит «Ученики слова», и вообще католические миссионеры называют их «христианами Иоанна Крестителя», по имени Крестившего на Иордани, которого эти сектанты считают основателем их религии. Сабейцы, повидимому, были прежде очень многочисленны. На карте Тевенота обозначено тридцать шесть групп «Учеников слова», обитавших в Бассорском округе, и некоторые из этих групп состояли из двух тысяч семейств; в 1875 году насчитывали уже не более тысячи сабейцев на берегах Тигра и около восьми тысяч во всей Месопотамской области; на Евфрате главное место их—деревня Сук-эш-Шиок, в земле племени монтефиков. До половины текущего столетия все сабейские священники в окрестностях Бассоры погибли от чумы; сменившие их священнослужители исполняли лишь внешние обряды, между которыми самым важным считается частое крещение верующих—первое условие прощения грехов. Сабейцам не позволяется жить далеко от реки или «Иордана»: в текущей воде они совершают большую часть своих религиозных церемоний, в том числе даже обряд бракосочетания. Они поклоняются кресту, потому что мир, разделенный на четыре части, сам составляет крест по преимуществу. Их религия, враждующая сестра иудейства, христианства, магометанства, основана на гностической идее двух начал, проповеданной некогда их богословами и философами, ибо сабейцы имели также свой период литературной деятельности. Подобно христианам, евреям и мусульманам, они—«люди Книги»; они обладают «Сокровищем», называемым также «Книгой Адама»—хотя она появилась уже после Магомета—и составленной на своеобразном семитическом языке, как подобает идиому особенной религии. Однако, этот язык существует лишь в священных сборниках: верующие говорят арабским языком, как все жители страны. Многоженство им не воспрещено, но они могут заключать брачные союзы только в среде своей общины. В обыкновенной жизни они отличаются от магометан только большей честностью; впрочем, иначе и быть не могло бы, так как они должны завоевать себе уважение, чтобы пользоваться терпимостью.
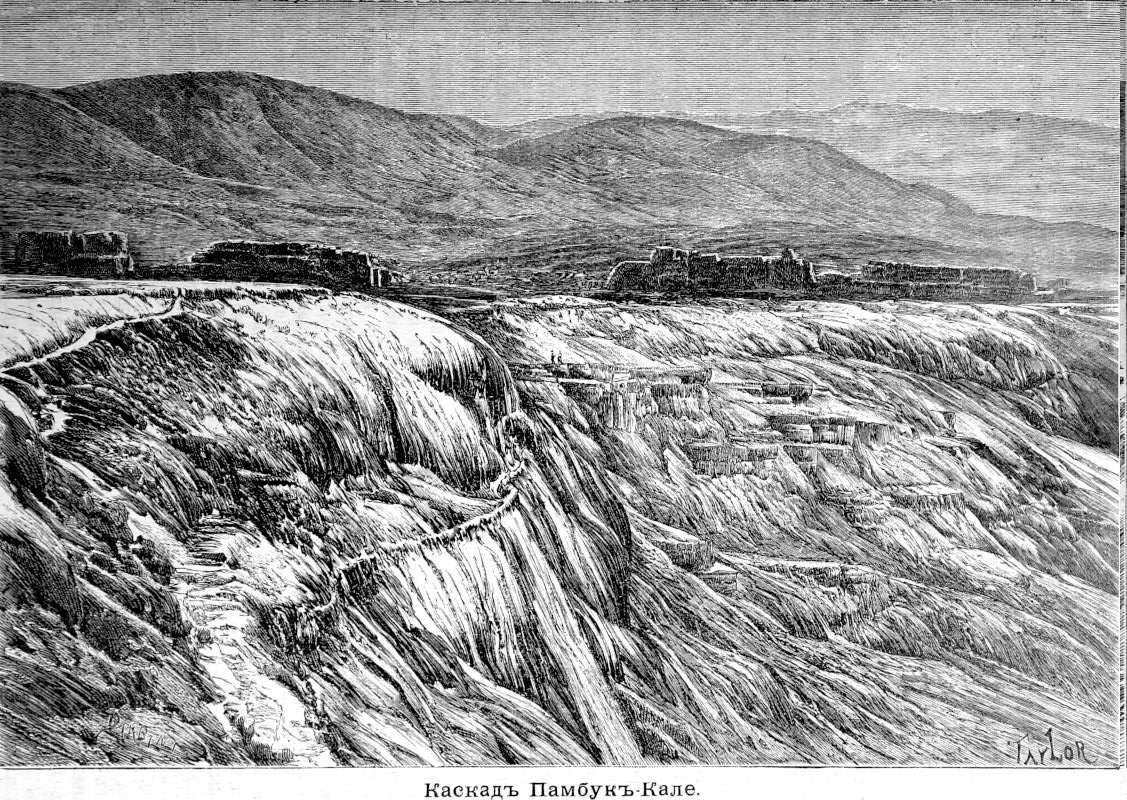
Так же, как христианство, учение Магомета породило множество сект в этой стране, где перемешалось столько религиозных преданий. Все секты Востока имеют своих представителей в Месопотамии. Аравийские вагабиты организовали там общины, за которыми учрежден строгий надзор; персидские бабисты держат там свои тайные сходбища; на берегах Тигра тысячи мусульман называют себя учениками ахунда, смиренного и бедного проповедника из долины реки Сват, в Афганистане. Существует также, как говорят, между монтефиками и другими арабами на нижнем Евфрате и Шат-эль-Арабе небольшое число последователей религиозной секты или сообщества сенусиа, возникшего в Алжирии, где оно наделало не мало хлопот французам. Кроме преследуемых сект, вынужденных явно притворяться исповедующими какую-либо дозволенную религию и продолжающих в тайне соблюдать обряды своей собственной веры, есть местности, где два культа в чести. Так, жители Моссула, мусульмане и христиане, имеют одного и того же патрона, Джерджиса или св. Георгия. Во многих областях Месопотамии, между прочим, в Орфе, мусульманки делают приношения Божией Матери, чтобы иметь детей; если их желание исполнится, они считают долгом отправиться в церковь, чтобы принести благодарственную молитву, и подробно расспрашивают об обрядах, которые нужно исполнить по христианскому обычаю. С другой стороны, есть много бедуинов, о которых трудно было бы сказать, к какой религии они принадлежат: они боятся дурного глаза и отстраняют его от себя жестами, подобно тому, как это делают неаполитанцы, но они не принудят себя даже прочитать молитвы и считаются магометанами только по имени.
В городах, арабское население, смешанное с турецкими и халдейскими элементами, исповедует суннитскую догму; однако, Вавилония заключает в своих пределах святые места, наиболее чтимые у шиитов, после Мекки: таковы Кербела, где находится могила Гуссейна, и Неджеф, где высятся куполы мечети Али. Верным шиитам, которым посчастливилось жить и умереть в этих святых местах, нечего бояться мук ада: они даже не будут ответствовать за дурные дела, совершенные на этом свете. Оттого тысячи персиан и сотни богатых индусов шиитской секты поселились на постоянное жительство либо в Багдаде или в Хадиме, в соседстве священных могил, либо даже в Неджефе или в Кербеле, и очень многие из богатых иранцев, которые не имели счастья жить на благословенной земле, просят, умирая, чтобы их смертные останки отвезли туда для погребения. Перевозка покойников в Кербелу и в Неджеф, хотя иногда запрещаемая, до сих пор составляет одну из главных статей торговли между Персией и Азиатской Турцией; по новейшим статистическим сведениям, среднее число ввозимых персидских трупов равняется 4.000 в год; но в 1874 году, после голода и следовавшей за ним большой смертности, было зарегистровано 12.202 мертвых тела, посланных из Персии в Месопотамию. Сверх того, многие арабские племена, увлеченные силой примера, взяли привычку отправлять своих покойников в святые города шиитов, превратившиеся, вследствие этого, в обширные кладбища. Для длинного странствования, тела завертываются просто в ковер или циновку,без всяких антисептических ингредиентов, и когда транспорт приходит в святое место, покойники представляют лишь бесформенную массу останков; на расстоянии нескольких сот метров путешественники задыхаются от невыносимого трупного запаха, распространяемого погребальными поездами, которые перевозят в одно и то же время мертвые тела и чуму. Ирак-Араби есть одно из гнезд этой страшной болезни: из сорока последних эпидемий двадцать две получили там начало или распространение.
В верхнем бассейне западного Тигра самый высокий по положению город—горнозаводский центр Хапур (Маден-Хапур), стоящий на высоте 1.039 метров над уровнем моря и 250 метров над уровнем реки. Соседняя гора, Магарат, доставляет в изобилии медную руду, которую работники греческие, армянские и турецкие частию переплавляют на месте, но которой большая часть вывозится в промышленные города Азиатской Турции—в Диарбекир, Эрзерум, Требизонд; еще недавно почти все восточные люди, от Константинополя до Испагани, запасались медной посудой из Маден-Хапура. В начале нынешнего столетия годовой вывоз руды с верхнего Тигра в Багдад простирался до 400 тонн, но с той эпохи добыча меди много уменьшилась; теперь едва эксплоатируют месторождения свинцовой руды, содержащей серебро, и не занимаются более добыванием золота и серебра. Город Аргана, лежащий на юго-западе от Хапура, на выступе горы, господствующем над Тигром, обязан соседству подземных рудокопных галлерей тем, что ему тоже дали прозвище Маден: Аргана-Маден или «Аргана рудниковая».
Диарбекир или Диарбекр, то-есть «земля бекров», названный так по имени арабского клана бекр, которым он был завоеван в седьмом столетии, есть древний Амид или Амида, и теперь еще его часто называют Кара-Амид, «Черный Амид», по цвету базальта, из которого он построен. Диарбекир занимает чрезвычайно счастливое географическое положение. Построенный на высоте 626 метров над уровнем моря,—высоте, которая, под 38 градусом северной широты, обеспечивает стране климат, соответствующий климату южной Франции,—этот город расположен близко от перешейка, разделяющего две реки, Тигр и Евфрат; он занимает верхнюю оконечность месопотамского «острова», где находится главное пересечение дорог между двумя бассейнами. Кроме того, он обозначает точку соприкосновения между несколькими этнологическими областями: там встречаются различные народности—турки, армяне, курды, арабы. Недалеко от этого города, немного южнее, проходит северная граница арабского языка, и начинается пояс турецкого идиома. Ко всему этому Диарбекир имеет еще ту выгоду, что он господствует над обширной аллювиальной равниной, отличающейся замечательным плодородием. Во все времена окрестная местность вокруг Амида была одною из «житниц» Передней Азии, и это местное преимущество с соединении с выгодным географическим положением, давало Диарбекиру первостепенную важность. Он заключал в своих стенах, в мирные годы, сотни тысяч жителей, и не раз бывало, что осада делала внутри его больше жертв, чем сколько он имеет в наши дни постоянных обитателей.
Город живописно расположен на оконечности застывшего базальтового потока, вылившагося из древних вулканов массива Караджидаг. Конечный утес, господствующий над садами правого или западного берега, поднимается на высоту 30 метров над уровнем Тигра, а зубчатые стены, с круглыми башнями по бокам, придают Диарбекиру еще более горделивый вид. Черная городская ограда, еще хорошо сохранившаяся, развертывается на протяжении 8 километров, примыкая с одной стороны к четыреугольной массе разрушенной цитадели, с другой к мосту о десяти арках, последнему сооружению этого рода, существующему ныне на Тигре. Внутри город мрачен, непригляден, сыр и нездоров, улицы узки и грязны; главная дорога, базарная, куда направляется все движение, имеет всего только 3 или 4 метра в ширину; местная болезнь, называемая диарбекирским «бутоном», еще более опасна, чем алеппская. Лавки не менее обильно, чем багдадские, снабжены произведениями края и европейскими товарами, и между выставленными на продажу предметами есть много изделий местной фабрикации, каковы медные сосуды, золотые и серебряные украшения филиграновой работы, трубки, сафьяны, шерстяные ткани, шелковые и бумажные материи; число ткацких станков, действующих в этом городе, простирается до полуторы тысяч. Толпа, собирающаяся на базарной улице—одна из самых пестрых и смешанных, какие только можно встретить в Передней Азии: население Диарбекира состоит из курдов, армян, турок и туркмен, халдеев, несториан и якобитов, иезидов и евреев, сирийцев и греков, к которым в последнее время прибавилось еще большое число болгар, высланных из Европы турецким правительством. Почти половина жителей—христиане, и мечети не более многочисленны, чем церкви; одна из них стоит на месте римского здания (третьего или четвертого столетия), от которого уцелел фасад, представляющий в нижнем ярусе аркады с легким сводом, а в верхнем изящные колонны, отличающиеся одна от другой арабесками ствола и скульптурными украшениями капителей.
Вообще верхния долины Тигра и его притоков богаты развалинами, и даже новые городки и местечки построены на месте древних городов. Самая грандиозная руина древних построек—это остаток места, разорванные аркады которого нависли над Тигром на высоте 25 метров, недалеко от слияния этой реки с её притоком Батман-су. Громадные глыбы песчаника, рассеянные в соседнем ущелье, были выдолблены для того, чтобы служить жилищами; на горном обвале приютилась деревня, где есть даже базар. Город Майя-Фаркейн или просто Фаркейн, лежащий на северо-восток от Диарбекира, на обломках морены, которую огибает приток реки Батман-су, разветвляющийся ирригационными каналами в садах, есть Мартирополис («город мучеников») византийцев, и там до сих пор еще видны величественные руины искупительного памятника, построенного в начале пятого столетия на костях нескольких тысяч христиан, перебитых Сапором. Далее к востоку, на Батман-су, находится персидский мост, аркады которого возвышаются на 50 метров над уровнем реки. Живописный город Хузу (Гузу, Хазу), с домами, расположенными в виде ярусов по уступам горы, воздвиг свою новую крепость на развалинах древнего замка, а в окрестностях, на дне оврага, стоит древняя армянская церковь, сооружение которой относят к пятому веку после Р. X.: каждый год к этой святыне приходят толпы богомольцев из Сирии, из Армении, из России поклониться хранящемуся там большому куску от «истиннаго креста», то-есть креста, на котором был распят Спаситель. Серт или Саэрт, на Ботан-су, тоже построен на руинах, которыя д’Анвиль и другие историко-географы считают развалинами древнего Тиграноцерта. Клинообразные надписи, на древне-армянском языке, встречаются в различных местах этого края, вырезанные на гладко-отшлифованных стенах скал. Маленькия башни, стоящие там и сям в окрестностях, среди полей, засеянных дынями, арбузами и огурцами, придают Серту вид крепости, окруженной фортами. После Диарбекира, самый большой город на верхнем Тигре—это прелестный Битлис, лежащий на высоте около 1.500 метров над уровнем моря, недалеко от юго-западного угла озера Ван. Потоки лавы, красной и коричневой, вылившиеся из массива Нимруд-даг, оканчиваются крутыми мысами, перерезанными широкими расселинами, на дне которых с шумом бегут быстрые потоки, частию минеральные и горячие, образующие реку Битлис-су. Старый замок или крепость господствует над слиянием; перекинутые через реку стрельчатые аркады соединяют оба высокие берега, и круглые башни широких минаретов высоко поднимают свои кругообразные галлереи над домами с террасами, над садами и группами деревьев. Битлис, население которого состоит частию из армян, занимается выделкой и окраской тканей, и как главный этапный пункт между долиной Тигра и долиной верхнего Мурада, поддерживает значительное торговое движение.
Очень древний город Джезире-ибн-Омер или «Остров Омарова сына», лежащий ниже пролома Тигра, на острове, образуемом рекой и искусственным каналом, был часто, вопреки своему имени, средоточием не мусульманских общин. В четырнадцатом веке там находилась большая еврейская колония, и из её школ вышло несколько раввинов, впоследствии прославившихся. В начале настоящего столетия, иезиды или «поклонники диавола» сделали из этого города один из своих укрепленных пунктов, но не могли защитить его против турок и почти все были перебиты. Их заменили кудры-мусульмане, но не возвратили городу его прежнего важного значения. Крепость, построение которой туземцы приписывают генуэзцам, как почти всех старых замков, существующих в Малой Азии, теперь представляет лишь руину, впрочем очень живописную, с правильными кордонами из бурого базальта и белого известняка; от старинного моста, перекинутого на Тигре, к востоку от Джезире, остался только один столб, вокруг которого вода образует опасную стремнину. Ниже по течению, на меловой террасе, господствующей над правым берегом Тигра, другой город, еще более пришедший в упадок, чем Джезире-ибн-Омер, не имеет более даже собственного названия: это—Эски-Моссуль или «Старый Моссул». Змеи ползают тысячами в траве и в потрескавшихся стенах этого древнего городища. В гористой области, окружающей Джезире, растет в изобилии деревцо, похожее на ракиту, которое иногда покрывается тысячами шелковистых коконов: тамошния женщипы утилизируют эти коконы и ткут из них очень прочные материи.
Моссул—город относительно новый, так как в первый раз имя его упоминается при магометанском владычестве. Но не стоит ли он на месте, которое некогда должно было занимать западное предместье Ниневии, на правом берегу реки? Так же, как Биреджик на Евфрате, Моссул находится на Тигре в поясе необходимого перехода. Естественный путь, ведущий от Средиземного моря к Евфрату, обходя пустыню, затем следующий вдоль южного основания предгорий Курдистана, достигает Тигра у Моссула или в соседстве этого города, откуда направляется к Загросу, чтобы подняться на иранское плоскогорье так называемой «царской дорогой». Точно так же караваны, отправляющиеся из Багдада в Алеппо, идут на Моссул, чтобы избегнуть территории, занимаемой разбойничьими племенами аназехов. Большинство этимологов полагают, что арабское название Моссул означает «переправу». По выражению одного старинного писателя, цитируемого де-Гинем, «Дамаск есть дверь Запада, Нишапур—дверь Востока, а Моссул—переход из стран Востока в страны Запада». Хотя пришедший в упадок, как и другие города на Тигре, Моссул представляет еще величественный вид. Построенный на оконечности отрога цепи Синджар, называемого Джебель-Джубилах, он живописно раскинул свои дома с террасами по скату горы в виде обширного амфитеатра, который окружен оградой, имеющей около 10 километров в окружности. На вершине холма дома, принадлежащие зажиточным гражданам, рассеяны в садах, где бьют фонтаном теплые воды; внизу жилища ремесленников и бедняков скучены вокруг базаров, бань и мечетей; за стеной город продолжается на юг предместьем или магалехом, перед которым останавливаются плывущие по реке курды, и где они разбирают на части свои плоты. Публичные здания, по большей части постройки без всякого архитектурного вкуса, отличаются, однако, красотой самого материала, из которого построены; особенно замечателен так называемый «моссульский мрамор», алебастр, доставляемый каменоломнями Меклуб-дага, находящимися к востоку от равнины. Вместо того, чтобы снабжать весь свет своими прекрасными материями, как это было во времена калифов, Моссул теперь сам покупает за границей почти все потребляемые им ткани; вообще в нем нет ныне почти никаких промыслов, кроме дубления кож, фабрикации серебряных и золотых вещей филиграновой работы; но он ведет торговлю чернильными орешками, зерновыми хлебами и другими произведениями, получаемыми из курдских долин и привозимыми иезидами из Телль-Афара и других степных местечек.
На Тигре, в самой узкой его части, устроен пловучий мост длиной около 170 метров, который продолжается в равнине, затопляемой во время разлива, дамбой, извивающейся между речными рукавами. В 2 километрах от Моссула, когда поднимешься на восточный высокий берег, то очутишься на обширной ровной террасе, пространством около 10 квадр. километров и ограниченной со всех сторон оврагами, заваленными мусором: это и есть плато, на котором стояла древняя Ниневия. Долина, по которой протекает Гассер-Чай, небольшой приток Тигра, разрезывает это плато, состоящее из конгломератов, на две половины, имеющие каждая 9 километров в окружности. В северной половине, непосредственно над речкой Гассер-Чай, поднимается четыреугольный, почти квадратный холм, высотой около 18 метров, перерезанный траншеями и изрытый галлереями во всех направлениях: это—знаменитая горка Куюнджик, содержащая массу кирпича, вес которого исчисляют в 14 с половиной миллионов тонн. В южной части плато, около средины его западного крутого берега, возвышается другой пригорок, Юнес Пегамбер или Неби Юнас, названный так в память пророка Ионы, который, по общему верованию христиан и магометан, погребен в этом месте. Третья груда развалин, имеющая меньшие размеры, указывает юго-западный угол Ниневийской террасы. Вся площадь ассирийской столицы, не считая предместий, которые, без сомнения, тянулись за рвом городской ограды, вдоль дорог и реки, представляет восьмую часть Парижа, так что трудно понять, как могли быть на этом пространстве скучены такия массы людей, о которых говорит сказание о пророке Ионе.
Уже с давних пор знали, что под курганами, возвышающимися напротив Моссула, на другом берегу Тигра, находятся любопытные развалины, происходящие от древней столицы ассириян. Путешественники открывали там остатки строений и изваяний и привозили оттуда писаные камни, цилиндры и другие мелкие предметы. Первые раскопки были сделаны только в 1843 году, под руководством Ботты, французского консула в Моссуле: это было начало тех подземных изысканий, которые открыли миру целое неведомое искусство и породили новую науку, развертывая летописи Ассирии, представляя церемонии и празднества её народа. Но еще остается сделать много дальнейших открытий. Даже курган Куюнджик, на котором раскопки производились преимущественно английскими археологами: Лейярдом, Лофтусом, Смитом, еще не вполне известен: мы имеем лишь частные планы двух открытых там дворцов, в которых, между прочим, найдены величественные колоссы, весом от тридцати до сорока тонн (слишком 2.400 пудов), поставленные теперь в залах Британского музея в Лондоне, и—еще более драгоценные остатки глубокой древности—целые библиотеки, состоящие из табличек обожженной формовой земли, из которых каждая была как бы листок книги. Что касается кургана пророка Ионы, то он оставался неизследованным до 1879 года: маленькое здание, господствующее над ним, мусульманские могилы, покрывающие его скаты, деревенька, приютившаяся у его основания,—единственная группа домов, находящаяся ныне на месте пышной столицы Ассирийского царства,—были препятствиями, которые долгое время не позволяли, чтобы это священное место был «профанировано» руками гяуров. Халдеец Гормузд Рассам обследовал недавно под этим бугром остатки дворца Сеннахериба.
Между всеми этими развалинами ассирийских городов всего лучше изучена руина Хорсабад или Хос-робат, находящаяся километрах в двадцати к северо-востоку от Моссула, далеко за пределами Ниневии: это был, по выражению г. Перро, «Версаль какого-нибудь ассирийского Людовика XIV». Город был маленький, не покрывавший даже 3 квадр. километров, но его ограда лучше сохранилась, чем стены других древних городов, и дворец, исследованный методически французским консулом Ботта и продолжателем его трудов, Пласом, известен лучше всех других памятников Месопотамии в его деталях. Раскопки остановились лишь на самых границах платформы, площадь которой около десяти гектаров. Этот дворец был построен между годами 705 и 722 до Р. X., в царствование Саргона, о славе и могуществе которого, еще недавно забытых историей, напоминают барельефы и надписи, продолжающиеся на протяжении 2 километров. Можно судить о гигантском труде, который представляет такая пышная постройка, как «город Саргона» (Гирс-Саргон или Дур-Сарюкин), по тому факту, что наружные стены имели не менее 24 метров в толщину и 31 метр с половиною в вышину. Рядом с дворцом стояла многоэтажная башня или зигурат, может быть, обсерватория, напоминающая своей пирамидальной формой гробницы египетских царей. Плас откопал её основание и распознал правильные массы четырех расположенных один над другим ярусом, равно как наружную рампу, сохранившую еще кое-какие остатки своего зубчатого бордюра. Драгоценные изваяния, найденные при раскопках в Хорсабаде, не все достигли Лувра: многие из них потерялись в Тигре. Одна из самых замечательных находок Пласа—железная кладовая, заключающая слишком 160 тонн всякого рода орудий: быть может, знаменитые дамасские клинки составляют наследие ассирийской промышленности.
К группе руин принадлежат также, лежащие на восток от Куюнджика, горки Карамлис и другие деревни «Халдейской равнины», названной так по имени христиан, которые ее населяют. Самый знаменитый из этих холмов, лежащий километрах в тридцати к югу от Моссула, носит легендарное имя Нимруд, то-есть Немврод. Археологи знают теперь, что эта горка возвышается на том самом месте, где стоял Калаш, первая столица Ассирийского царства: основание этому городу было положено Салманасаром I, около тридцати двух веков назад; впоследствии, когда Ниневия сменила его, в качестве царской резиденции, он все-таки остался большим городом. Положение его было очень выгодное: он стоял недалеко от слияния Большого Заба и Тигра, в месте встречи двух долин, на высоком бугре левого берега главной реки; у подножия руин видно еще старое русло Тигра, который в наши дни удалился к западу, как это с ним случилось во многих других местах его течения. Дворец Ассур-Назирпала, построенный в девятом столетии до Р. X., есть главное здание, найденное под развалинами. Собранные в нем скульптурные работы могут считаться образцовым произведением ассирийского искусства, а «черный» обелиск есть драгоценнейший эпиграфический памятник могущественного царства. В 15 километрах к северо-востоку от Калаша, под горкой Балават, Гормузд Рассам открыл для Британского музея бронзовые пластинки, древние двери драгоценной работы, которых гравюры и надписи рассказывают все подвиги, совершенные Ассур-Назирпалом, царствовавшим за двадцать семь с половиной веков до нашего времени.
Много других горок ожидают исследователей, чтобы отдать им свои каменные архивы: в равнине нет города, который не имел бы своего храма и дворца, а в долинах Хабура, Большого Заба и их притоков находятся многочисленные развалины, где, по всей вероятности, откроют здания, построенные государями Ассирии, которые проводили половину своей жизни в лесной области гор, где они охотились на диких зверей, и целые города воздвигались вокруг их охотничьих сборных пунктов. Некоторые из замечательнейших изваяний верхней Месопотамии иссечены, близ Малтая, в 80 километрах к северу от Моссула, на скале, господствующей над ручьем Дулап; колоссальные фигуры, еще более любопытные, были изваяны в рельефе Сеннахерибом на известняковой стене, в узкой долине Бавиан, которую горы Меклуб отделяют от моссульской равнины. Эта изваянная на скале картина, защищенная от непогод закраиной ниши в 9 метров высоты, сохранилась бы еще вполне, если бы какие-то троглодиты, вероятно христианские монахи-отшельники, не вздумали вырыть там свои жилища: полукруглые окна этих пещер открываются, в разных частях громадной рамки, прямо на теле и голове рельефных изображений человеческих фигур.
В настоящее время бассейн реки Большой Заб есть одна из тех местностей Передней Азии, путешествие по которой далеко небезопасно. Это—гористая страна, где живут самые воинственные курды, наименее подчинившиеся влиянию мусульман, турецких и арабских, поселившихся в равнине. Там же находились горные крепости, под защитой которых несторианские племена, привыкшие к грабежу, как и другие курды, наиболее бравировали перед турецкими пашами. История не упоминает завоевателей, ассирийских, персидских или греческих, которые проходили бы через этот опасный край. Все обходили его либо на севере, либо на юге, чтобы пробраться на плоскогорья Персии или Мидии, или спуститься в равнины Тигра. Первый европейский путешественник, Шульц, проникший в эту страну в 1829 году, нашел там смерть со всеми своими спутниками. Курдские шейхи, прежде независимые, а ныне подвластные Турции, вследствие их взаимных раздоров, проводят часть года в крепостях, окруженных несколькими домами; зимой, когда племена спускаются из своих летних становищ на горах, эти укрепленные места делаются настоящими городами. Главный из таких городов—Джуламерк, столица курдов племени гаккари, построенный на выступе горы или мысе, господствующем над правым берегом Большого Заба. В небольшом расстоянии к северу оттуда показывается деревня Коч-Ганнес, местопребывание Мар-Шимуна или «Господина Симона», патриарха несториан или тияри. Шейх племени гаккари эксплоатирует некоторые месторождения железа и свинца в соседстве Джуламерка, но большие металлические богатства, приписываемые миссионерами окрестным горам, еще не разрабатываются.
К югу от страны курдов-гаккари, местечко Амадия, расположенное на косогоре, но в местности легко доступной, близ водораздельного порога между долиной Большого Заба и бассейном Хабура, долгое время было торговым центром, сборным пунктом горских курдов, приходивших туда для мены с месопотамскими купцами; еврейская колония, составляющая около половины местного населения, напоминает еще этот период меновой торговли. Евреи Курдистана охотно отдают своих дочерей замуж за турок; они постепенно слились с окружающим населением, так что по наружности и нравам теперь уже едва отличаются от своих соседей. К югу от Амадии, в живописной лесистой долине, стоит скромный храм Шейха Ади, у входа в который изваяно изображение змея—символ падшего ангела; вокруг храма расположены жертвенники, на которых зажигаются, в большие праздники, огни (горит нефть и горная смола). Другая духовная столица Эль-Кош, резиденция халдейского патриарха, приютилась у подошвы холма, сплошь изрытого пещерами, древними жилищами и гробницами, а на вершине, подъем на которую затруднителен, находится монастырь Раббан Ормуз, частию иссеченный в скале. Теперь Амадия не более, как маленький центр племени, местечко в развалинах, занятое гарнизоном, который наблюдает за окрестными курдами. Но Ревандоз или Ровандиз, лежащий между глубокими боковыми оврагами Большого Заба, выше выходного ущелья,—настоящий город, и жители скучены там как в каком-нибудь торговом центре, которому тесно в стенах ограды; в нем слишком тысяча домов, и в каждом доме живет два или три семейства, даже больше; в летние месяцы все население, мужчины, женщины, дети, собаки и домашняя птица, толпится на плоских крышах, обставленных зеленью. Моссульские купцы посещают Ревандоз, чтобы обменивать там европейские мануфактурные товары на чернильные орешки. Ревандозский табак, почти всегда смолотый в порошок, отправляется преимущественно в Персию.
Главный рынок курдов, живущих в бассейнах Большого и Малого Заба—город Арбиль или Эрбиль, Арбеллы древних греков, лежащий на высоте 430 метров над уровнем моря, вне области гор, в живописной волнистой равнине, которая открывается на запад к Большому Забу и Тигру, на юг к долине Малого Заба; он стоит как раз на рубеже территории арабского языка, на этнологической границе курдов. Как ни важен еще Арбиль между второстепенными городами Месопотамии, он, очевидно, не более как руина, в сравнении с тем, чем был когда-то; еще ясно видны остатки старинного, окружавшего город, рва, в котором нынешние дома как-бы затеряны. Древний квартал построен на одном из тех искусственных холмов, которые рассеяны в таком большом числе по всей стране; начатые раскопки уже обнаружили своды и галлереи, которые, вероятно, ассирийского происхождения; на западе, конгломератовые массивы Дегир-дага перерезаны древними ирригационными каналами, которые спускались к равнине Шемамлыка, между Эрбилем и Большим Забом. В том месте, где эта река выходит из своего последнего ущелья, между хребтами Дегир-даг и Арка-даг, происходила, в Гавгамеле, знаменитая битва, известная в истории под именем Арбельской, которая открыла македонцам дорогу в Персию. Недалеко оттуда, Акра прячется в целом лесе фруктовых деревьев.
Один только городок находится в бассейне Малого Заба—Алтын-Киопру или «Золотой мост»: это—обязательный переход караванов, которые из равнины Арбильской направляются к долине Адима или к долине Диялы. Алтын-Киопру, один из живописнейших городов Передней Азии, построен на конгломератовом острове, который, круто обрываясь вертикальными утесами со стороны верховья, постепенно понижается по направлению к низовью и оканчивается песчаным мысом. Мост южного берега, перекинутый с утеса на утес, развертывает свою стрельчатую аркаду на большой высоте, и с парапетов его открывается вид на террасы города и на быструю воду, по которой несутся плоты, пускаемые выше ущелий курдами из Хойсанджака: в годы большой торговли до сотни тысяч навьюченных верблюдов проходят по «Золотому мосту». В небольшом расстоянии к юго-востоку от Алтын-Киопру начинается долина реки Хаза-Чай, где находится другой город, Керкук, самый значительный во всей нижней Курдской области. Расположенный на пути караванов, которые следуют вдоль основания больших гор, к востоку от Тигра, Керкук состоит в действительности из трех отдельных городов: крепости, построенной на искусственной горке высотой 40 метров, облицованной камнем на всей окружности и содержащей внутри целый лабиринт подземных галлерей; нижнего города, расположенного полукругом вокруг холмика цитаделей, и предместья или махале, дома которого рассеяны среди садов правого берега. В Керкуке имеет местопребывание шейх-дервиш, духовный глава пятидесяти тысяч мюридов или «учеников», живущих в различных местностях Месопотамии. Важность этого города происходит не единственно от пересечения в нем торговых дорог: он имеет кроме того термы, привлекающие большое число посетителей, и обильные соляные источники; в соседних горах существуют каменоломни алебастра, а в соседстве, на севере, находятся, как в Италии, знаменитые «флегрейские поля», где поклонялись богине Анагит: шум, исходящий из почвы, был причиной того, что этой горящей местности дали название Баба-Гургур, что значит «Отец ропота»; если воткнуть шпагу в почву, то из земли выходит пламя. Керкукская нефть, которую собирают в многочисленных источниках, на лужах и даже во рвах, отправляется в Багдад и во всю восточную Месопотамию. Равным образом утилизируют источники горной смолы в Туз-Хурматли, бьющие из земли южнее, на одном боковом притоке реки Адим, а также источники в Кифри или Салахие,—местечке, лежащем в боковой долине реки Дияла, близ которого видны остатки заброшенного города.
Ниже руин Калаша и соединения двух соперничающих рек, Тигра и Большого Заба, развалины следуют одни за другими вдоль реки, приметные издали по теллям или буграм мусора, заросшим травой и мелким кустарником. Одна из этих груд развалин, на правом берегу, выше устья Малого Заба, есть самый высокий курган, какой существует в Месопотамии выше Багдада. В соседстве находится деревня Кале-Шаргат: это—остарок древнего города Ассура, который предшествовал Ниневии и дал свое имя ассирийскому царству. Вдали от реки, среди пустыни месопотамских степей, пастушеское племя шаммар расположило свое становище на развалинах города, который тоже был столицей, и самое имя которого, Эль-Хадр или Хатра, повидимому, означало «царскую резиденцию» или «город» по преимуществу. На берегу Тартара, ручья, спускающагося из синджарских долин, стоит круг стен, совершенно правильный, заключающий внутри храм Солнца, фасад которого обращен к востоку. Это здание, пышно украшенное изваяниями, относится к эпохе Сассанидов, но оно покоится на гораздо более древних развалинах, и некоторые фрагменты этого фундамента напоминают халдейские века.
На Тигре редкия группы домов новейшей постройки возвещают о себе уже издали окружающими их оазисами культур. Между Моссулом и Багдадом, только один из этих поясов садов, простирающийся вдоль правого берега, представляет довольно густое население: это—оазис Текрит, лежащий ниже фатта или прохода Тигра через пролом кряжа Хамрин, где видны нефтяные источники, бьющие со дна реки черным ключем и покрывающие на далекое пространство желтоватую воду своими радужными пленками. Громадный разрушенный замок, где родился Саладин, господствует над низкими домами нынешнего местечка Текрит. Один из многочисленных Эски-Багдад или «Старых Багдадов», близ водоотвода из Нарвана, занимает место какого-то неизвестного города, может быть Гаруние, города знаменитого калифа Гарун-аль-Рашида; Самара, находящаяся тоже на левом берегу, в равнине, орошаемой каналами, отведенными из Нарвана, теперь лишь незначительная деревня, но в девятом столетии она была столицей империи калифов. Недалеко оттуда видны остатки земляного вала, который арабы называют «стеной Нимруда». Не есть ли это часть «Индийской стены»—вала, который некогда защищал равнины ппжней Месопотамии от набегов северных варваров?
Багдад, носящий оффициально имя Дар-эс-Салам или «Жилище мира», стоит на месте древнего города, название которого Опперт объясняет персидским словом Багадата, то-есть Богом данный, но от этого города оставались только развалины, когда Багдад был вновь отстроен во второй половине восьмого столетия калифом Абу-Джаффар-Аль-Мансуром: он находится в местности, где пересечение исторических путей необходимо должно было вызвать к жизни большой город. Разрушенная на одном пункте страны, столица должна была возраждаться на другом; одно время центром населения был Ктезифон, затем его сменила Селевкия: так от срубленного дерева появляются новые отпрыски. В этом месте Тигр настолько приблизился к Евфрату, что эти две реки, соединенные проведенными из них каналами, составляют одну гидрографическую систему. Долина реки Дияла примыкает к долине Тигра и представляет лучшие входные ворота, чтобы подняться к иранскому плоскогорью и проникнуть туда легчайшим перевалом краевых гор. Как Эрзерум для Мидии, Багдад служит для Персии в собственном смысле обязательной исходной точкой караванов. Но самая важность его во все времена привлекала завоевателей: мало городов, где бы столько развалин покрывали последовательными наслоениями почву. Раскапывая землю, находят еще остатки галлерей, кирпичи которых носят имя Навуходоносора, а между тем до сих пор не знают даже, где надо искать следы дворца, в котором обитал пышный калиф Гарун-аль-Рашид, современник Карла Великого. Багдад сохранил от этой эпохи богатства и могущества только развалившиеся стены гробницы Зобеиды, любимой жены Гаруна.
Город, основанный калифом Аль-Мансуром, стоял на правом берегу; но так как ему было слишком тесно в пределах ограды, то он продолжался на другой стороне реки предместьями и садами, которые, в свою очередь, сделались настоящим городом: древняя заречная часть города, снизошедшая на степень пригорода или предместья, утратила свое имя; теперь это—местечко Каршиака, населенное преимущественно арабами племени агейль. Два пловучие моста, длиной около 250 метров, соединяют оба берега, в наименее широком месте реки. Распространяясь некогда далеко в окружающих равнинах, Багдад образовал огромное поселение, состоявшее из сорока городов и местечек, которые соединялись непрерывными рядами домов вдоль дорог; в наши дни он даже не наполняет четыреугольного пространства, заключенного в опоясывающих его валах; половина этого пространства покрыта развалинами, среди которых шествуют караваны, точно в каком-нибудь уголку пустыни. Даже внутри городской ограды виднеются там и сям груды обломков и мусора, чередующиеся с группами пальм; многие кварталы состоят из скопления убогих хижин, таких же полуразвалившихся, как избушки в деревнях внутренних округов; тем не менее, город, взятый в целом, есть один из самых цветущих городов Оттоманской империи. Как транзитное и складочное место, он получает произведения и драгоценные изделия из всей Передней Азии, и восемь пароходов, турецких и английских, которые теперь совершают правильные рейсы по реке, между Багдадом и Бассорой, не поспевают перевозить товары: шерсть, зерновой хлеб, чернильные орешки. Своей собственной промышленностью Багдад тоже способствует поддержанию отпускной торговли: его финики, овощи и фрукты его садов и огородов славятся на всем Востоке; за багдадских лошадей платят высокие цены, и особенно за багдадских белых ослов с цветными крапинками, производимыми растением лавзонией. В Багдаде существуют различные учреждения, которых мы напрасно стали бы искать в других городах Востока: кроме мусульманских медрессе и школ, открытых европейскими миссионерами, католическими и протестантскими, он имеет профессиональную школу, где обучают различным мастерствам по обработке дерева, металлов, выделке тканей, писчей бумаги, химических продуктов; после временного закрытия, это училище снова было открыто и продолжает с успехом свою полезную деятельность. Недавно был возбужден вопрос об оснований французской школы на востоке для преподавания арабского языка. Багдад проявляет даже—вещь редкая на Востоке—некоторую заботливость относительно своей гигиены: на севере, на левом берегу Тигра, раскинут прекрасный «народный сад», орошаемый обильными ручьями, которые питаются речною водой, накачиваемой паровым насосом. Самым большим бедствием, постигшим Багдад в течение настоящего столетия, была чума 1831 года, во время которой, вследствие смерти или бегства, город потерял три четверти своих жителей. Чума 1849, затем чума 1877 годов тоже сделали опустошения в столице Месопотамии, но лучшая организация санитарного дела, большие удобства перемещения и увеличение материального благосостояния постепенно уменьшают напряженность бича. Багдад лучше, чем прежде, защищен от наводнений: стена городской ограды окружена высокой насыпью, через которую не могут перейти выступившие из берегов воды; при малейшей тревоге солдаты располагаются лагерем на плотине и работают над заваливанием промоин и над укреплением слабых пунктов. Особая местная болезнь, известная под названием «багдагского финика», другая форма «алеппского бутона», поражает почти всех жителей города, туземцев или иностранцев.
Турки остались чужеземцами в Багдаде: их нация представлена в Месопотамии почти только чиновниками, да солдатами. Это—город чисто-арабский по местному патриотизму, равно как по диалекту и нравам. Евреи составляют по меньшей мере четверть городского населения; они настолько многочисленны, что сохранили свой язык, которым говорят так же хорошо, как арабским. Большинство иранцев, между которыми особенно многочисленны баби, живут за Багдадом, в Гадиме, Хатимайме или Имам-Муса, лежащем в 5 километрах к северо-западу от верхнего моста на Тигре, среди ограды садов, окаймляющих изгиб реки. Гадим, обитаемый более зажиточным населением, чем население Багдада, также красивее последнего, лучше содержится, и его прекрасные кварталы состоят из вилл с колоннадами, обвитыми гирляндами цветов. Над городом поднимается круглый купол, и высятся шесть минаретов мечети, прикрывающей гробницу одного шиитского мученика, имама Муса Ибн-Джаффара. Багдад не имеет памятников, которые могли бы сравниться с этой святыней персидских шиитов. Ревностные богомольцы отправляются к гробу святого, идя на коленях, тогда как негоцианты, возвращающиеся из конторы в свои загородные виллы, удобно совершают путешествие в вагонах американской железной дороги. Против Гадима, на левом берегу, стоит другой священный город, Мадим, посещаемый пилигримами-суннитами.
Маленький гадимский железный путь есть скромное начало рельсовой сети, которая будет иметь центром Багдад; но до настоящей минуты турецкое правительство отказывало в концессиях на постройку железнодорожных линий, которые соединили бы этот город с святыми местами Неджеф и Кербела, равно как на содержание пути, не менее полезного в торговом отношении, который направлялся бы на северо-восток к Ханакину или Ханыкину, на персидской границе; через этот пункт каждый год проходит от сорока до пятидесяти тысяч персидских пилигримов, направляющихся к Кербеле. Из всех побочных долин Тигра долина реки Дияла самая богатая и самая населенная; равным образом и в стратегическом отношении она имеет наибольшую цену для Турции, так как проникает далеко в область краевых цепей Ирана. Сулеймание, город новый, построенный только в 1788 году, в самом сердце гор у подошвы снеговой вершины Авромана, наблюдает за границей и служит рынком окрестным курдским племенам: добраться туда можно не иначе, как проходя через высокие гребни гор или пробираясь по страшным ущельям. Несколько больших деревень следуют одна за другой в долине Дияла; самые многолюдные из них те, которые находятся уже в равнине при выходе из Гамринских ущелий. Бакуба, лежащая километрах в пятидесяти от Багдада, расположена среди обширного сплошного сада, который простирается вдоль реки Дияла, от берегов Тигра до основания крутых склонов массива Гамрин. Недалеко оттуда видны развалины Дастагерда, другого Эски-Багдада (Старого Багдада), которые еще не были исследованы. Мендели, лежащий на одном из притоков Тигра, есть, как Ханакин, место прохода шиитских пилигримов и одни из торговых ворот империи со стороны Ирана. После сбора фиников, главная его промышленность—эксплоатация нефтяных источников, продукты которых отправляются в Багдад для освещения улиц города. Мендели имеет также очень обильные источники газа, отравляющие атмосферу. Арабы всегда располагают свои становища на приличном расстоянии и с наветряной стороны от этих опасных фумаролл.
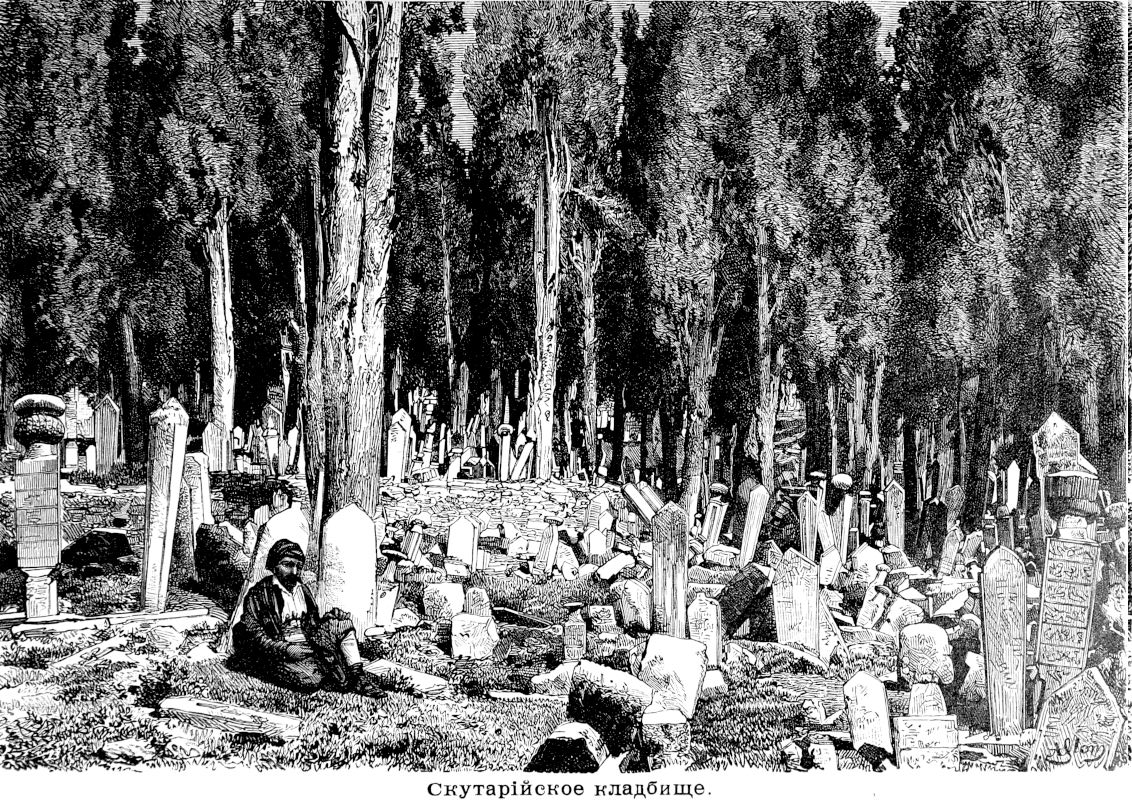
Многочисленные телли или курганы развалин господствуют над равниной в окрестностях Багдада. Одна из этих горок, Телль-Магомед, возвышается у самых ворот города, на юго-западной стороне; другая, в 30 километрах к западу, носит имя Каср-Нимруд или «Дворец Немврода»; ее называют также Акеркуф: это—один из самых высоких курганов древней Халдеи; он имеет слишком 40 метров в вышину и походит на группу огромных столбов, разрытых при основании; подобно другим теллям равнины, он состоит из обожженных на солнце кирпичей, чередующихся с слоями тростника. Другие курганы выше Багдада следуют один за другим вдоль реки, на некотором расстоянии от левого берега, как военные посты; наконец на юг от слияния р. Дияла с Тигром, груды кирпича и осколков глиняных сосудов указывают местоположение предшествовавших столиц, Мадайнов, или «Двух городов», которые расположены один против другого на обоих берегах Тигра. Селевкия, город правого берега, названный так в честь государя, который построил его после падения Вавилона, не сохранил более ни одного памятника: можно распознать только, да и то с трудом, следы четыреугольной городской ограды. Часть западного города, сирийской столицы, была разрушена размывами реки, тогда как на левом берегу прибавились новые береговые полосы земли к полуострову, на котором стоял Ктезифон, столица парфян. От самого города остались только кирпичи да черепки, но дворец Хосроя Нуширвана, построенный в половине шестого века христианской эры, еще до сих пор раскинул над равниной свой колоссальный портал в 32 метра высотой. Так-и-Кесра или Так-Косру, то-есть «Свод Хосроя», дает вход в обширное внутреннее пространство, имеющее 50 метров в глубину и помещенное в центре многоэтажного здания, разделенного на аппартаменты небольших размеров. Орнаменты, скульптурные изваяния исчезли, но величественная аркада, единственный памятник доисламитской эпохи, которым еще обладает нижняя Месопотамия, тем более грандиозна в своей наготе. Никакая другая дверь персидских дворцов не может сравниться по смелости плана с этим порталом разрушенного памятника. Под сводом Хосроя арабы, победители в решительной битве при Кадезии, нашли трон, корону, пояс и знамя персидского царя.
Ниже «городов-близнецов», по течению Тигра, многие другие горки напоминают о существовании исчезнувших городов, но обитаемые селения попадаются все реже и реже, и большая часть жилищ состоит из палаток кочевников. На всем протяжении дороги в 800 километров длиной, которую должны проходить пароходы, совершающие рейсы между Багдадом и Бассорой, существуют только четыре места остановки, в том числе только один город, Кут-эль-Амара, основанный в 1860 году и сделавшийся сборным торговым пунктом для сотен племен. Там и сям показывается купол над гробницей какого-либо святого, которая везде в другом месте сделалась бы ядром города: таковы, например, могила Исава, которую посещают еврейские пилигримы, и недалеко от слияния Тигра с Евфратом, могила Эздры, равно чтимая евреями, христианами и магометанами. Канал Шат-эль-Гай, отделяющийся от Тигра у городка Кут-эль-Амара и текущий прямо на юг к Евфрату, имеет более важное значение, чем самый Тигр, по окаймляющему его поясу возделанных земель и населенных мест.
Главные города бассейна Тигра в Азиатской Турции, с их приблизительным населением: Багдад—145.000 жит., Моссул—61.000 жит., Диарбекир—34.000 жит., Битлис—39.000 жит., Керкук, по Чернику—12.000 жит., Сулеймание, по Ричу—10.000 жит., Ревандоз—10.000 жит., Кут-эль-Амара, по Дени де-Ривуару—10.000 жит., Гадим, по Чернику—8.000 жит., Арбиль—6.000 жит., Мендели, по Клеману—6.000 жит., Серт, по Шилю и Энсворту—5.000 жит., Туз-Хурматли, по Ричу—5.000 жит., Ханакин—5.000 жит., Маден-Хапур—4.000 жит., Хой-Санджак—4.000 жит., Кифри, по Клеману—4.500 жит., Джезире—3.500 жит., Телль-Афар, по Захау—3.000 жит., Бакуба, по Клеману—3.000 жит., Аргана—3.000 жит., Акра—8.000 жит., Алтын-Киопру, по Чернику—2.000 жит., Текрит—2.000 жит.
На берегу канала Шат-эль-Рай или отведенных из него разветвлений, уже в соседстве Евфрата, виднеются остатки некоторых из древнейших городов Халдеи. Там находится, между прочим, Телло или Телль-Лох, Сиртелла (Сирбурла) археологов, вдруг получивший громкую известность, благодаря раскопкам г. де-Сарзека, которые открыли миру замечательный период искусства, предшествовавший эпохам вавилонской и ниневийской. В то отдаленное время письмо еще не приняло клинообразного вида, какой оно получило впоследствии; каждый письменный знак напоминал смутно предмет, который он представлял под своей иероглифической формой. В нижней Халдее совсем нет камня, и потому привозили из очень далеких стран, может быть, из Египта, необделанные камни для статуй и надписей. Найденные в Телло памятники были перевезены в Лувр.
Евфрат, менее полноводный, чем Тигр, более удаленный от плодоносных горных долин и ограниченный на правом берегу песками или глинами пустыни, имеет гораздо менее городов и местечек на своих берегах, между областью проходов и Вавилонией в собственном смысле: хотя его течение образует большую диагональ Передней Азии между Александретским и Персидским заливами, Евфрат—река мертвая в сравнении с потоком восточной Месопотамии. Не так было в прежния времена. В истории наций установился замечательный географический контраст между этими двумя речными артериями. От выхода ущелий до Сузианы большие города были расположены на Тигре, главной реке Ассирии; но в нижней Месопотамии, начиная от Индийской стены, почти все города следовали один за другим по берегам или в соседстве Евфрата: контраст двух царств, Ассирии и Вавилона, соответствует контрасту двух потоков.
Ниже слияния двух Евфратов и до выхода ущелий Таврских гор только бедные местечки выстроились на берегах главной реки; но в боковом бассейне её притока Токма-су находятся два главных города, Малатия и Азбузу, между которыми еще недавно странствовало пополугодно почти все городское население. Малатия, Мелитена древних римлян, была зимним городом; но окруженная ирригационными каналами и затопленными водой полями, она делается нездоровой с наступлением первых жаров; жители покидают ее и переселяются в Азбузу, летний город, лежащий на юге в более высокой долине. Но эти периодические переселения в большей части уже прекратились; большинство населения водворилось на постоянное жительство в южном городе, очаровательном местопребывании, где каждый дом имеет свой фонтан, свой сад, свою рощу. Два города верхней долины Токма-су, Гурун и Дерендах, в летнее время, как и Малатия, бывают почти совершенно безлюдны: все население переселяется в загородные дома или дачи окрестностей. Выходцы из Гуруна, которых можно встретить во всех частях Турецкой империи, отличаются духом предприимчивости.
Древняя столица Коммагены, Самосат, родина Лукиана, некогда столь важная как место прохода и как крепость римских легионов при выходе из ущелий Евфрата, теперь не более, как незначительное местечко в развалинах, менее населенное, чем маленький городок Суверек, лежащий в боковой долине, на диарбекирской дороге. В этих двух городах замечательны только огромные искусственные холмы, на которых некогда стояли акрополи; но в окрестностях, на массиве, поднимающемся к западу от реки, недавно открыли, почти на высоте 1.800 метров над уровнем моря, пышные надгробные памятники древних царей Коммагены, украшенные статуями, из которых иные имеют до 17 метров в вышину. Туземцы предполагали там могилу Немврода, легендарного героя Месопотамии: отсюда имя Нимруд-даг, которое они дали этим горам.
Ниже Самосата Евфрат принимает в себя ручей, спускающийся из узкой лощины, окруженной известняковыми горами, где находится турецкий город Бегесни. Еще ниже по течению, Рум-Кала или «Замок римлян», бывшая резиденция патриарха-католикоса Армении, был, как и Самосат, очень посещаемым местом перехода через реку; в настоящее время пунктом, где почти всегда происходит переправа караванов с одного берега на другой, служит город Бир, Бир-аль-Бират или Биреджик: в этом месте, как гласит греческая легенда, Вакх перекинул первый мост на Евфрате, чтобы идти на завоевание Индии. Одна уединенная скала левого берега покрыта живописными развалинами обширной крепости, которая некогда командовала переходом через реку и продолжается на юге холмами, откуда строения спускаются амфитеатром к высокому берегу Евфрата; дома с террасами, над которыми возвышаются белые минареты мечетей и темные кипарисы, окаймляют реку на протяжении около 2 километров. Биреджик населен преимущественно турками, но в нем есть также колония армян, которые занимаются главным образом транзитной торговлей, а в соседстве цитадели многочисленные курдские семейства живут в развалинах и в пещерах известняковых скал. Вокруг Биреджика простираются поля, засеянные ячменем, где проходящие караваны запасаются кормом для верблюдов. К западу, на берегу излучины Евфрата, возвышается курган Балкис, где нашли ценные римские мозаики и произведения живописи; но все ценные предметы были поломаны, и холм служит каменоломней для жителей Биреджика. Голая равнина, простирающаяся на север от Биреджика, к предгорьям Тавра, замечательна своими бесчисленными базальтовыми обломками, усеянными на песчаниковых скалах.
Большая дорога из Биреджика в Александретту, которая (т.е. дорога), без сомнения, рано или поздно будет заменена рельсовым путем, проходит чрез маленький город Низиб и его масличные плантации, где происходила в 1839 году битва, открывшая египетским войскам Ибрагима-паши дорогу на север и вызвавшая вмешательство Европы; там же или в окрестностях, на стратегическом пути из Малой Азии и Сирии к Евфрату, уже ранее встречались многие другие армии, греческие—византийские и персидские. Главный город этой области, принадлежащей еще к бассейну Евфрата,—Аинтаб, который поднимается амфитеатром по северным скатам, господствующим над долиной реки Саджур, искусственный холм, обшитый каменными плитами, как большинство курганов Сирии и Месопотамии, возвышается между рекой и городом, покрытый развалинами заброшенной крепости, вокруг которой кружатся стаи птиц. Город, населенный преимущественно турками, не имеет другого промысла, кроме мытья шерсти и дубления кож; но, как главная станция между Биреджиком и морем, ведет значительную транзитную торговлю. На юго-восток от Аинтаба река Саджур разделяется на два рукава; искусственный канал, продолжающийся туннелем в 250 метров длиной, соединяет Саджур с обильными истоками реки Гек-су, спускающейся на юг к алеппским равнинам: таким образом этот прорез почвы, сооружение которого восходит к тринадцатому столетию, но который недавно пришлось реставрировать, связывает бассейн Евфрата с замкнутой впадиной, дно которой занимает город Алеппо. Римские развалины многочисленны в этой области, которая в течение четырех столетий была границей империи: на правом берегу Евфрата, недалеко от слияния Саджура, видны на утесе, в Джарабисе (или Джераблусе) остатки храма, который еще недавно считали храмом древней Европы. Новейшие раскопки английских исследователей Гендерсона и Кондера доказали несомненно, что это развалины Каркгемиша, столь долго отыскиваемой столицы таинственного народа гиттитов; изваяния, высеченные на базальтовых и известняковых плитах, отличаются стилем, напоминающим ассирийский, но который, однако, имеет самобытный характер; надписи вырезаны иероглифами. На юге от реки Саджур, общей границы языков арабского и турецкого, есть другой разрушенный временем город, посещаемый археологами, Бамбис, по-нынешнему Мамбидж; это—один из многочисленных Гиераполисов, некогда посвященных солнцу и «великой богине»: ему давали также имя Магога.
К востоку от Биреджика, Орфа (Урфа), древний Рогас и Эдесса крестоносцев, есть первая большая станция караванов на моссульской дороге. Этот город, лежащий на западном берегу Кара-чая, притока Евфрата чрез Нахр-Белик, опирается на передовые холмы Топ-дага, известного в средние века под именем «Святой горы», по причине многочисленных монастырей, построенных на её склонах. Замок Орфа, построенный, как и многочисленные крепости на границе, императором Юстинианом, одним из величайших строителей, какие когда-либо существовали, стоит на крутом контрфорсе, окруженном со всех сторон рвами, иссеченными в живой скале на глубине 12 метров; треугольная ограда, с четыреугольными башнями по бокам, примыкает к укреплениям замка и отделяет город от зеленеющих рощ и плодоносных садов, среди которых разветвляются воды Кара-чая: с валганга крепости виден, как на ладони, раскинувшийся внизу город с его куполами и минаретами, пояс фруктовых садов и скаты окружающих холмов, покрытые виноградниками. Источник, знаменитый в древности ключ Каллироэ, бьет из земли у основания замка и наполняет священный пруд, где плещутся чебаки, равно чтимые евреями, христианами и мусульманами. Мечеть, посвященная патриарху Аврааму, называемому Халиль или «Друг Бога», отражает свои стены в зеркальной поверхности пруда, и гранатовые деревья, кипарисы, чинары осеняют ступени площадки, на которую приходят сидеть пилигримы. Две колонны, которые приписывают отцу евреев, высятся близ цитадели, а под скалой крепости, так же, как в склонах окрестностей, открываются по меньшей мере до двухсот высеченных в камне гротов, из которых иные расположены один над другим этажами и продолжаются в виде галлерей: это—усыпальницы, превращенные в жилища. В самом городе есть остатки средневековых строений, именно нескольких частей дворца принцев Куртенэ, сюзеренов Эдессы во времена крестовых походов. Здания Орфы построены из камня, известняков и базальтов, положенных попеременными слоями, что придает им очень приятный вид; немногие города в Передней Азии могут сравниться с Орфой в отношении опрятности домов и улиц. Промышленность этого города ограничивается производством шерстяных тканей и глиняной посуды, но транзитная торговля его очень деятельна. Вывоз хлеба достиг значительных размеров; сотни бедуинов и курдов, полуоседлых, имеют становища в соседстве и обработывают для французского консула обширное имение Меджери-хан; кроме хлебных растений, там культивируют кунжут, коноплю, хлопок и рамию.
Все города верхней Месопотамии имеют имя в истории религий. К югу от Орфы, города «Друга Божьяго», Харран, древний Харре, упоминается в Книге Бытия, как место, бывшее жилищем Авраама, и культ небесных светил держался там долгое время. На востоке Мардин замечателен как центр сектантских населений, оттесненных в горы, сначала православными христианами, а потом мусульманами; около половины его народонаселения состоит из христиан, принадлежащих к различным сектам: в этом городе преобладает арабская речь, тогда как в Орфе господствующий язык—турецкий. Населенный курдами-магометанами, «халдейцами», сирийцами, якобитами, армянами и новообращенными, католиками и протестантами, которые живут не в отдельных кварталах, Мардин есть город мечетей, церквей, часовень, медрессе и школ. Мардинские женщины славятся красотой. Этот живописный город построен на высоте 1.190 метров, на известняковой скале, растрескавшейся по всем направлениям и увенчанной белой крепостью, которую молва называет неодолимой. Ста метрами выше, на остроконечной верхушке скалы, стоит еще форт, воздвигнутый как обсервационный пункт над страной. Расположенный в соседстве перевала, посредством которого Диарбекир сообщается непосредственно с равнинами Месопотамии, и чрез который проходит дорога «почти проезжая», Мардин имеет важное значение в стратегическом отношении, но доступ к нему слишком труден, чтобы город мог сделаться средоточием большой торговли; караванная дорога идет вдоль основания его гор, откуда направляется на восток к Низибину и Моссулу. В 25 километрах к юго-востоку от Мардина, она проходит мимо выхода из ущелья, которое некогда защищал византийский город Дара. Зубчатые башни, ряды ступенек, аркады и колоннады, высеченные в живой скале, сохранились неповрежденными. Невольно ищешь глазами толпу, которая должна бы толкаться у дверей храмов и на лестницах большого подземного города, но все нынешнее население состоит из нескольких туркменских семейств, живущих разбросанно в гротах и развалинах. На востоке, в горах Тур-Абдин, находится город Мидиат, метрополия якобитов. Низибин, древняя Низибида, бывшая резиденцией Тиграна, и которую римляне сделали оплотом против парфян, «вторая Антиохия», заключавшая, говорят, в своих стенах сотни тысяч жителей, занимает незначительную часть пространства, окруженного старым циркумваллационным рвом. Колонны храма сохранились еще, так же, как римский мост, перекинутый через Джахджах, шумную речку, бегущую к реке Хабур. В этом же бассейне Хабура, к юго-западу от Мардина, исследователь Захау открыл, как он полагает, местоположение столь долго розыскиваемой Тиграноцерты: это, будто бы, Телль-Эрмен или «Армянский холм», близ деревни Дюнайсир; но до сих пор там не заметили никаких развалин. Рас-эль-Айн или «Голова воды», в равнине, орошаемой Хабуром, был недавно центром колоний кавказских чеченцев; но преследуемые арабами окружающих племен, которые обвиняли их в конокрадстве и похищении детей, эти пришельцы были большею частью перебиты или покинули свою новую родину, чтобы поступить на службу в турецкую жандармерию. В глубине равнины, некогда столь многолюдной, а ныне почти пустынной, где извивается Хабур, тянется, по направлению от востока к западу, прерывающаяся цепь Синджара, главный город которой, Синджар, Сингали курдов, Белед арабов, есть главный рынок иезидов или поклонников диавола. Говорят, что в скалах Джебель-Азиза, к востоку от Синджара, открывается «бездонная» пропасть, куда иезиды ходят каждый год делать приношения диаволу, бросая в бездну драгоценные камни и золотые и серебряные монеты.
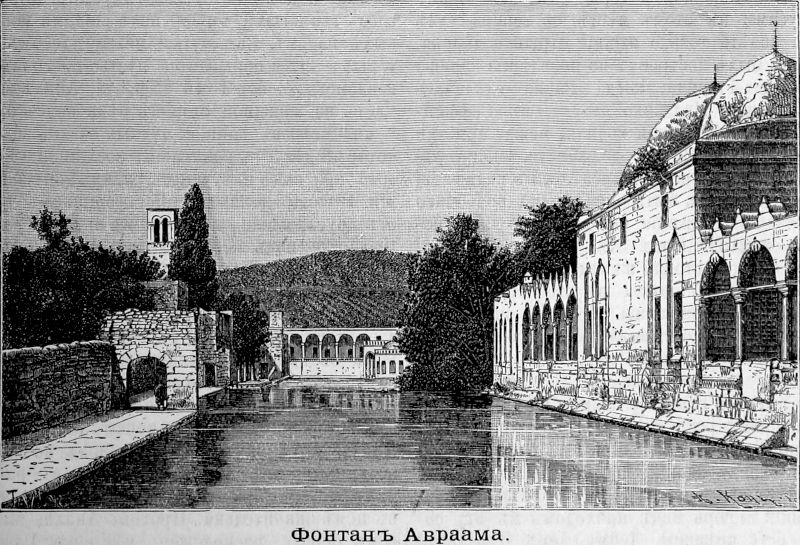
На берегах Евфрата, так же, как в степях, по которым протекает его приток Хабур, разрушенные города, обозначенные теллями или буграми, на которых были расположены их акрополи или кремли, более многочисленны, чем местечки еще обитаемые, да и эти населенные места по большей части являются лишь ничтожными остатками некогда существовавших значительных городских поселений. Балис теперь не более, как полуразвалившийся замок, расположенный на меловом утесе, в том месте, где река, перестав течь параллельно прибрежью Сирии, поворачивает на юго-восток и направляется к Персидскому заливу. Древний Тапсакус, имя которого значит «Переправа», не существует более. Ракка, в небольшом расстоянии выше впадения в Евфрат Белика, не сохранил более ничего, что напоминало бы греческие города Никефорион, Каллиникон, Леонтополис, которые следовали один за другим в этом месте, и теперь там можно видеть только жалкие отрывки дворца, который был построен по повелению калифа Гарун-аль-Рашида, когда Ракка сделалась его столицей. Недалеко оттуда, в Сеффинских равнинах, происходили, между армиями Али и Моавии, битвы, долженствовавшие решить порядок престолонаследия в калифате. Никогда, может быть, не видано подобного ожесточения: сражение было решено лишь после 90 ожесточенных схваток, почти по одной в день, и стоило жизни 70.000 человек, половине сражавшихся; в этой стране, где так часто сталкивались на поле битвы различные нации, по выражению одного писателя, «самая почва есть история».
Зелиби, древняя Зенобия, приютившийся на верху высокой скалы, у подножия которой проходили пальмирские караваны, направлявшиеся к Персии, сохранил лишь разбросанные отрывки своих зданий, построенных из просвечивающего алебастра. Город, господствующий теперь над проходом в эту область, есть крепость Деир (Дер, Эд-Дер) или «Монастырь», населенный турками, несколькими арабскими поселенцами и черкесскими эмигрантами, которым отведен для жительства особый квартал. Мост, снесенный водой во время разлива 1882 года, соединял западный высокий берег, на котором построен город, с большим островом Евфрата, покрытым садами, рисовыми полями, плантациями хлопчатника и табаку. Ниже Биреджика, который находится в 400 километрах по течению реки, Дейр есть первый центр земледельческой культуры и торговли. Далее вниз по реке, в том месте, где Хабур и Евфрат соединяются у подножия крутого мыса, вся равнина представляет один обширный сад; но древний греческий город Киркесион, который недавно считали Каркгемишем, столицей гиттитов, где сходились на поле брани армии Египта и Ассирии, уступил место группе лачуг, которая носит название Бусейрах. Ниже по течению в равнине, на извилине Евфрата, встречаем более значительный городок, Маядим; его каменные дома почти целиком построены из остатков зданий, которые стояли в этой стране, некогда столь многолюдной. Величественные руины замка Рахаба, в котором, предполагают библейский Рековоф, расположены на крутой скале, над Маядимом.
Анах, древний Анефо—единственный в своем роде город в Передней Азии. Он походит на те сингалезские и малабарские городки, которые окаймляют берег Индийскаго океана, и дома которых тянутся без конца вдоль тенистых дорог под рощами кокосовых пальм. Замкнутый между утесом, которым круто обрывается пустынное плато, и извилистым берегом Евфрата, Анах занимает на западной стороне реки пояс около 8 километров длиной, чудный оазис зелени, который делает понятным восхищение Геродота при виде цветущих равнин Месопотамии. Высокие дома, стоящие особняком друг от друга, словно потонули в пышной растительности; под высокими шатрами пальм растут смоковницы, апельсинные, гранатовые деревья, виноград обвивает свои кисти вокруг деревьев; сахарный тростник чередуется с хлопчатником; ниже длинной дороги, окаймленной домами и садами, старый каменный мост соединяет с берегом островной город древнего происхождения, имя которого сделалось именем всего оазиса. Анах—столица и главный рынок кочевых бедуинов, имеющих становища в равнинах между Сирией и Евфратом, и торговля в нем значительна. Против Анаха, на левом берегу, расположено местечко Равах, служащее исходным пунктом для многочисленных караванов, которые достигают Тигра у местечка Текрит.
Ниже Анаха следуют один за другим маленькие островные города Гадигах, Эль-Уз, Джиббах, затем город Гит, славящийся своими асфальтовыми источниками, доставляющими горную смолу для постройки судов: один из нефтяных фонтанов бьет неистощимо из вершины холма, открытого в форме котла. Гит есть также важная пристань для транзитной торговли между двумя большими реками, но главный порт—это Фелуджа, где оканчивается кратчайшая дорога из Багдада к Евфрату. К западу от излучины, описываемой этой рекой, простираются плодоносные равнины Саклавия, где пасутся сотнями тысяч верблюды и арабские лошади, славящиеся на всем Востоке. Саклавийские пастбища продолжаются на юг до болот, окаймляющих Евфрат в древней Вавилонии. Местечко Моссеиб, расположенное на обоих берегах реки, имеет очень оживленный вид, как место прохода двухсот тысяч пилигримов, которые каждый год отправляются из Багдада в Кербелу. В Моссеибе предполагалось, по проектам известного Мидхада-паши, построить на Евфрате путевод железной дороги.
«Великий Вавилон», именем которого означают еще самые огромные города в свете, где высятся пышные здания, где поглощаются богатства окружающих стран, представляет теперь голую равнину, усеянную курганами, грудами обрушившихся кирпичей, которые некогда были дворцами и храмами. Пространство в 24 километра длины по стороне—то-есть в 576 квадратн. километров,—которое обнимали исполинские стены древнего Вавилона, имеет в наши дни вид пустыни почти на всем своем протяжении. Однако, в южной части этого громадного пространства находится один из значительных городов нижней Месопотамии. Осененный финиковыми пальмами, окруженный великолепными садами, перерезанный широкими улицами, более опрятными, чем улицы Багдада, и имеющий богатые базары, где толкается толпа арабов, Гиллех-эт-Фейдах или «Гиллех обширный», окаймляет правый берег реки и сообщается с предместьем противоположного берега посредством пловучего моста длиной около 200 метров. Выгоды, представляемые этой частью реки, к которой сходятся дороги из Сирии и от арабских становищ, были достаточны, чтобы здесь возродился город, хотя столицы, сменившие древний Вавилон—Селевкия, Ктезифон, Куфа, Багдад—лишили его преимуществ, которые должны принадлежать всякому центральному городу Месопотамии.
Ближайший к Багдаду вавилонский курган, которому дают специальное имя Бабил, «Врата Божии», или Муджелибех, «Ниспровергнутая», служит каменоломней уже в течение двух тысячелетий. Взятые из него кирпичи были употреблены на постройку зданий окружающих городов. Еще и в наши дни, целые семьи, принадлежащие по большей части к племени бабили, которое считает себя потомками древних вавилонян, не имеют другого ремесла, кроме раскапывания этих груд античного кирпича, с целью извлекать из них строительные материалы. Самый высокий курган на левом берегу Евфрата—Каср или «Дворец» по преимуществу, воздвигнутый царем Навуходоносором и имеющий не менее 1.500 метров в окружности. Южнее, все на том же берегу, стоит Амранский холм, вероятно, на том же месте, где находились знаменитые висячие сады. Во времена, следовавшие за смертью Александра Македонского, эта горка служила некрополем, без сомнения, по причине выгод, которые представляли, для склада покойников, сводчатые галлереи, на которых покоились террасы. Далее на юге, в оазисе пальм, где ныне лежит деревня Джумджумах, находятся развалины вавилонского базара, где отыскали слишком три тысячи писаных табличек, которые раскрывают нам финансовую историю халдейской столицы. На правом берегу, где находится нынешний город Гиллех, стоящий, по мнению Опперта, на месте промышленного квартала, курганы редки, и не видно более никаких следов дворца, который Семирамида воздвигла напротив Касра, стоявшего на противоположном берегу. Причина этого совершенного исчезновения памятников западной части древнего Вавилона должна быть приписана размывам реки, которые происходили преимущественно на правом берегу. Обширные куски почвы, постепенно подточенные водами, были унесены течением, вместе с покрывавшими их грудами кирпичей и обломков, и на место их отложились новые земли. Однако, один памятник существует еще на юго-западе, на месте древней Борсиппы, близ болот, которые тянутся на некотором расстоянии от правого берега реки, и эта развалина есть именно та руина, которую легенда представляет как остаток древнейшего здания в свете. Курган Бирс-Нимруд есть, будто-бы, знаменитая «Вавилонская башня», вершина которой должна была «достигнуть неба», и где совершилось чудо «смешения языков». Трещины холма—это, будто-бы, следы грома, поразившего дерзновенных строителей. Однако, эта горка, сплошь состоящая из глиняных черепков, между которыми не растет ни былинки, не дала исследователям и искателям кладов ни одного обломка, предшествовавшего эпохе Навуходоносора. Имя этого государя носят кирпичи памятника. По Ричу, точная высота кургана 60 метров, но уцелевшая часть стены, господствующая над ним, увеличивает общую высоту на 11 метров; Страбон давал ей одну стадию, то-есть 185 метров (86 с третью сажен) высоты. На сколько можно судить по внешнему виду, западная сторона Бирс-Нимруда, кажется, состояла из вертикальной стены, тогда как на восточной стороне следовали одна за другой, через ровные промежутки, террасы в форме ступеней. Что это была за постройка, воздвигнутая Навуходоносором? Теперь известно, что это была «Башня Семи Сфер», зигюрат или обсерватория, в роде той, какая существовала в Хорсабаде.
Вероятно, ни Вавилон, ни другие исчезнувшие города нижней Халдеи не откроют нам ни монументальных скульптурных произведений, ни каменных архивов, подобных тем, какие оставили после себя города древней Ассирии. Страна чисто-аллювиальная, где не встретишь ни одного камешка, южная Месопотамия не имела других строительных материалов, кроме тростника, древесных ветвей, асфальта и своих грязей, употребляемых в виде битой земли для мазанок араба, или формуемой в кирпичи для построек, предназначенных к продолжительному существованию. Камни, которые служили для изображения богов и царей, приходилось привозить с предгорий Ирана, с берегов Аравии, или даже с отдаленного Египта. Но если развалины Вавилонского царства не обещают много статуй и барельефов археологам, то они сохранили более древние архивы из кирпичей, и, благодаря этим архивам, историки восходят на несколько столетий далее к началам человечества. К северу от Вавилонской башни, на канале, проведенном из Евфрата, два города-близнеца, Сиппар и Агаде, стояли почти за четыре тысячи лет до нашего времени, в ту эпоху, когда народы Сумира и Аккада оспаривали друг у друга господство над страной. Недалеко оттуда, курганы Абу-Губба заключают в себе обломки храма Солнца, где жил Ксизуфрус, царь халдейский. К югу от Вавилонской башни, на нижнем Евфрате, в местности, которую болота делают неприступной в продолжение большей части года, рассеяны курганы древнего Эреха (Урук), Орхеи греков, Варки нынешних арабов. Это—город Книг: там находилась древнейшая библиотека Халдеи, и потому в этом месте надеются найти когда-нибудь полную эпопею Исдубар, от которой теперь имеются только отрывки. Ниневийские кирпичи, где отыскали рассказ о всемирном потопе, были скопированы с эрехских писаных табличек. Судя по обширным некрополям, окружающим Варку, ни один город, может быть, не был более священным, как место погребения. Некрополь раскинулся на пространстве нескольких миль; без сомнения, покойники привозились сюда из всех областей Месопотамии, как они привозятся в наше время из Персии в Кербелу. Тела умерших спускались целыми караванами по водам Евфрата, подобно тому, как в средние века сплавляли трупы по течению Роны до города Арля, где благочестивые руки собирали их, чтобы положить в склепы кладбища Алискан. Далее на юге в первые века истории Халдеи стояли другие большие города: из них назовем Ур, который был могущественным городом слишком за четыре тысячи лет до нашей эпохи, и от которого не осталось ничего, кроме величественного кургана, высотой 60 метров, который арабы называют Мугеир, то-есть «Горная смола», по причине нефтяного цемента, связывающего слой кирпичей.
Вавилон, наследник всех этих древнейших городов, сохранил в глазах народов обаяние, которое создается долгим прошлым, прославленным культурой и могуществом. Бедуины приходят созерцать Вавилонскую башню; евреи, вспоминая «вавилонские ивы» (по Гутум-Шиндлеру, так называемая «плакучая» или «вавилонская ива», Salix Babylonica,—скорее тополь; арабы называют это дерево гараб, а персиане бид; оно встречается больше в Сузиане, чем в собственной Вавилонии), под которыми плакали их отцы, видят в этом месте пленения как-бы второе отечество. Вавилон был местопребыванием знаменитой школы, откуда вышел ученый доктор Гиллель, правила которого были в большей части сохранены Талмудом, и Каббала (таинственные предания евреев) получила там свое начало. В двенадцатом столетии, во время путешествия Вениамина Туделы, двадцать тысяч евреев имели постоянное жительство в черте бывшей городской ограды Вавилона. Все закладчики в Гиллехе—евреи, и им принадлежат если не окружающие земли, то по крайней мере доходы с земли и домов. Деревня Кифиль, на юге от развалин, есть одна из их колоний, группирующаяся вокруг гробницы, которую они считают могилой Езекииля. Эта святыня берегов реки Гиндие не менее чтится, чем могила Эздры на берегу Тигра, и на поклонение ей стекаются со всех сторон богомольцы; иногда бывало, что до двадцати тысяч пилигримов стояли лагерем в палатках, разбитых на равнине вокруг местечка.
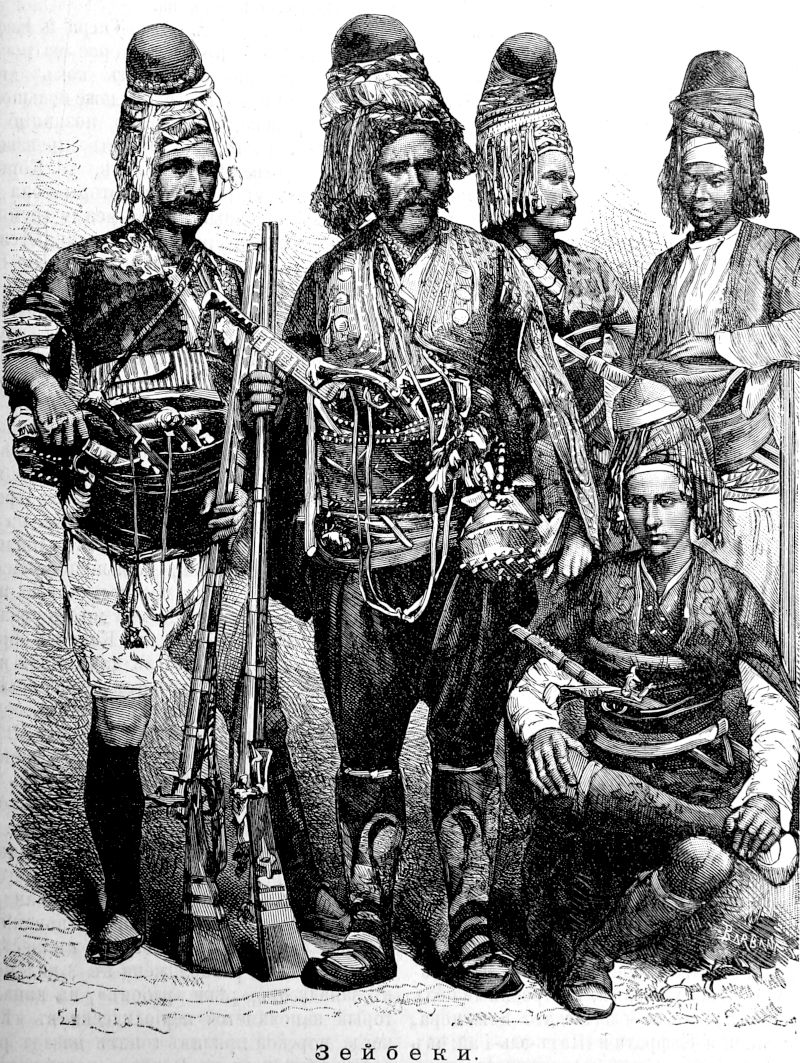
Воспоминание о великом Вавилоне входит, может быть, также отчасти, как одна из побудительных причин, в религиозную ревность шиитских пилигримов, которые из глубины Персии, из Индии, из Закавказья, стекаются к святым городам Кербеле и Неджефу. Первый из этих городов, лежащий к северо-западу от Вавилона, к западу от Тюэриджа, на реке Гиндие, окружен болотами и прудами, происходящими от разливов большого, отведенного из Евфрата, канала, который изливается в «Неджефское море», попеременно пресноводное и соляное, смотря по степени обилия питающих его речных вод. Шпалеры пальм окружают Кербелу и защищают ее отчасти от болотных миазмов; но в центре города, называемого также Мешед-Гуссейн, находится кладбище; даже дома служат гробницами, и земля, которую из них вынимают при копании могил, поступает в продажу, в виде талисманных лепешек, для пилигримов. Главный промысел жителей, между которыми насчитывают несколько тысяч индусов, состоит в погребении трупов, которые привозятся им со всех концов шиитского мира, даже из Бомбея, на английских пароходах; в смрадном некрополе живые находятся в постоянном соприкосновении с мертвыми, особенно в феврале месяце, когда пилигримы приходят массами оплакивать убиение Гуссейна. В следующем месяце они отправляются в Неджеф или Мешед-Али, город «Мученика Али», где высокая мечеть, посвященная этому святому, с куполами, обшитыми золотыми листами, покрывает некрополь, священный по преимуществу, громадный склеп, разделенный на три этажа, где тела покойников кладутся по порядку первенства, смотря по цене, платимой наследниками за место. Понятно, какую опасность для общественного здравия составляют кладбища Кербелы и Неджефа, особенно во время эпидемии. Исследования санитарных врачей установили тот факт, что чума, когда она заносится из Курдистана, всегда имеет свой центр распространения в священных городах Вавилонии. В 2 километрах к востоку от Неджефа группа убогих землянок указывает место, где стояла некогда Куфа, бывшая столица калифата, представлявшая, как говорят, столь же значительный центр населения, как и Вавилон. Этот город художников и писателей известен лишь по прекрасным надписям «куфическими буквами», которыми украшены дворцы и мечети великой архитектурной эпохи ислама. Пилигримы, отправляющиеся на богомолье в мечеть Али, обходят стороной эту деревню, которую они считают проклятою, так как там находится мечеть «без сводов, без столбов, почти без стен в настоящее время», в которой Али был поражен на смерть. Этот ужас, питаемый пилигримами к Куфе, объясняет тот факт, что эпидемии всегда обходят ее. Гира, другой большой город, оставил после себя одни развалины. Недалеко от Кербелы находится местечко Эль-Каддер, древняя Кадесия, где происходила битва, положившая конец существованию национальной монархии персов и обратившая их в магометанский народ. В 1801 году вагабиты, в числе пятнадцати тысяч, овладели Кербелой, где им досталась громадная добыча.
Ниже Вавилона, берега Евфрата, некогда столь густо населенные, не совсем пустынны. Маленький город Дивание, чрез который проходит одна из дорог, ведущих в Неджеф, расположен на левом берегу реки, вдоль которого тянутся рисовые поля; далее по течению, ниже Ламлунских болот, где Евфрат разветвляется на несколько необособленных определенно побочных рукавов, теряющихся в камышах, город Самава показывается на том же берегу, при устье канала Шенафие, по которому поднимаются барки с пилигримами, отправляющимися в Мешед-Али. Назрие—город новый, построенный под руководством одного бельгийского инженера, близ соединения Евфрата и Шат-эль-Гай; он населен арабами племени монтефиков, так же, как и Сукеш-Шиох или «Рынок шейхов», лежащий ниже, в соседстве болот. Это арабское местечко, почти все состоящее из тростниковых хижин, имело некогда весьма важное значение, как резиденция шейха и главный рынок могущественного племени монтефиков: по Уэлльстеду, до 70.000 жителей были собраны в этом месте на берегах Евфрата. Оттуда вывозятся камышевые циновки и шерсть шелковистая и гибкая, из которой во Франции выделывают ковры. Сук-эш-Шиок есть единственное место, где сабейцы имеют церковь.
При слиянии двух рек, Тигра и Евфрата, стоит местечко Корна, которое матросы называют путешественникам как «город Рая», где они показывают даже большое раскидистое дерево, как «древо познания добра и зла». Так как судоходство производится почти единственно на Тигре, то Корна не пользуется теми выгодами, которые она имела, бы, как складочный пункт между двумя большими реками, которые там соединяются. Речной рынок находится далее к югу на Шат-эль-Арабе, почти на половине дороги от места слияния до моря, там, где останавливается морское судоходство и начинается речное. Но этот торговый город, Бассора или Басра, пришел в упадок, как и жители Тигра, для которых он служил портом в эпоху калифов. В то время, когда Багдад был одним из первых городов в свете, Бассора, находившаяся западнее, на другом канале, сообщающемся с Шат-эль-Арабом, была самым оживленным портом на всем Востоке; жители сотнями тысяч толпились на её улицах. Бедствия, поразившие населения внутренности страны, постигли также и приморский город: значение его дотого умалилось, что история забыла о нем. Каким образом он исчез? Вследствие ли наводнений и бурь, как говорит местная легенда, или вследствие постепенного засорения каналов, соединявших его с речным устьем? Вопрос этот до сих пор остается нерешенным. От древней Бассоры остались только груды кирпича, близ того места, где теперь стоит, среди песков, городок Зобеир; это не более, как телль, в роде соседнего кургана Джебель-Синан, отожествляемого археологами с Тередоном Навуходоносора и Александра Македонского. Новая Бассора, основание которой восходит по крайней мере к шестнадцатому столетию, расположена в 3 километрах к западу от «реки арабов», на канале, который наполняется периодически в те часы, когда морской прилив гонит назад речные воды; дома, как в Венеции, погружаются тогда нижней своей частью в поток. Англичане построили свои склады и верфи при соединении канала и реки, и теперь там мало-по-малу выростает новый город. Турецкий арсенал находится в 5 километрах выше по реке, близ маленького торгового города Маагиль.
Вокруг Бассоры и её пригородных поселений пальмы растут сотнями миллионов в сырой почве. Корни финиковых пальм мокнут в реке, которая дважды в сутки выступает из берегов, и этому-то ежедневному наводнению бассорские финики, как полагают, и обязаны своим несравненным вкусом; но дерево менее долговечно, чем на более сухой почве: в двадцать лет оно уже гнилое, и насаждение должно быть обновлено. Бассорский пальмовый лес тянется вдоль правого берега Шат-эль-Араба, на пространстве около шестидесяти километров, и ширина его в некоторых местах составляет шестую часть этого расстояния. На противоположном берегу, принадлежащем Персии, видно только несколько рощиц финиковых пальм, дурно содержимых. Обыкновенно этот поразительный контраст приписывают различию администраций, и отсюда заключают, что турецкий режим лучше персидского. Но оттоманы ни при чем в преуспеянии бассорских пальмовых плантаций: эти насаждения почти всецело принадлежат арабам, жителям порта Ковент, составляющим как бы независимую республику. Им-то и обязан своей красой и пышностью этот обширный сад, где растут семьдесят разновидностей финиковой «пальмы», фруктовые деревья всякого рода и кусты роз. Со времени открытия Суэзского канала, цена шат-эль-арабских фиников увеличилась в шесть раз, а между тем уже в половине текущего столетия общая ценность вывоза этого продукта простиралась до 2 миллионов франков. В некотором расстоянии от реки возделывают преимущественно хлебные растения, и урожаи иногда бывают так обильны, что арабы, чтобы не платить за перевозку, дают хлеб в корм скоту или употребляют его в виде топлива.
При устье Шат-эль-Араба, местечко Фао есть передовой порт Бассоры, местопребывание лоцманов и служащих на маяке, на подводном телеграфе и в таможнях; годовое движение, по приходу судов, превышает полмиллиона тонн. Напротив Фао, персидский берег лимана имеет пустынный вид; но выше, при слиянии Шат-эль-Араба и канала, отведенного из Каруна, на северном высоком берегу раскинулся город новой постройки, Могаммерах. Этот речной порт Персии, лежащий в области, столь отличной от Ирана с географической точки зрения, почти безполезен для жителей нагорья, и уже не раз обвиняли Англию в желании овладеть им, чтобы извлекать из него больше выгоды, чем нынешние его владельцы.
Турецкие города в бассейне Евфрата, ниже слияния Мурада и Карасу, с их приблизительным населением:
Орфа—55.000 жителей; Аинтаб—43.000; Бассора—40.000; Мардин (по Захау)—20.000; Асбузу (по Гвардиагрелю)—20.000; Биреджик (по Шантру)—15.000; Гиллех (по Арно)—15.000; Кербела—65.000; Бегесни—12.000; Неджеф (по Гири)—12.000; Гурун (по Бранту)—9.000; Дивание (по Арно)—6.000; Суверек (по Опперту)—6.000, Дейр (по Захау)—5.500; Деренда—5.000; Маядим (по Захау)—5.000; Моссеиб (по Гири)—4.500; Анах (по Чернику)—4.000; Назриех (по Ривуару)—4.000; Тюэридж (Гиндие) (по Маге)—3.500; Мидиат (по Захау)—3.000; Гит (по Чернику)—2.000 жителей.