Самый рельеф почвы сгруппировал на морском прибрежье наиболее многочисленные населения; по мере удаления от берегов, населенные места встречаются все реже и реже, и, наконец, путешественник вступает в пределы настоящих пустынь. Города, многолюдные села и деревни находятся в огромном большинстве в соседстве моря; как на Пиренейском полуострове, с которым Малая Азия имеет так много сходства, плотность народонаселения уменьшается от окружности к середине. Однако, плоские возвышенности Анатолии, как и нагорья Испании, заключают несколько важных городов, необходимых этапов торговли, которая производится от одного прибрежья к другому. Линия раздельного хребта между покатостями Черного и Кипрского морей составляет почти точную границу между двумя стилями архитектуры: к северу от этой черты везде увидишь наклонные крыши, покрытые черепицей, к югу—террасы из битой глины или мелкого булыжника, каковы бы, впрочем, ни были климатические условия.
К западу от мыса Язона, рассматриваемого, как восточный предел Понтийских берегов Малой Азии, первый город богатого Джаникского края—порт Уние, имеющий некоторую важность по судостроительным верфям и по каменоломням, откуда добывают красную и белую известняковую плиту, отправляемую в другие города побережья. Горные породы, из которых выламывают плиту, содержат залежи волнистой яшмы, отлично принимающей полировку: здесь, как думает Гамильтон, выделывались те яшмовые вазы, которые Митридат любил показывать своим гостям. Возвышающиеся внутри этого края известняковые холмы покрыты желтоватой глиной, в которой находят гнезда железистого камня с довольно слабым содержанием металла, и местные жители, может быть, потомки древних халибов, плавят эту руду в маленьких деревенских заводах; впрочем, их железо, очищаемое на древесном угле, превосходного качества, так что турецкое правительство покупает его для своих арсеналов. В одно и то же время рудокопы, кузнецы и угольщики, униехские «халибы» ведут кочевую жизнь, перенося свои хижины и кузницы на новое место, когда на старом залежь руды кажется им истощившейся. Вся страна усеяна рудоплавильными печами в развалинах и грудами шлаков. На востоке, тоже на берегу земли халибов, следуют один за другим несколько портов—Фатиса, Орлу; но, служа местами сбыта для коротких долин, эти порты имеют незначительную торговлю. В этой области, защищенной от ветров мысом Язоном, находится лучшая якорная стоянка на всем анатолийском прибрежье Черного моря, Воналиман, куда некоторые суда удаляются на зимовку.
Верхняя долина реки Гермили, главного притока Ешил-Ирмака, начинается в самом сердце Понтийских гор, между травянистыми склонами. Главный город этой альпийской области—один из тех многочисленных Карагиссаров или «Черных замков», названных так от разрушенных крепостей, приютившихся на вершине отвесных скал. Карагиссар северо-восточной Анатолии обозначается специально прозвищем Шеб-хане, Шабанах или Шабин, по причине квасцовых рудников, которые разрабатываются в соседстве, и продукты которых перевозятся через горы Гумбет-даг в порт Керасун. План колесной дороги, еще не выполненный, соединяет этот город с набережными порта Тиреболи. Шабин-Кара-гиссар, высоко стоящий на уединенной скале, в цирке гор, находится на высоте слишком 1.600 метров. Другой торговый город этой долины, Никсар, древняя Нео-Кесарея, лежит всего только на высоте 500 метров; он отстоит не более, как на 50 километров от слияния двух главных ветвей Ириса. Среди его обширного леса фруктовых деревьев видны кое-какие остатки римских укреплений Новой Цезареи. В этом-то городе, который у Страбона называется Кабирой, и была, по мнению Гамильтона, резиденция Митридата. Почти все нормальное население окрестностей состоит из кизыль-башей.
Токат, столица верхнего бассейна реки Ирис или Тосанли-су, есть один из больших городов внутренней Анатолии и один из главных этапных пунктов на дороге из Константинополя в верхнюю Месопотамию. Предместья его продолжаются далеко в боковые долины между садами; в 12 километрах вверх по реке находилась пышная Комана понтийская, где еще видны кое-какие обломки древних храмов, вставленные в византийский мост, построенный на Ирисе. Токат, представляющий ныне скопление домишек из битой глины и кирпича, высушенного на солнце, легко мог бы быть отстроен из мрамора, так как он расположен у подошвы двух крутых вершин из кристаллического известняка, доставляющего великолепнейший строительный материал; слои, на которых залегают эти мраморы, ломаются широкими плитами, которые турки употребляют на надгробные памятники. Северная скала увенчана живописными развалинами византийского замка, а на одной из её стен открываются гроты, естественные и искусственные, которые, вероятно, служили некрополем; портал, на пороге которого висит остаток лестницы, давал некогда доступ в подземные галлереи. Сады, хорошо нагреваемые теплотой, отражающейся от мраморных скал, и орошаемые обильными водами, проведенными из Ириса, дают превосходные плоды; их яблоки и груши еще лучше и ароматичнее, чем ангорские, славящиеся во всей Малой Азии, даже в Константинополе. Токат имеет медноплавильпый завод, куда привозят руду, добываемую из залежей Кабан-Маден, за Сивасом. Выделываемая на этом заводе посуда отправляется даже в Египет, в Персию и в Туркестан.
Ниже Токата простирается, на берегах Ириса, плодоносная, равнина Каз-ова или «Гусиная», оконечность которой охраняется большим местечком Турхал; над домами и садами этого городка высится совершенно уединенная скала, пирамидальной формы, с выступами, расположенными косвенно кругом стен и придающими ей поразительное сходство с древне-ассирийским храмом, каким его показывают реставрированные планы. На вершине Турхальской скалы видны развалины крепости. К юго-западу от этой долины, в равнине, орошаемой притоком Ириса, значительный город Зиллех, древняя Зила, населенный почти исключительно турками, также сгруппировал свои дома у подошвы скалы, отделенной от окружающих холмов и увенчанной крепостью. На вершине скалы стоял храм богини Анагит, высоко чтимое здание, на которое древние персидские цари, по словам Страбона, смотрели, как на главное святилище своих божеств. Вероятно, сила привычки сделала из Зиллеха одно из наиболее посещаемых ярмарочных мест Малой Азии; толпу пилигримов, привлекаемых некогда святостью храма, сменило стечение торгового люда. К северу от Зиллеха, на дороге в Амазию, находится поле битвы, которую Цезарь дал Фарнаку, царю Понтийскому, и которую он описал в трех словах: «veni, vidi, vici!» (пришел, увидел, победил!).
Амазия, где родился Страбон, и где был написан его великий труд, наполняет узкий бассейн, через который протекает Ирис (Ешил-Ирмак), соединяющийся немного ниже города с притоком Терсекан-су. С восточной и западной стороны высятся огромные серые скалы, лишающие город лучей солнца в продолжение нескольких часов дня. Восточные холмы, менее крутые, представляют несколько террас, покрытых виноградниками и усеянных домиками. Западные скалы, фланкированные при основании широким цоколем, на котором стоял дворец понтийских царей, указываемый еще кое-какими обломками, представляют почти вертикальную стену, оканчивающуюся острым гребнем, на котором помещалась цитадель, описанная Страбоном. Чтобы взобраться туда, нужно обогнуть скалу и войти на западе в утесистую брешь, откуда крутая тропинка поднимается к ограде бывшего укрепления. Нынешняя крепость почти вся византийской и турецкой постройки; но уцелели еще две эллинские башни превосходной работы, а также галлереи, высеченные в скале, которые спускаются к подземному источнику, затем выходят на поверхность папертью, подобной порталу в Турхале. На стенах скалы, господствующих над древним дворцом, виднеются пять царских могил, ясно выделяющихся на сером фоне камня, благодаря тени высеченных вокруг них гротов.
Древняя метрополия Понта не сохранила других античных остатков, если не считать фрагментов изваянных мраморов, которые послужили материалом для постройки быков одного из её мостов; но она имеет богатую мечеть, прекрасные фонтаны, живописные дома, мельницы, поднимающие ирригационную воду большими, медленно вращающимися колесами, группы тутовых деревьев в перемежку с домами, и почти чистые улицы. Белые ястребы, гнездящиеся в расселинах окрестных скал, очищают город лучше, чем это сделали бы отряды турецких рабочих. Амазия, насчитывающая между своими жителями большое число армян и греков, составляющих около четверти населения,—довольно промышленный город; многочисленные заводы следуют один за другим вдоль реки и её каналов, мельницы, мастерские для разматывания шелка, мануфактуры грубых сукон. Тем не менее, этот город есть также оплот турецкого фанатизма. «Оксфорд Анатолии», Амазия дает приют двум тысячам студентов, разделенных между восемнадцатью медрессе или коллегиями, богоугодными заведениями, владеющими полями, домами, лавками, доходы с которых идут на содержание профессоров и воспитанников. Эти имущества, вакуфы, управляемые специальным администратором, который заседает в Константинополе в совете министров, приносят школам лишь весьма небольшую часть получаемых с них действительных доходов.
Амазия и другие города нижнего бассейна Ираса, Чорум и Мерсифун (Мерсиван), не отправляют своих произведений и товаров через устье реки; суда не поднимаются по течению, и ближайшее к морю местечко, Чарамба, в голове дельты, состоит лишь из домов, рассеянных на обоих илистых берегах Зеленой реки. К западу от Ешил-Ирмака, Самсун, новый порт, служащий посредником в торговле между бассейнами Ешил-Ирмака и Кизыл-Ирмака, находится почти на полдороге между дельтами этих двух рек; он сменил древний Амизус греков, который лежал в 2 километрах севернее, и от которого уцелели еще молы и остатки набережных, окаймляющие аллювиальные земли, на которых разведены сады. Нынешний город, с грязными кривыми улицами, замечателен только своим рейдом, заключенным между двух обширных полукругов твердой земли, образовавшейся из речных наносов. С половины настоящего столетия торговля его значительно увеличилась, особенно торговля с Россией, и в многочисленных проектах инженеров Самсун обозначен, как исходный пункт будущей железной дороги, которая направится к Токату, Сивасу и равнинам Евфрата. Торговое движение в порте Самсун в 1880 году: 310.000 тонн.
Сивас, главный город большой провинции, лежит на правом берегу верхнего Кизыл-Ирмака, в равнине, постепенно понижающейся с высоты 1.250 метров и доминируемой на западе крутыми склонами холма, возвышающимися на 300 метров. Внутри городской ограды встречаются пространства, покрытые развалинами и полуразрушенными зданиями персидской конструкции; несмотря на то, Сивас—один из самых цветущих городов внутренней Анатолии, благодаря тому обстоятельству, что в нем сходятся главные караванные дороги между Черным морем, Евфратом и Средиземным морем; на юге, недалеко от местечка Улаш, находятся очень производительные солончаки, разрабатываемые для казны. Пятая часть населения состоит из армян, которые имеют в соседстве чтимую церковь, а также богатый монастырь, в самом же городе многочисленные школы.
Кайсарие, деревня Кесарея, метрополия Каппадокии, лежит не в долине Кизыл-Ирмака, как Сивас: она занимает, к югу от этой реки, бассейн, некогда озерный, который защищен от лучей южного солнца громадной массой Аргейской горы, и через который протекает небольшой южный приток Красной реки. Соседнее болото, остаток бывшего озера, выливает зимой излишек своих вод через реку Кара-су (Черная вода), которая принимает в себя также Кесарийский ручей; выходное ущелье несомненно то самое, о котором Страбон говорит, что оно было запружено одним государем Каппадокии с целью превратить эту равнину во внутреннее море. Кесарея, древняя Мазака, лежащая ближе к вулкану, чем нынешний Кайсарие, оставила после себя лишь бесформенные обломки, да и от средневекового города, разрушенного землетрясениями, видны одни только развалины. Теперешняя Кесарея, где армяне и греки доставляют больше трети населения, довольно торговый город, благодаря своему центральному положению, и караваны беспрестанно ходят между Константинополем и равниной, над которой господствует гора Аргей; тем не менее, правильные рейсы пакетботов, ходящих от пристани до пристани вдоль берегов Черного и Средиземного морей, отвлекли к прибрежью торговое движение, и Кайсарие утратил свое значение, как центральный рынок Малой Азии. Тенистые долины Аргейской горы и соседних гор усеяны загородными домами, где богатые негоцианты и чиновники проводят лето. Эверек, расположенный в лесу фруктовых деревьев, у южного основания горы Аргей, и населенный исключительно христианами, армянами и эллинами, есть главное местечко в окрестностях, откуда отправлялись все путешественники, предпринимавшие восхождение на вулкан. Много других деревень населены греками, говорящими по большей части только по-турецки.
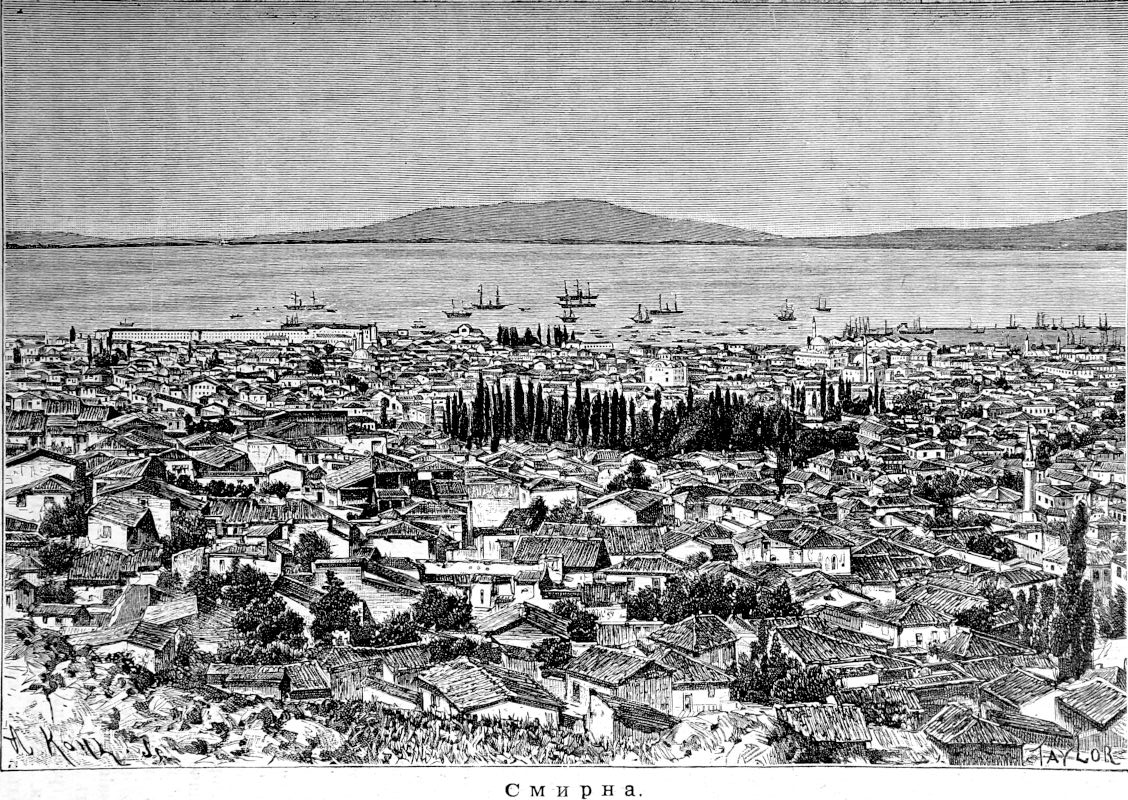
К западу от Кайсарие, большая дорога, ведущая в Константинополь, не спускается к Кизыл-Ирмаку, но следует параллельно его долине в некотором расстоянии, в понижении, отделенном от реки высокими горами. Она проходит через города Инджех-су, Ургуб и Нем-Шехр (Нев-Шехр), из которых последний один из богатейших городов внутренней Анатолии, один из тех, где греки наиболее многочисленны, так что им принадлежит половина города и почти вся его торговля. Ургуб и соседняя деревня Уч-Гиссар или «Три замка» расположены в одной из замечательнейших стран Малой Азии по её достопримечательностям, естественным и археологическим. В этой вулканической области верхния формации, состоящие из твердого камня, залегают в форме стола на пластах туфа, которые, хотя имеют некоторую консистенцию, но легко разъедаются водами. Вековая работа ветров, солнца, дождей образовала в горной породе целую сеть долин, оврагов и барранок. Некоторые из холмов, вырезанных таким образом в туфе, сохранили свою капитель из твердого камня; это—«колонны в шапках», как те глиняные обелиски, которые встречаешь в эрозивных долинах Альп. Другие утратили верхнюю плиту и являются в форме конусов неравной высоты, различие которой зависит от большего или меньшего сопротивления, оказываемого горной породой разрушительному действию атмосферных деятелей. Есть такие, которые возвышаются почти на 100 метров, другие поднимаются только на 50, иные не выше 10 или 20 метров; но они рассеяны по равнине целыми тысячами, представляя вид громадного поля, покрытого исполинскими палатками, где спят гиганты. Большинство этих конусов, серых или красноватых и опоясанных зеленью при основании, просверлены отверстиями, открывающими вход во внутренния полые пространства, человеческие жилища, голубятни или могильные склепы. Между этими гротами одни простые прокопы, четыреугольные или полукруглые, другие имеют спереди изваянные вестибюли и даже колоннады, и украшены живописью; целый народ поместился бы в этих подземельях, вырытых со времен доисторических. Древние аборигены несомненно обитали в этих подземных галлереях, впрочем всегда сухих и совершенно здоровых; туда они помещали своих богов и там же хоронили своих покойников. Теперешние дома Ургуба сохранили некоторые особенности, напоминающие древние жилища троглодита; они построены на высоких аркадах, под которыми открываются обширные подвалы, высеченные в туфе. На юго-запад от Аргейской горы, недалеко от города Кара-Гиссар, скопившийся вулканический пепел, Соанли-дере, представляющийся в форме зубчатых стен, изрыт таким множеством гротов, что в целом скала имеет вид громадного здания с неправильными этажами и неровно расположенными окнами; несколько тысяч отверстий усеяли своими черными точками серый фон скалы. Соанли заключает в себе церковь, из которой можно подняться, переходя из галлереи в галлерею, почти до натуральных зубцов гребня.
На северной покатости долины Кизыл-Ирмака, так же, как и на южной, города удаляются от глубокой впадины, в которой течет река. Маджур, Кир-Шехр, построены, тот и другой, в боковых долинах. Часть страны если не совершенно безлюдна, то по крайней мере без постоянных жителей: там можно встретить только палатки туркменов или курдов. Что касается постоянных селений, то они состоят из домов, которые едва отличишь от окружающей почвы, из домов, погребенных на три четверти для того, чтобы их обитатели менее страдали от летних жаров и зимних холодов; часто путешественники, не замечая улицы, проезжают на лошади по террасам, рядом с баранами и козами, которые щиплют траву на кровлях домов. Этот стиль архитектуры объясняется высотой плоскогорий, поднимающихся, в среднем, слишком на 1.200 метров.
В том месте, где Кизыл-Ирмак, описывая свою большую полукруглую дугу, перестает течь к северу и принимает окончательное направление к северо-востоку, городок Каледжик или «Маленький замок», расположенный на левом берегу, командует проходом, на дороге из Ангоры в Сивас через Юзгат. Полуразрушенная крепость господствует над крутым остроконечным пиком, который опоясан рядом домов. На одном из рукавов реки построен деревянный мост; затем дорога продолжается через брод к восточному высокому берегу. Юзгат, немного значительнее Каледжика, лежит почти в геометрическом центре кривой, описываемой Кизыл-Ирмаком от Сиваса до Черного моря. Этот город, относительно недавнего происхождения, так как он основан в половине восемнадцатого столетия, находится на высоте 1.792 метров, то-есть почти на высоте Эрзерума, и в местности, более выставленной леденящему дуновению полярных ветров. Юзгат, вероятно, был бы обитаем только в сезон жаров, да и то лишь пастухами-кочевниками, если бы он не был избран как административный и военный центр. С половины текущего столетия этот город обогатился разведением ангорской козы, которая прежде водилась только на пастбищах, лежащих к западу от Кизыл-Ирмака.
Некогда страна несомненно была более многолюдна, чем ныне, судя по находимым там развалинам многочисленных городов, которые, повидимому, былп очень богаты и заключали пышные памятники. Менее чем в 40 километрах к северо-западу от Юзгата, близ Богаз-коя или «Деревни ущелья», видны остатки храма великолепных размеров. Соседния скалы покрыты барельефами, представляющими торжественные процессии, может быть, двух государей, заключающих мирный договор, может быть—бога, идущего на встречу царю-победителю. Тексье, первый из новейших исследователей, посетивший «писаный камень», полагает, что город, находившийся в этом месте, был Птерия, разрушенная Крезом слишком две тысячи четыреста лет тому назад. По мнению Гамильтона, в этих барельефах следует видеть остатки древнего Тавиума, о котором Страбон говорит, как о важном торговом городе. Но к какому городу принадлежали артисты, которые покрыли скалу изваяниями, по виду еще полу-ассирийскими, но уже заставляющими предчувствовать произведения эллинской скульптуры? Не менее замечательны руины в Оюке, находящиеся километрах в сорока севернее, на покатости Ешил-Ирмака, близ трахитовой скалы Кара-Гиссар, похожей на изолированную пирамиду. Двери древнего дворца охраняются двумя гигантскими животными, имеющими голову женщины, а туловище и лапы льва; по стилю эти колоссы походят на египетских сфинксов, тогда как другие изваяния, между которыми виднеется также двуглавый орел, воспроизводимый на гербах современных империй, напоминают сцены охоты и битв, изображаемые на памятниках Персии и Ассирии. Нынешняя деревня Оюк построена на горках обломков, покрывающих дворец, и для того, чтобы предпринять серьезные раскопки, нужно начать с отчуждения и сломки жилых домов.
Чангри и Искелиб, в плодоносных бассейнах притоков Красной реки—многолюдные города; но на среднем течении главной реки городов совсем нет, да и в нижней долине они немногочисленны. Один из важнейших—Османджик, стоящий на правом берегу, у оконечности старого каменного моста о пятнадцати арках, где проходит прямая дорога в Константинополь. Ниже Османджика с Красной рекой соединяется речка, спускающаяся с высокой Коч-гиссарской долины и орошающая сады местечка Тозия; затем другой, более обильный приток приносит воды, текущие с гор, окружающих Кастамуни. Этот город, круг домов, кожевенных заводов, прядилен, красильных заведений и садов, в центре которого высится скала, увенчанная крепостью времен Комненов,—откуда имя его Castra Comneni, переделанное в Кастамуни,—есть один из главных этапных пунктов на дороге, которая идет прямо из Стамбула в Самсун, не следуя вдоль извилин морского прибрежья. Ниже, на той же реке, Таш-Кепри или «Каменный мост» заменил древний Помпеиополь. К востоку от главной реки, город Визир-Кепри, окруженный кипарисами и тополями, тоже лежит вне главной долины, на последнем притоке. Наконец, Бафра, рынок дельты, расположен в некотором расстоянии от топкого речного ложа и окружающих его болот, на возвышенном месте, часто превращаемом в остров наводнениями: дороги все должны проходить по насыпям над низменной равниной. Главная культура на этой сырой и плодородной почве—табак, который отправляют в Константинополь через маленький порт Кунджас или Кумжугаз, лежащий на востоке дельты, как раз в том месте, где аллювиальные земли образуют выступ на нормальной линии морского берега.
Прелестный Синоп, древний ассирийский город, уже колонизированный милезийцами двадцать семь веков тому назад, ведет менее значительную торговлю с внутренними областями, чем Самсун. В то время, как этот последний порт имеет легкое сообщение с Эрзерумом, Амазией, Токатом и Сивасом, Синоп отделен от средних долин Кизыл-Ирмака и Сакарии крутой горной цепью Марайдаг, через которую ведут лишь плохия тропинки. Синоп, лежащий близ самого северного мыса Малой Азии и не имеющий дорог, находится как бы вне континента; на него должно смотреть, как на род острова, который обязан своей важностью лишь выгодам приморского положения. Группа холмов, слегка волнистых, на которые он опирается, была в самом деле островным массивом, состоящим из известняковых пластов, которые прикрыты в некоторых местах трахитами и вулканическими туфами. Узкий перешеек, который северо-западные ветры посыпают тонким песком, соединяет высоты с твердой землей: с холмов, господствующих над перешейком Синопа, его строениями и двумя рейдами, созерцаешь одну из восхитительнейших картин азиатского прибрежья. Гармонические, волнистые изгибы берега, сравниваемые восточными поэтами с гибким стройным станом юноши, отдельные группы деревьев, осеняющие скаты высот, дома, башни, минареты, корабли, глядящиеся в зеркальную поверхность голубого моря, контраст двух портов, имеющих каждый свою систему волнений и течений, свои шквалы и отблески,—все это вместе придает городу необыкновенно живописный вид, так что Синоп по справедливости можно назвать жемчужиной северной Анатолии. Но внутри городских стен, установленных по бокам потрескавшимися и наклонившимися башнями, не видно более никаких остатков тех памятников, которые украшали вольный греческий город во времена, когда там родился Диоген-циник. Здания, построенные Митридатом, также сыном Синопа, не существуют более, но в стенах византийской эпохи встречаются вставленные фрагменты античных изваяний и надписей. Южный порт, гораздо более посещаемый, чем северный, не защищен никаким жете, но суда могут совершенно спокойно стоять там, когда дует опасный западный ветер. Турецкое правительство вновь выстроило в Синопе арсенал и кораблестроительную верфь, взамен тех, которые были сожжены, вместе с стоящей на рейде маленькой оттоманской эскадрой, русским флотом в начале крымской войны, в 1853 году. Местная торговля имеет некоторое значение только по вывозу фруктов и леса; торговое движение Синопского порта в 1880 году выразилось цифрой 113.000 тонн. Известно, что пафлагонский город доставлял художникам ту «синопскую землю», название которой передалось в геральдическом языке зеленому цвету (sinople) на гербах. Оконечность Синопскаго мыса усеяна пропастями и ямами, образовавшимися вследствие провалов почвы.
К западу от мыса Сириас или Инджех-Бурун, составляющего западную границу масличного дерева, как это заметил еще Ксенофонт, следуют один за другим маленькие порты между скалистыми мысиками; такова древняя греческая колония Инеболи, откуда выходит горная дорога, направляющаяся в Кастамуни, Коч-Гиссар и Чангри. Далее следует Сезамиус (Амастрис, Амасра), где видны остатки висячего сада, поддерживаемого девятнадцатью колоссальными сводами. Порт Бартан, также греческого происхождения, стоит не при море, а на реке, древней Парфении, которая позволяет судам, сидящим в воде не более 2 метров, вход на целую милю внутрь материка. Река Филиас—в старину Биллеус—гораздо более полноводная, чем Бартан или Парфений, заперта в устье баром, через который суда не могут проходить; но она орошает сады двух важных городов, называемых, тот и другой, Боли. Восточный Боли, обозначаемый специально под именем Зерафан-Боли или «Шафранный Боли», лежит в широком бассейне плодородных полей, орошаемых рекой Суганли-су, притоком Филиаса; шафран, украшающий в октябре месяце своими цветами всю равнину, вывозится главным образом в Сирию и Египет. Западный Боли, называемый просто Боли, находится уже в самом сердце гор, на высоте 860 метров, на дороге из Эрекли в Ангору: это—древний Вифиниум. Город, большой и некрасивый, расположен у подошвы высокой скалы, увенчанной развалинами крепкого замка; на юге обрисовываются длинные лесистые верхушки Аладага, Галатского Олимпа. На западном мысе, господствующем над устьем реки Филиас, рассеяны руины города Тиума—храмы, амфитеатры, водопроводы, ворота, стены и гробницы, на половину скрытые листвой больших деревьев и гирляндами плюща. Тиум—«жемчужина Эвксина».
Эрекли, древняя Гераклея, или «порт Геркулеса», хотя теперь в упадке—один из красивейших городов прибрежья. Расположенный при выходе зеленеющей долины, на берегу бухточки, защищенной с севера высоким мысом, он окружен старыми стенами, закрытыми там и сям густо разросшимися деревьями; наблюдаемые с моря, все холмы, до крайнего горизонта, покрыты буковым лесом. Эрекли—один из портов Черного моря, которым, повидимому, предстоит сделаться центрами самой кипучей деятельности, когда рессурсы страны будут утилизируемы как следует. В соседстве эксплоатируют в очень незначительных размерах каменноугольные копи, которые, при более серьезной разработке, тщетно предлагаемой европейскими промышленниками, могли бы быть гораздо более производительными. Залежи каменного угля, исследованные на небольшом числе пунктов, простираются на пространстве, имеющем от 120 до 130 километров в длину, с запада на восток, и около десяти километров в ширину; мощность одного из пластов равна 4 метрам. Кое-какие обломки древней Гераклеи видны еще внутри нынешней ограды; на севере, между скалами северного мыса, показывают грот Ахерусия, где Геркулес спускался в подземное царство, чтобы привязать на цепь Цербера и победить смерть; волшебники вызывали там призраки. Посреди гористой и лесной области, простирающейся на юг к Галатскому Олимпу, местечко Ускюб, древняя Пруза или «Prusias ad Hypium», сохранило интересные остатки греческого театра, а также длинные и любопытные надписи.
Известно, что бассейн реки Сакария, к западу от гор Галатеи и долины Кизыл-Ирмака, соединяется по наклону почвы с степями и озерными впадинами центральной Анатолии: несмотря на общее осушение почвы и разделение на замкнутые бассейны страны, простирающейся за истоки Сакария до южной стороны Большего Соляного Озера, можно сказать, что вся эта область принадлежит геологически к черноморской покатости. Ак-Серай или «Белый дворец»—незначительное местечко, сделавшееся главным городом бесплодного и почти пустынного края, самая обширная впадина которого занята Большим Соляным озером. Населенный единственно турками, Ак-Серай, в окрестностях которого нет никаких поселений, кроме временных становищ кочевников, не имеет других предметов торговли, кроме селитры, собираемой на стенах после дождей; но эта страна, как показывают остатки старины, была некогда гораздо более богата. На юге, предгорья массива Гассан-даг покрыты циклопическими постройками, акрополями, храмами и гробницами, от которых сохранилось несколько великолепных обломков. Мало найдется стран в Малой Азии, где бы древние населения, предшествовавшие завоеваниям Александра Македонского, оставили более грандиозные свидетельства своего пребывания. Виран-Шехр, то есть «Покинутый город», есть, как полагают, древняя Назианза, известная в истории церкви, как место рождения св. Григория.
Озерный бассейн, который лежит в низменности, заключающейся между Эмир-дагом и Султан-дагом, также должен быть рассматриваем, как находящийся на покатости Черного моря. Более узкий, окруженный горами, которые доставляют ему большое количество воды, этот бассейн гораздо более населен, чем солончаковые степи Ликаонии, и заключает более важные городские поселения: Ильгун, Ак-Шехр, Бульвадин, Афиум-Кара-Гиссар или «Черный замок опиума». Этот большой и промышленный город, где фабрикуются сафьяны, ковры, шерстяные материи, есть один из главных этапных пунктов на дороге с Босфора в Сирию, и по проектам большинства инженеров, там должны соединиться две линии, константинопольская и смирнская, на общем стволе железной дороги в Индию. Скала, от которой этот важный город получил свое название Черного замка, есть трахитовый конус, который стоит одиноко среди равнины, увенчанный стенами и башнями; на севере, полукруг других трахитовых горок составляет как бы кортеж центральной скалы; сады окружены полями мака, чередующимися с хлебами и другими культурами. На севере, за холмами, простирается узкая равнина, заключающая один город, повидимому, очень древняго происхождения: Эски-Кара-Гиссар или «Старый черный замок». Там можно видеть некоторые из прекраснейших изваянных мраморов Малой Азии, гробницы, бани и колонны, материал для которых был добыт из покинутых ныне каменоломен. Кристаллические мраморы, окруженные трахитами, которые видоизменили пласты сплошных известняков, представляют разнообразие оттенков—белый, синеватый, желтый с прожилками и крапинками.
Область истоков реки Сакарии, богатая руинами, теперь очень слабо населена. Развалины Герган-Кале, покрывающие обширную равнину, представляют собою, по мнению Гамильтона, остатки древнего Амориума, а Тексье признал в фрагментах колонн и фризов, разбросанных вокруг деревни Бала-Гиссар, руины Пессинуса или Пессинонта, где жили галлы или галаты, воздвигнувшие храм «бабушке» Цибеле; теперь эти развалины разрабатываются, как каменоломня. Новый город, сменивший древние греческие и галатские города, носит название Севри-Гиссар или «Замок остроконечных вершин». Он построен на высоте слишком 1.000 метров, у южного основания крутой гранитной скалы, где на половине высоты видны развалины замка. Совершенно защищенный от северных ветров и обращенный на юг, Севри-Гиссар занимает счастливое положение во время зимнего сезона; но летом, спокойный воздух, нагреваемый отражением белых скал, кажется раскаленным, словно выходящим из горящей печи.
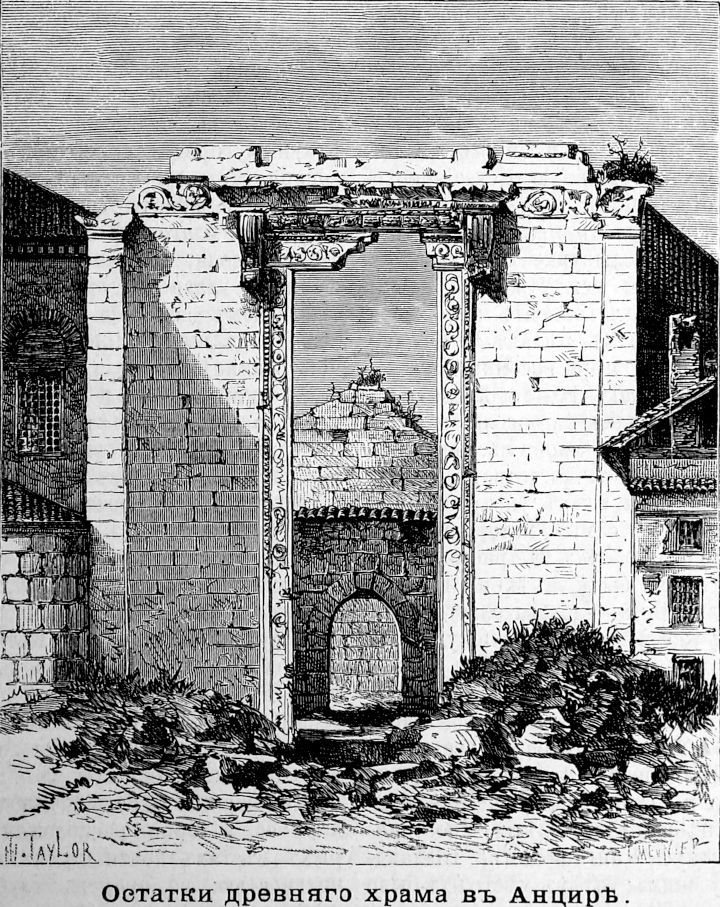
Восточная ветвь реки Сакарии, Энгури-су, орошает поля, окружающие знаменитую Энгурие или Ангору, древний галатский город, сделавшийся главным очагом западной цивилизации во внутренней Анатолии. Город некрасив; его серые дома, из необожженного кирпича, имеют вид мазанок, и окрестные холмы, не высоко поднимающиеся над равниной, представляют монотонный профиль, едва прерываемый несколькими изгибами. Самый живописный элемент пейзажа—скала черноватого трапа, на вершине которой приютилась цитадель, обнесенная тройной стеной. Ангора, Анкира или Анцира древних греков и римлян, обладает остатками прекрасного храма, посвященного Августу и Риму, и который заключен теперь в строениях мечети Гаджи-Бейрами; там находится драгоценный «анкирский памятник», то-есть надпись на двух языках, в которой семидесяти-шестилетний Август рассказывает историю своего царствования, перечисляет свои деяния, свои завоевания, здания, которые он построил. Только в 1861 году латинский текст и греческий перевод надписи были окончательно списаны со всей точностью, какой требовал исторический документ такой важности. Стены и ворота Ангоры большею частью построены из обломков римских зданий, храмов, колоннад, амфитеатров. Лев прекрасного стиля вставлен в турецкий фонтан, почти у самых ворот Ангоры, на расстоянии однодневного перехода к юго-западу, в дефилее обширных плоскогорий Гаймане. Гг. Перро и Гильом открыли драгоценный гиттитский памятник, представляющий две фигуры с тиарой на голове и с правой рукой, протянутой к западу. Над этими изваяниями высятся циклопические стены крепости, называемой туземцами Гяур-Кале, то-есть «Крепостью неверных».
Почти треть населения Ангоры состоит из армян-униатов, которые забыли родной язык и всегда говорят по-турецки, разве только в семинарии, тогда как на западе местечко Истанос, стоящее на месте того города, где Александр Великий рассек гордиев узел, сохранило древний идиом. Ангорские армяне отличаются от константинопольских большей сердечностью, более веселым и общительным характером, меньшей скрытностью в сношениях к иностранцами. Тип тоже разнится: в столице Галатии большинство армянок не имеют того смуглого цвета кожи, тех грубоватых черт, того слишком округлого лица, которые обыкновенно замечаешь у гайканских женщин Турции; большое число галатских армянок имеют белокурые волосы, голубые глаза, овальное лицо, физиономию европейцев, тип, который, впрочем, часто встречается в Пафлагонии. Г. Перро спрашивает: не следует ли видеть в ангорских армянах смешанную расу, происходящую частию от галатов, «древних французов», как говорят армяне? Точно также мусульмане Галатии, слывущие самыми кроткими и общительными между правоверными Анатолии, имеют, как говорят, небольшую долю галльской крови в жилах. Однако, прошло уже по малой мере восемнадцать веков с тех пор, как кельтский элемент окончательно распустился в населении Анкиры; часто повторяют со слов св. Иеронима, что в его время, то-есть в четвертом столетии христианской эры, язык, употребляемый анкирцами, был тот самый, которым говорили тревиры; по уже лет за триста перед тем галатские имена были заменены в крае греческими названиями,—доказательство, что галльский идиом уже исчез в ту эпоху; в галатской территории до сих пор не нашли никакой кельтской надписи, никакого памятника, который бы напоминал в каком-либо отношении отдаленное западное отечество. Ангорские армяне почти все занимаются мелочной торговлей. Отпускная торговля принадлежала в прошлом столетии иностранным негоциантам,—английским, голландским и французским; затем место их было занято греческими коммерсантами, переселившимися из Кайсарие, которые скупают и отправляют в Англию шерсть ангорских коз, почти столь же тонкую и шелковистую, как пашм кашмирских коз. Тщетно турецкое правительство пыталось передать эту торговлю в руки своих единоверцев, предоставив им, в половине текущего столетия, монополию экспорта ангорской шерсти: силой вещей отпускная торговля опять перешла к грекам. Они отправляют также и другие произведения края, особенно воск и чекери (rhamnus alaternus), желтую ягоду, окрашивающую материи в прекрасный зеленый цвет. Дважды в год негоцианты покидают свои конторы и переселяются на жительство в свои виноградники на склонах гор: в первый раз они поднимаются туда в апреле или в мае; затем во время больших жарова, спускаются обратно в равнину и снова переезжают в свои загородные дома, когда наступает пора сбора винограда. Нет такого бедного резидента в Ангоре, который не имел бы собственной дачки.
Западная ветвь Сакарии, Пурсак или Пурсаду, превосходит реку Ангору длиной течения, обилием воды, населенностью бассейна. Главный город её верхней долины, Кютайе, соперничает с Ангорой в отношении числа жителей и пользуется большими торговыми выгодами, благодаря близости Бруссы и Константинополя, а также благодаря своему положению на главном торговом тракте, перерезывающем поперег Малую Азию. Кютайе лежит на высоте 930 метров, в плодоносной равнине, которая, повидимому, была некогда дном озера, и над городом, как во всех анатолийских городах, господствует высокая крепость византийской постройки. Крепость эта одна из наилучше содержимых и всего более походит на современную цитадель; там есть, между прочим, так называемый «французский» сад, сплошь засаженный миндальными деревьями, которые были посажены пленными французами из египетской армии. От древнего Котиеум, имя которого сохранилось под турецкой формой Кютайе, не осталось никаких руин. Подобно стране, окружающей Ускюб и Нев-Шер, на западе от Аргейской горы, верхняя долина Пурсака наполнена туфом и пемзой, которые размывающим действием вод разрезаны на конические горки, расположенные в некоторых местах почти с симметрической правильностью: со времен глубокой древности жители выкопали в этих горках всякого рода пещеры, могильные склепы, жилища и святилища.
Эски-Шер или «Старый город»—тоже греческого происхождения: это—древний Дорилеум, часто упоминаемый в истории, как сборное место византийских армий, выступавших в поход против турок; Готфрид Бульонский одержал там большую победу. Эски-Шер имеет термальные воды, привлекающие большое число посетителей; но важность его зависит главным образом от соседства залежей пенки, которые находятся в нескольких часах ходьбы к юго-востоку. До настоящего времени этот город обладал монополией добывания и продажи этого драгоценного магнезита: дурное состояние дорог, большие налоги, взимаемые фиском, алчность посредников тормозили эту торговлю, никогда, однако, не прерывая ее, и, вероятно, она прекратится только вместе с истощением пластов, которое предвидится в довольно близком будущем. Рудокопы, почти все персиане, подчинены своему консулу и должны платить ему ежегодную ренту; сверх того, турецкое правительство взимает двойную пошлину в размере двенадцати с половиной процентов с ценности добываемой пенки,—пошлину, которую откупщики налогов еще увеличивают в свою пользу. Австрийские, армянские и турецкие негоцианты отправляют пенку преимущественно в Вену, но также в Рулу, в Париж, в Нью-Йорк, в Сан-Франциско, для фабрикации трубок и портсигаров. Успехи химии позволили получать подобные продукты, которые только искусные знатоки могут отличить от анатолийской пенки; тем не менее, вывоз этого минерала из Эски-Шера не переставал возрастать с начала нынешнего столетия: с 3.000 ящиков, вывозившихся около 1850 года, он поднялся в 1881 году до 11.000 ящиков, содержащих около 2 миллионов килограммов, ценностью от 4 до 5 миллионов франков.
Больших городских поселений нет в бассейне нижней Сакарии, но несколько маленьких городов рассеяны по берегу главной реки или в её боковых долинах. Аяш или Бей-Базар, откуда получаются превосходные груши, называемые «ангорскими», затем Налли-Хан следуют один за другим от востока к западу на дороге из Ангоры в Константинополь; Мудурлу (Модзени) командует горным проходом Ала-дага, на дороге из Эски-Шера в Боли; Согуд (Шугшат) или «Ива», обладающий гробницей Отмана, основателя оттоманского царства, сгруппировал свои дома у подошвы лесистых холмов, через которые пролегает дорога из Бруссы в Эски-Шер; Биледжик населен армянами, имеющими около пятнадцати шелкопрядилен; Лефке, древняя Левце, занимает, при слиянии Гек-су и Сакарии, живописный и плодородный бассейн, один из наилучше обработанных на всем Полуострове; Ада-Базар или «Рынок острова», цветущее местечко, раскинул свои загородные дома среди рощ, близ ручья, выходящего из озера Сабанджа и впадающего в Сакарию. Один из прекрасных памятников, воздвигнутых по повелению великого строителя, императора Юстиниана, мост длиной 267 метров, вполне сохранившийся, проходил некогда над главным течением Сакарии; но так как река переместилась, то теперь этот мост стоит уже над болотистыми лагунами, и грунт до такой степени повысился, что начало арочных сводов зарыто в слое аллювия. Мы находимся уже в пределах городского округа Константинополя, и охотники приезжают из столицы стрелять дичь в болотах и лесах окрестностей. В 1880 году, около двух с половиной миллионов килограммов яблок и груш были отправлены в столицу садовниками из Сабанджи; но большая часть фруктов пропадает или идет в корм домашним животным.
Главные города Анатолии на черноморской покатости, с приблизительной цифрой их населения:
Требизондский вилайет (Понт): Шабин-Кара-Гиссар, по Бранту—12.500 жит.; Самсун—15.000; Бафра, по Гамильтону—5.500; Никсар, по Бранту—5.000; Чаршамба, по Чихачеву—3.500 жит.
Вилайет Сивас (часть Каппадокии): Сивас—43.000 жит.; Токат—30.000; Амазия—30.000; Зиллех, по Чихачеву—15.000; Мерсиван—10.000; Визир-Кепри—5.000; Турхал, по Гамильтону—3.000 жит.
Вилайет Кастамуни (Пафлагония): Зафа ран-Боли, по Вронченко—25.000 жит.; Кастамуни—20.000; Чангри, по Энсворту—19.000; Искелиб, по Вронченко—13.000; Боли, по Вронченко—12.000; Тозия, по Вронченко—10.000; Синоп—9.000; Мундурлу—5.000; Таш-Кепри, по Энсворту—4.500; Эрекли (Гераклея), по Перроту—2.000; Инеболи, по Вронченко—3.000; Бартан, по Боре—2.500 жит.
Вилайет Коние (Ликаония и часть Каппадокии): Нев-Шер, по Гамильтону—20.000 жит.; Ургуб, по Барту—7.500; Кир-Шер—3.500; Ак-Серай, по Гамильтону—3.300; Маджур—3.000 жит.
Ангорский вилайет (Галатия, часть Каппадокии и Фригии): Кайсарие, по Тозеру—60.000 жит.; Ангора—28.000; Юзгат, по Тозеру—15.000; Чорум—10.000; Инджех-су—4.500; Кара-Гиссар, по Гамильтону—3.500; Каледжик, по Перроту—3.000 жит.
Вилайет Гудавендигиар (Фригия и Вифиния): Афиум-Кара-Гиссар—42.000 жит.; Кютайе, по Перроту—37.000; Эски-Шер—13.000; Севри-Гиссар, по Гамильтону—11.500; Ада-Базар, по Мутье—10.000; Биледжик, по Барту—10.000 жит.
Азиатские города и деревни берегов Босфора составляют в сущности лишь предместья европейского города, который покрыл своими мечетями и дворцами высокие берега Золотого Рога. С геологической точки зрения, полуостров, на оконечности которого построен Константинополь, принадлежит к Азии, так как он состоит из одних и тех же горных пород, которые в точности соответствуют друг другу своими выступами и бухтами; геологическая граница между двумя континентами обозначена километрах в тридцати к западу от Босфора, там, где девонская формация анатолийской системы оканчивается в виде мыса в новых образованиях, третичных и четвертичных. Но с исторической точки зрения, со времени основания Византии обладание обоими берегами должно быть приписано Европе: укрепления, порты, мечети, кладбища, места загородных прогулок, рыбацкия деревни, виллы и дачи, даже города составляют в действительности лишь пригороды или подгородные селения соседней обширной столицы, и с той и другой стороны моря существует почти совершенное соответствие как между сооружениями, возведенными рукой человека, так и между естественными чертами местности. При входе в Босфор со стороны Черного моря, маяк в Анадоли стоит как раз напротив маяка в Румели, затем батареи азиатского берега перекрещивают свои огни с батареями европейского берега, чтобы остановить русские военные корабли, если бы они попытались проникнуть в пролив. Две генуэзские башни, Анадоли-Кавак и Румели-Кавак, сторожат с той и другой стороны один из самых узких проходов морского дефилея. Прелестные города Буюк-дере и Терапия, с их домами, наклонившимися над водой, с их мраморными дворцами, тенистыми садами, массивами платанов отражаются, так сказать, со стороны Азии, в деревнях Беикос, Инджир-кой, Чибуклу, которых белые колоннады, минареты и купоны ярко блестят на зеленеющем фоне долин. Середина пролива, которую охраняют, на европейском прибрежье, громадные башни укрепления Румели-Тиссар, построенного Магометом II, защищается, на противоположном мысу, крепким замком Анадоли-Гиссар, сооруженным по повелению того же завоевателя. В этом месте съузившиеся воды морского потока колышутся, как река, и, кажется, ждут моста, который Микель Анджело хотел перекинуть из одного замка в другой между двумя континентами. Но если инженеры должны обесславить Босфор какой-нибудь чудовищной железной трубой, подобной стольким другим уродливым сооружениям этого рода, которые портят прекраснейшие виды и картины природы, то можно только пожелать, чтобы их пагубное дело замедлилось как можно долее.
Непосредственно к югу от Анатолийского замка открывается маленькая, обросшая мягкой муравой, долина, где извивается ручей, в тени ясеней, платанов и сикомор: это—«долина Небесной воды», которую иностранцы обыкновенно называют «азиатскими Сладкими Водами», по уподоблению европейским Сладким Водам, любимому месту загородной прогулки стамбульских дам, которые приезжают туда полежать под тенистыми деревьями, вокруг журчащего фонтана. Азиатские предместья Константинополя начинаются у мыса, ограничивающего долину Сладких Вод. Кандили, Вани-Кой, Кулели, Ченгелькой, Бейлер-бей, Иставрос, Куз-Гунджук, Скутари (Ускудар) следуют один за другим по прямой линии на пространстве десятка верст, противополагая городам восточного берега соответственный ряд дворцов и мечетей. Более ста тысяч жителей населяют этот высокий берег, группируясь в отдельные кварталы, смотря по национальности,—турки, греки и армяне. Скутари, азиатское предместье Царьграда, мыс которого приходится как раз против Золотого Рога, один заключает в себе более половины этого населения, и турки составляют там огромное, большинство. Забывая греческое происхождение древнего Хризополиса, они видят в Скутари священный город: там крайний мыс их отечества; туда, как предсказывают их пророчества, они вернутся, когда их прогонят из Стамбула. В вышине, на холме, виднеются большие кипарисы, которые осеняют, может быть, несколько миллионов их мертвых, погребенных на прахе других миллионов трупов, фракийских и византийских. До сих пор европейские нововведения еще не изменили оттоманского города. Многочисленные улицы вполне сохранили свой оригинальный характер, ничто в них не переменилось: ни мраморные фонтаны, покрытые арабесками и защищенные широкой выгнутой крышей, ни лужайки с решетчатыми окнами, где несколько могильных камней с изваянными тюрбанами показываются среди кустарника, ни деревянные дома, два этажа которых выступают навесом, скрывая все свои отверстия под трельяжем в форме ромба, ни извилистые, поднимающиеся в гору дороги, над которыми платаны распростерли свои широкия ветви. Гора Бульгурлу, господствующая над Скутари, представляет прекрасную обсерваторию, откуда можно обозревать грандиознейшую панораму Константинополя, Босфора и Мраморного моря.
На юго-восток от Скутари цепь предместий продолжается громадными казармами и кладбищами до мыса, где стоит Кади-кой или «Село судьи», древняя Халкедония. Здесь уже началось европейское вторжение, постепенно преобразующее вид города: постоянное население состоит преимущественно из греков; сотни константинопольских негоциантов, особенно англичан, имеют загородные дома в тенистых рощах Кади-коя; в продолжение дня пароходы беспрестанно ходят взад и вперед между столицей и её азиатским предместьем. Лесистые широкия аллеи мыса, который выдвигается на юг, ограничивая естественный порт, соседство архипелага Принцевых островов, куда каждый праздничный день приводит тысячи посетителей, великолепие страны, которая развертывается от входа в Босфор и от стрелки сераля до отдаленных берегов Мраморного моря, наконец, защита, которую Скутарийский холм представляет против северных и северо-восточных ветров,—все это способствует возрастанию из года в год европейской колонии. В равнине, отделяющей Кади-кой от главного Скутарийского кладбища, собирались некогда армии пади-шаха для его азиатских походов; теперь там находится, рядом с «величайшей в свете казармой», станция Гайдер-паша, исходный пункт железной дороги, которая идет на севере вдоль Исмидского залива и которая должна продолжиться современем до Сирии, Вавилонии и в Индию. Она касается маленьких портов Маль-тепе, Корталь, Пендик, откуда отправляют плоды первого сбора в Константинополь. Напротив, на противоположном берегу залива, Карамуссаль посылает в столицу первые вишни. Железная дорога проходит через Габиз (Гибисса), где умер Аннибал: курган, осененный тремя кипарисами, хранит, говорят, пепел великого полководца.

Исмид или Искимид, древняя Никомедия, построенная «сыном Нептуна», и которую Диоклетиан хотел сделать столицей империи, занимает великолепное положение на восточной оконечности залива того же имени, на передних террасах высокого холма, обращенного на юг и изрезанного при основании оврагами, где сквозь листу деревьев проглядывают группы разноцветных домов. Античный акрополь или вышгород, с эллинскими фундаментами прекраснейшей работы, поддерживающий римские и византийские башни и современный императорский киоск, господствует над городом, верфями и портом, куда приходят мелкие суда грузить лес и зерновой хлеб. Никомедия может быть рассматриваема географически, как истинный порт реки Сакария, от которой она отделена невысоким порогом, на западе озера Сабанджа; удивительно, что город, занимающий такое счастливое положение, как пункт скрещения дорог из внутренних областей и как место отправки товаров морским путем, имеет такую незначительную торговлю: никакой факт не свидетельствует более красноречиво о режиме угнетения, который тяготеет над страной и парализует развитие и эксплоатацию её экономических рессурсов.
Гемлик занимает положение, сходное с положением Исмида; расположенный на восточной оконечности залива, который глубоко вдается в материк, и на последних склонах холмов, обращенных к югу, он также окружен прекрасными тенистыми рощами и находится в легком сообщении с долиной Сакарии через низменность, заключающую воды Никейского озера. Гемлик ведет, подобно Никомедии, небольшую розничную торговлю и строит мелкие суда незначительной вместимости. Исник или Никея, имевший некогда свой «флот и адмиралтейство» там, где ныне стоит маленькое греческое местечко Гемлик, теперь не более, как бедная деревня, затерянная среди своей двойной римской ограды, и почти совершенно покидаемая жителями в сезон господства лихорадок. «Город Победы», резиденция царей Вифинии, место рождения Гиппарха, в настоящее время состоит из какой-нибудь сотни убогих домишек, да из груд обломков, на половину скрытых кустарником. Издали, однако, можно подумать, что Никея большой город: её высокие стены с большими башнями по бокам довольно хорошо сохранились; но, подойдя ближе, замечаешь кучки кустарников, растущих между брешами. Мечети сломаны, от римских памятников не осталось ничего; единственная достопримечательность—это маленькая греческая церковь, заключающая грубо нарисованную картину, изображающую Никейский собор, который провозгласил в 325 году почти все члены веры, известные под именем «Символа Апостолов». Кроме того, Никея—один из городов, прославленных в истории крестовых походов: в 1096 году армия крестоносцев оставила более двадцати тысяч трупов в соседних ущельях; в следующем году она овладела Никеей, блокируя ее при помощи флотилии, перевезенной по сухому пути в Исникское озеро.
Столица вилайета Гудавендигиар, Брусса,—один из больших городов Анатолии; вместе с тем это один из красивейших городов Малой Азии. Очень обширный и разделенный на особые кварталы, отделенные один от другого небольшими долинами, осененными платанами и орошаемыми живыми водами, город господствует над плодоносной равниной своими домами с красными крышами, позолоченными куполами и белыми минаретами; нет ни одной группы строений, которая бы не была украшена зеленью: Брусса в одно и то же время город и парк. Могучия предгорья Олимпа, исчерченные сходящимися складками, контрастом своей темной зелени делают более ярким блеск зданий; непосредственно над городом тянется пояс каштанов, затем следуют леса разнообразных древесных пород,—лещины, грабины, бука и дуба; еще выше сосны и другие хвойные опоясывают гору черным кругом. Равнина, простирающаяся у подошвы террас города, представляет огромный сад, где тропинки и дороги извиваются в тени гигантских орешников; жимолость (каприфолий) и жасмин перемешиваются своими гирляндами с ветвями кипариса и фруктовых дерев.
Брусса, сохранившая доселе, в слегка измененной форме, имя Прузиум, которое ей дал её основатель, царь вифинский Прузиас, не имеет уже никаких остатков римской древности, но в ней еще уцелели, несмотря на землетрясения, низвергнувшие её здания и разрушившие или покосившие её минареты, некоторые драгоценные остатки той эпохи, когда она была столицей Оттоманской империи; с 1328 года она подпала под власть османских турок, и здесь-то Орхан «Победоносный» получил титул падишаха османлисов. Брусса замечательна в истории, как город, где оттоманские турки достигли сознания своей силы, где, по выражению одного писателя, «племя превратилось в нацию, и где глава орды сделался главой империи». Наследовав своему соседу, городу Енишеру, как резиденция султанов, Брусса была заменена, в свою очередь, Адрианополем, затем Константинополем, но она до сих пор осталась высокочтимым градом, и правоверные с благоговением посещают кенотаф (пустую гробницу) Османа, равно как могилы Магомета II и других первых государей турецкого царства. Между «тремя стами шестьюдесятью пятью» мечетями Бруссы, которые почти все потрескались от землетрясений, многие обращают на себя внимание богатством и изяществом своих эмальированных фаянсов или изразцов; одна из них, Ешиль-Джами или «Зеленая мечеть», была реставрирована в примитивном вкусе персидского искусства одним французским художником. Брусса—торговый центр и даже промышленный город, благодаря культуре тутового дерева, а также мукомольным заводам, приготовляющим муку для вывоза; но с 1856 года болезни, появившиеся на шелковичном черве, уменьшили на две трети шелковичное производство Гудавендигиарского вилайета; средняя ценность сбора шелка, простиравшаяся прежде от 28 до 50 миллионов франков в год, не достигает теперь даже 10 миллионов.
Шелковичное производство провинции в сезон 1880-1881 гг.: 433.040 килограммов. Шелка-сырца: 928 кип, или 83.520 килограмма; ценность шелка и остатков: 9.049.500 франк..
Фабрики, числом около 45, прядут шелк почти исключительно для Лиона; вообще торговые сношения Брусса поддерживает единственно с Францией, через посредство армянских, греческих и турецких домов. После разведения шелковицы самая важная культура в этом округе—возделывание винограда. Производство виноградников в прибрежной области залива Гемлик до 40 километров расстояния от берега: 780.000 килограм. черного и 10.600.000 килограм. белого винограда. Виноград идет преимущественно на приготовление густого сока или сиропа, употребляемого для варенья: небольшая часть собираемого винограда превращается в вина греческими негоциантами.
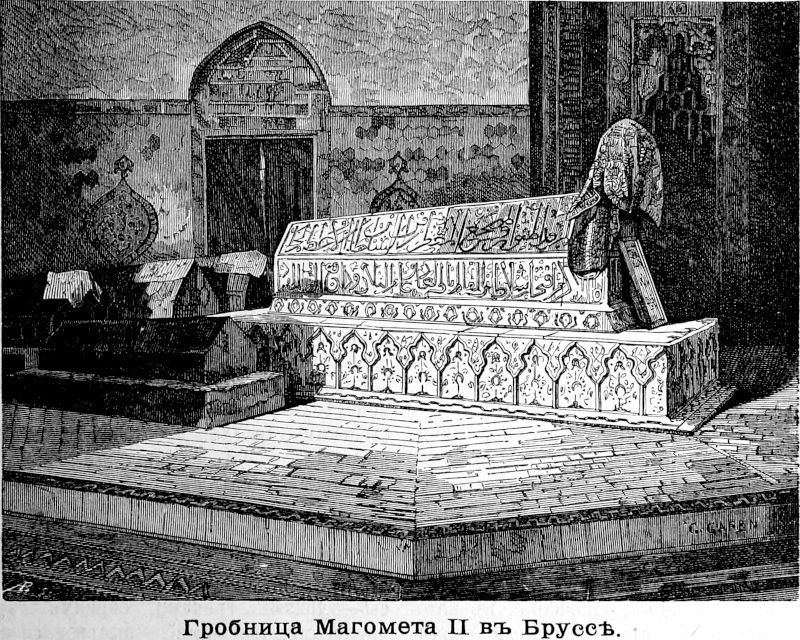
Европейская колония Бруссы состоит менее, чем из сотни лиц, но она увеличивается временно в мае и в сентябре, в месяцы, рекомендуемые для пользования минеральными водами. Источники Чекирже, железные и серные, необыкновенно обильные, представляют величайшее разнообразие состава и целый ряд всевозможных температур, от 35 до 80 градусов Цельзия. В середине лета сезон лечения прерывается сильной жарой; зажиточные местные жители и приезжие посетители удаляются в виллы, рассеянные на склонах Олимпа, или отправляются на берег моря, в Муданию, в Арнаут-кой и в другие места. Мудания, место дачной жизни для обитателей Бруссы, есть в то же время их главный экспедиционный рынок; но рейд открыт ветрам с моря, и во время северо-восточных бурь корабли уходят в порт Гемлик, как более безопасное место. Спекулянты предлагали построить искусственный порт перед Муданским берегом, и даже был уже сломан, в соседстве, греческий театр древней Апамеи, для того, чтобы строительные материалы этого здания употребить для сооружения мола, оставшагося почти безполезным. Более того—железная дорога, длиной в 42 километра, построенная с 1875 года между Муданией и Бруссой, никогда не была открыта для публики; ржавчина испортила машины, рельсы и шпалы растащены крестьянами и дожди размывают насыпи. Пример заботливости, какая прилагается в деспотических странах к развитию общественного блага!
Долина реки Сусурлю-чай, самого большого притока Мраморного моря, проникает далеко внутрь материка; равнины, орошаемые этой рекой, принадлежат к плодороднейшим местностям Малой Азии и производят в изобилии мак, табак, пеньку; склоны холмов покрыты зарослью дубов кина, жолуди которого (собственно их чашечки) Смирна отправляет за границу. В этой долине есть значительные местечки и даже города. Близ озера, откуда выходит исток, уже довольно полноводный, реки Сусурлю, находится город Симау, в соседстве с древней Анкирой Фригийской. Ниже, недалеко от большой излучины, которую образует река, изгибаясь к северу и северо-востоку, группируются жилища местечка или кассабы с славянским именем Богадич или Богадица; затем, на западной стороне реки, в широкой равнине, некогда озерной, виднеется местечко Балакесри или Балак-гиссар, с очень оживленными ярмарками; далее следует Муалич, расположенный на островообразном повышении почвы, в низменной местности, где истоки озер Маниас и Абуллион соединяются с главной рекой. Муалис—большое местечко, обогащаемое обильными урожаями, которые дает его аллювиальная равнина, но имеющее нездоровый климат по причине вредных испарений, поднимающихся с соседних болот. Абуллион, древняя Аполлония, совершенно покрывает своими живописными домами, тесно скученными, островок озера, соединенный с твердой землей качающимся извилистым мостом, который осеняют передния ветви платанов. Прежде проходом командовал византийский замок, построенный частию из остатков античных зданий. Население этого города рыболовов и моряков состоит почти исключительно из греков. Поселившиеся в окрестностях казаки тоже эллинизировались.
От пышной Кизики, прославленной древними, остались лишь незначительные обломки, и очищенные от мусора подземные строения старинных зданий не отличаются той прекрасной греческой работой, какой мы восхищаемся при раскопках в Пергаме, в Эфесе, в Милете: турки называют эти руины Баль-Киз или «Медовая девушка»,—название, в котором Гамильтон видит невольный каламбур, происходящий от сокращения греческого имени Палайя-Кизикос или «Старая Кизика». Эллинский город занимал великолепное местоположение на южном берегу гористого острова, превратившагося теперь в полуостров, и имел два хорошо защищенные от ветров порта, открывавшиеся один к Геллеспонту, другой к Босфору; пролив занесло илом, и вместо двух мостов, соединявших, во времена Страбона, остров с твердой землей, образовался перешеек, шириной более километра. В настоящее время восточный порт Кизики заменен портом Пандермоса или Панормоса, маленького города, населенного турками, греками и армянами, куда регулярно заходят пароходы из Константинополя. Западному порту наследовал порт Эрдек, древняя Артакея, окруженная виноградниками, которые производят превосходные вина, лучшие в Анатолии. Напротив, на континентальном берегу, большое местечко Айдинджик показывает многочисленные древние надписи, найденные в развалинах Кизики; недалеко оттуда находятся ломки мрамора, откуда добывались плиты, которыми обшивали гранитные здания соседнего города. Мусульмане, эмигрировавшие из «Долины роз», в Балканах, направились в большом числе к Кизике и её полуострову. В окрестностях разработывается очень богатое месторождение борацита, залегающего целыми глыбами.
К западу от Эрдекского залива и от группы Мраморных островов, на морском берегу, по большей части болотистом, попадаются лишь бедные деревни. Единственный город, Бига, лежит километрах в двадцати от берега внутри материка, на том месте, где река Коджа-Чай или Граник выходит из области гор, и где Александр Македонский одержал свою решительную победу при переправе через реку. Азиатский берег Геллеспонта так же мало населен. Ламсаки, древняя Лампсака, которую персидский царь Ксеркс дал изгнаннику Фемистоклу, чтобы доставлять ему столовое вино—теперь маленькое местечко, затерянное среди масличных рощ и виноградников; Абидос не сохранил даже никаких руин, и путешественник видит в нем только казармы, да батареи, подобные стольким другим военным веркам, защищающим вход в пролив. Дарданельский замок, центральный пункт всех этих укреплений, стоит на южном берегу пролива, подле устья Чинарлика, древнего Родиуса, маленькой реки, текущей в тени ив и платанов. Город, который населен людьми всякой расы—турками, греками, евреями, армянами, черкесами, цыганами,—выстроился на северной стороне крепости, между рекой и Геллеспонтом, и часто экипажи всех торговых наций Европы еще более увеличивают царствующее здесь смешение языков. На большей части домов, окаймляющих морской берег, развеваются флаги различных государств, так как Кале-Султание или «Замок султана», как оффициально называют город Дарданеллы, есть как бы входные ворота Константинополя, и все суда обязаны бросать здесь якорь, прежде чем подниматься к столице. Этому городу дают также название Чанак-Калесси или «Замок гончаров», по причине существующих там заводов, выделывающих глазированную глиняную посуду, по большей части причудливых форм. Окрестные горы изобилуют металлоносными залежами, составляющими в большей части монополию правительства.
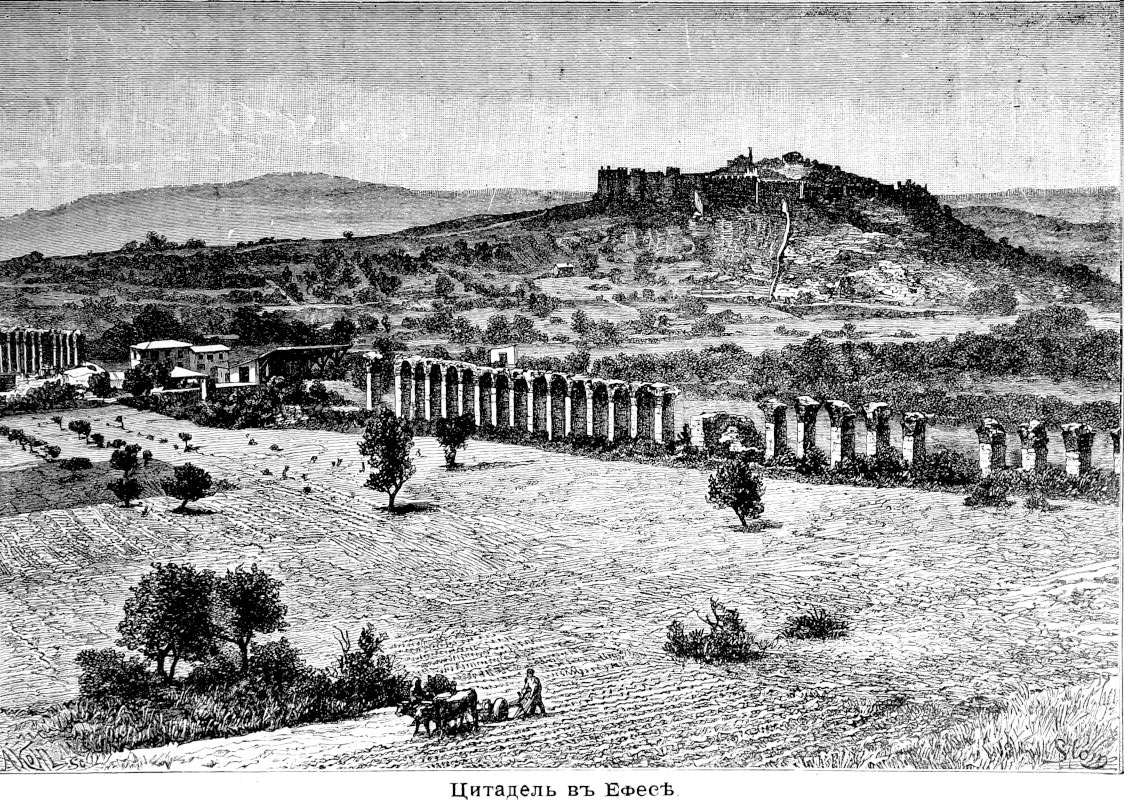
К югу от Дарданельского замка пролив съуживается; на мысе виднеются правильные откосы акрополя древнего Дардануса, поломанные мраморы которого рассеяны по соседним тропинкам. Далее, большое село Эрен-Кой или Итгельмез, сплошь населенное греками, несмотря на его турецкия названия, стоит на высокой террасе, осененной дубами и орешником, и уже отсюда виднеются в отдалении Троянская равнина и конусообразные курганы, воздвигнутые на окрестных холмах. Долина, где бежит ручеек, в котором Шлиман предполагает реку Симоис, отделяет Эрен-Койские высоты от небольшой цепи холмов, из которых последний, господствующий над болотистыми равнинами реки Мендере, есть знаменитая терраса Гиссарлик или «терраса маленького замка», отожествляемая большинством археологов с новым Илионом; напротив, сейчас названный счастливый раскапыватель древностей видит в этой террасе, вопреки свидетельству Страбона, Илион Гомера, и нет ничего удивительного, что, совершив такия обширные работы по очистке мусора и раскопке холма, он склонен преувеличивать ценность своих открытий: приближаясь к Гиссарлику, можно подумать, при виде этих огромных траншей, этих исполинских груд обломков, что находишься у подножия какой-нибудь крепости, изрытой неприятельскими бомбами и гранатами.
В этом месте твердая горная порода прикрыта обломками, общая толщина которых около 16 метров (7 с половиной сажен), и которые расположены слоями, относящимися к различным векам. Остатки шести следовавших один за другим городов скучены здесь в одну громадную земляную насыпь. Верхний слой принадлежит историческому периоду греческого мира; ниже лежит очень тонкий пласт, где найдены вазы лидийского происхождения; затем следуют два слоя, которых дома, невзрачные на вид, были построены из маленьких камней и вымазаны внутри глиной. Еще ниже находилась, как полагают, Троя Илиады, город, истребленный пламенем, и пепел которого заключал тысячи предметов, свидетельствующих об эллинском происхождении троянцев и об их специальном культе богини Афины. Наконец, нижний слой указывает, по мнению археологов, на пребывание народа, предшествовавшего даже легендарному периоду истории. Судя по форме предметов, найденных в этих развалинах, пожар, воспетый Илиадой, имел место около трех тысяч шестисот лет тому назад, в эпоху чистой меди и богов с лицами животных. Однако, Гиссарликская терраса, занимающая около 79 гектаров, представляет слишком узкое пространство, чтобы город, построенный в этом месте, мог быть когда-либо значительным и крепко осевшим; кроме того, на ней нет воды: едва легкое просачивание влажности виднеется у подошвы холма во время дождя. По мнению Лешевалье и Форхгаммера, местоположение древнего Илиона следует искать на холме Бунарбаши или «Голова воды», на юге аллювиальной равнины: там стоит высокий холм, сплошь усеянный разбитыми камнями, который господствует на западе над течением реки Мендере неодолимыми и неприступными кручами, цоднимающимися исполинской стеной в 100 метров высоты; длинные пологие скаты, где рассеяны домишки нынешнего Бунарбаши, спускаются на север к равнине; наконец, у основания скал вытекает «сорок ключей», соединяющихся сначала в два ручья, за тем в один поток, на который Лешевалье и указывает, как на истинный Скамандр Илиады. Глубоких раскопок еще не было сделано в Бунарбаши, а найденные до сих пор обломки зданий не принадлежат к прото-эллинской древности.
Существует еще третья Троя, та, которую построил Александр Македонский на одном мысе Эгейского моря, лежащем напротив серого Тенедоса; на нее также долгое время смотрели, как на бывшую резиденцию Приама, и имя, которое она носит, Эски-Стамбул или «Старый Константинополь», свидетельствует об иллюзии, заставлявшей искать во всей стране большой город, существование которого восходит к первым временам истории. Александрия-Троас или Александрова Троя представляет в самом деле импонирующие руины, фрагменты городских стен, остатки терм, дворцов, храмов, водопроводов; в соседстве один гранитный холм иссечен каменоломнями, где еще видны колонны, подобные тем, которые были открыты при раскопках в Бунарбаши и Гиссарлике; одна из колонн-монолитов имеет слишком 11 метров в длину. В наши дни главные центры населения Троады или Троянской области образовались на самом углу континента, в островном пространстве, ограниченном с одной стороны рекой Мендере, с другой каналом Безикским. На юге большая греческая деревня Нео-Хори, по-турецки Ени-Кей, приютилась на вершине крутого утеса; далее на севере, на оконечности небольшой цепи высот, лежит Ени-Шер или «Новый город», сменивший античную Сигею; наконец, у подошвы хребта, указываемого издали длинным рядом ветряных мельниц, выстроенных на гребне, крепость и городок Кум-Кале или «Замок песков» занимают низменный мыс, отделяющий устье Мондере от открытого моря. Обширные кладбища рассеяны в равнине, и могильные курганы, с которыми совершенно сходны по виду и некоторые из естественных трахитовых конусов, нарушают своим резким выступом однообразие горных склонов и вершин. Эти курганы, к которым легенда приурочивает имена Ахилла, Патрокла, Антилоха, Аякса, Гектора, вероятно, не имеют никакого права на эти названия, так как предметы, открытые в них раскопками, восходят не далее, как к македонской эпохе или к императорской эре. Самый высокий из искусственных холмов, Юджек-тепе, горделиво стоящий на плато, которое господствует с востока над Безикской бухтой, был некогда посвящен пророку Илии, и каждый год греки из окрестных мест отправлялись туда на богомолье. Когда Шлиман приехал в Юджек-тепе делать свои раскопки и стал взрывать святую землю, велико было негодование верующих; однако, они не посмели остановить археолога; только религиозные празднества с той поры прекратились, и теперь никто уже не приходит поклониться святому на профанированной почве.
Города покатости проливов и Мраморного моря, с их приблизительным населением:
Скутари и другие константинопольские предместья на берегах Босфора—110.000 жит.
Брусса—76.000жит.; Баликерси (Киперт)—12.000; Дарданеллы, Кале-Султание или Чанак-Калессн (Баттус)—9.000; Маниас (Гамильтон)—7.500; Гемлик (Киперт)—6.500; Панормос (Перро, Гамильтон)—6.000; Эрдек или Артакия (Перро, Гамильтон)—6.000; Бига (Киперт)—6.000; Богадич (Гамильтон)—5.000; Исмид или Никомидия—3.000; Абуллион (Перро)—2.700; Мудания—2.000; Кум-Кале—2.000 жит.
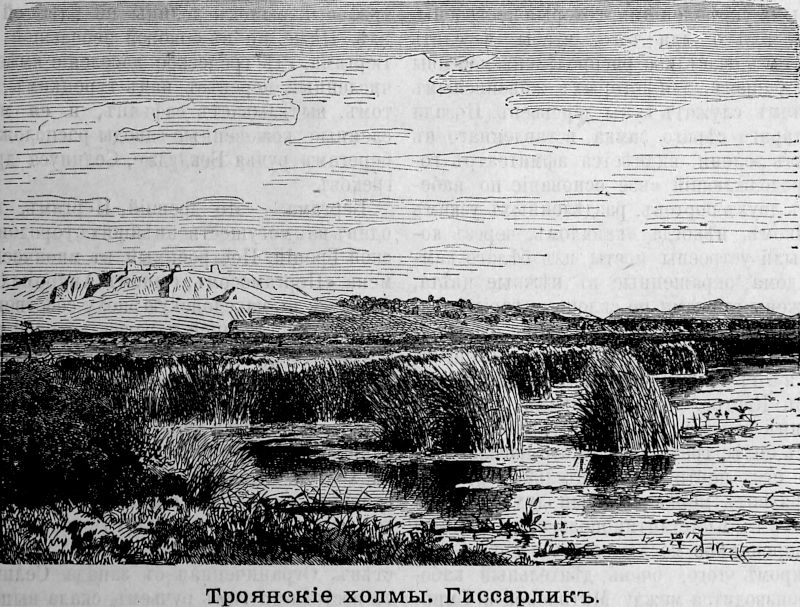
Баба-Кале или «Замок отца», на остром углу южного мыса Троады,—живописный городок, расположивший свои серые дома ярусами по крутому голому склону, где нет ни одного деревца; в небольшом от него расстоянии к востоку стоит, на крутой скале, древний Ассус, «совершенный идеал греческого города», как выразился исследователь Лик, говоря об амфитеатре его трахитовых стен, отлично сохранившихся; из театра собравшийся народ любовался чудной картиной расстилающагося внизу моря и высящейся напротив громады митиленских гор. Эдремид, Адрамитти греков, лежащий в аллювиальной равнине, над которой господствуют с северной стороны продолжения горы Иды, остался многолюдным городом, но потерял свой порт, занесенный илом горных потоков, которые со всех сторон сходятся к соседней бухте. Важнейший торговый город на морском берегу—Кидония греков, Айвали турок,—то-есть, на обоих языках, «Город квитов или айв»,—построенный на берегу бухты, которую архипелаг «Ста островов» отделяет от Эдремидского залива, и соединенный портом с островным городом Мосхинизия. Населенный преимущественно греками, этот город много пострадал за национальное дело во время войны за независимость; в 1821 году турки разрушили его и перебили жителей. Долго после того он оставался почти пустынным, но, наконец, другие греки вновь отстроили его, и теперь он отличается, как и в былое время, между эллинскими городами побережья своей инициативой, любовью к образованию, торговой деятельностью. Нигде в Малой Азии не увидишь более поразительного контраста между двумя расами, оспаривающими одна у другой преобладание. Верстах в пятнадцати к юго-востоку от Айвали, недалеко от моря, недавно стоял турецкий город Айасмат, жители которого сделались, в 1821 году, палачами своих соседей айвалиотов и заняли их место, как владельцы виноградников и масличных рощ. В наши дни Айасмат, пришедший в упадок, состоит из каких-нибудь двух десятков лачуг, рядом с обширным кладбищем, тогда как греческие жители Кидонии устроили свое население и выкупили свои прежния имения. Так как порт частию обмелел, то негоцианты прорыли канал в 4 метра глубиной, дающий доступ кораблям, которые приходят грузить деревянное масло, вина, изюм.
Порт Митилены, ведущий большую торговлю с Айвали и другими рынками материка, лежит на западном берегу Митилены или Лесбоса, знаменитого острова, где родились Сафо, Алкей, Терпандр, Арион. Столица этой земли поэтов, этого Золотого острова, занимает одно из приятнейших местоположений. Невысокий холм, бывший некогда островком, скрывает наполовину город; гребень его, до половины ската, покрыт неправильными средневековыми укреплениями, которые построены, кажется, только для того, чтобы веселить взор,—так счастливо распределены массивы стен и башен, для которых живописным контрастом служат купы деревьев. Позади этого старого серого замка, вставленного в рамку из зелени, виднеется афмитеатр города, продолжающий свое основание по набережным двух портов, разделенных узким перешейком, некогда «каналом, через который были устроены мосты из белого камня»; дома, окрашенные в нежные цвета, расположены этажами по склонам горы, словно ряд ступеней; где прекращаются строения, начинается оливковый лес, над которым господствуют кручи отвесных скал. Митилени или Кастро, как его прежде называли по причине его замка (кастро—крепость), заключает более трети лесбийского населения; у жителей его, почти исключительно греков, сильно развит меркантильный дух, и суда их возят в Константинополь вина, винные ягоды, деревянное масло, деготь и другие продукты; кроме того, очень деятельный каботаж производится между Митиленой и Смирной. К сожалению, большие корабли должны становиться на якорь на рейде, в некотором расстоянии от берега; только суда незначительного водоизмещения могут подходить к самой пристани. Правда, остров имеет две несравненные гавани, порт Масличных рощ и порт Каллони, настоящие внутренния моря, сообщающиеся с открытым морем лишь узкими проливами, но они находятся не на пути следования судов, ходящих между Смирнским и Эдремидским заливами; поэтому торговый порт Лесбоса должен был основаться на менее удобной бухте западного берега. Митилени сохранил лишь кое-какие следы античных памятников; лучшая его римская руина—водопровод, перекинувший свои высокие аркады через глубокий овраг; но в различных частях острова видны остатки храмов и акрополей.
Между Лесбосом и Смирнским заливом, залив Чандарлик, опасный для мореплавателей, вдается внутрь материка и принимает в себя речку Бакир, Каик древних, образующую при впадении маленькую дельту. Её долина, относительно очень густонаселенная, отличается своей промышленностью. Киркагач или «Сорок деревьев», в бассейне, лежащем при начале долины, окружение полями хлопчатника, которые дают лучшее в Анатолии волокно, утилизируемое отчасти в нескольких местных ткацких мастерских. Сома, над которой господствует старая византийская крепость, тоже значительный город, центральный рынок долины по хлебной торговле. Ниже, но в боковой небольшой долине, Бергама, где греческое население имеет уже численный перевес над турецким элементом, выделывает сафьян, и её многочисленные кожевенные заводы расположены пи берегам ручья Боклудже, Селинуса древних греков.
Бергама—это древний Пергам, некогда один из могущественнейших городов азиатской Греции. Построенный в мифические времена «Пергамосом, сыном Андромахи», он сделался в македонскую эпоху собственностью Лизимаха и столицей царства, которое династия Атталидов завещала римлянам: храм, называемый «базиликой», и другие памятники, остатки которых до сих пор возбуждают удивление, относятся к этому периоду. На 300 слишком метров над равниной возвышается холм акрополя, очень крутой с трех сторон и представляющий доступный скат только с южной стороны, где извивается тропинка, поднимающаяся между развалинами стен. Ограниченная с запада Селинусом, с востока другим ручьем, скала вышгорода, где брызжет фонтан, высечена в виде вертикальных стен, которые продолжаются крепостными стенами, соединяющимися в многочисленную ограду; на южном фасе холма дворцы и храмы, расположенные рядами один над другим, в виде амфитеатра, соединяли нижний город с акрополем, тоже наполненным памятниками зодчества, обломки которых лежат на почве, покрытые землей или обросшие кустарником. В городе видны остатки храмов, набережных, мостов и двойной туннель, длиной около 200 метров, в котором проходят воды Селинуса. На северо-востоке, у основания высот, стоящих напротив вышгорода, ристалище, театр, амфитеатр, которые в старину украшались, с большим блеском, указывают местоположение Асклепиона, древнего города ванн и увеселений, славившагося в греческом мире здоровостью воздуха и обилием вод. Наконец, Пергам обладает также памятниками, предшествующими историческому периоду: это—галлереи, высеченные в скале, которые служили жилищами и святилищами, и четыре могилки, из которых одна состоит из двух рядом стоящих конусов, окруженных широким рвом; под этими конусами, по преданию, погребены основатель города и его мать Андромаха. Один из могильных курганов, Маль-тепе или «Холм сокровищ», стоящий на юге, близ дороги в Дикели, возвышается на 32 метра над равниной; раскопки доказали, что эта горка была перекопана, чтобы служить могилой государям из династии Атталидов.
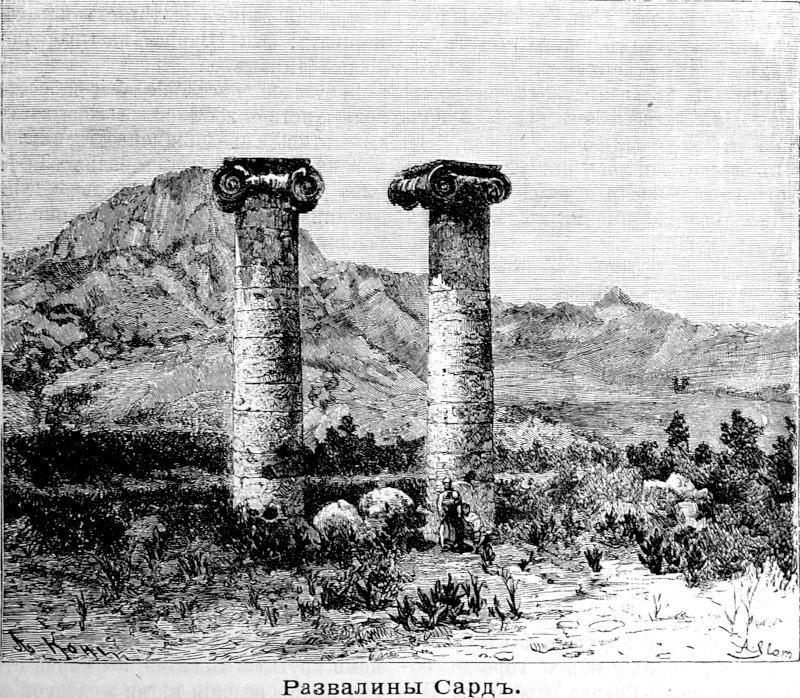
До 1878 года знали лишь небольшое число древностей, извлеченных из Пергамского акрополя: заметили барельефы, надписи, фрагменты статуй в византийских валах, но не давали себе труда вынимать их из стен, где они были крепко вделаны, и думали, что почти все разрозненные мраморы были подобраны и снесены в печи для обжигания извести, чтобы быть превращенными в цемент. Когда же разные признаки открыли инженеру Гуману существование античных изваяний, представляющих высокий интерес, германское правительство выхлопотало у Порты разрешение приступить к подробному исследованию акрополя, и в продолжение четырех лет под-ряд отряды рабочих, под руководством Конце и других ученых, раскапывали верхнюю террасу: около половины площади, занимающей пространство в семь с половиной гектаров, было изрыто во всех направлениях, и план зданий, венчавших холм вышгорода, известен теперь в подробности. На южной стороне высился колоссальный жертвенник, имевший слишком 40 метров длины у основания и окруженный колоннадами; около середины акрополя, на краю западного крутого откоса, стоял храм Минервы Воительницы, и несколько других храмов группировалось вокруг этого святилища, покровителя города; далее, на самой возвышенной части холма, римляне воздвигли Августеум, а северный выступ горы заканчивался храмом Юлии. Вокруг жертвенника и храма Минервы раскопки обнаружили драгоценнейшие барельефы, составляющие теперь, вместе с олимпийскими барельефами, славу и гордость берлинского музея; около двухсот статуй и изваянных пьедесталов лучшего периода греческого искусства были извлечены из массы развалин; найден также великолепный фриз длиной около сотни метров, представляющий гигантомахию, отчаянную борьбу титанов с богами; во всей эллинской скульптуре нет героического сюжета, разработанного с большим разнообразием замысла, с большей силой в концепции целого, с большим искусством в исполнении; эти титаны, как полагают, символизировали галлов, которые были побеждены близ Пергама в 168 году до Р. X.. Другое открытие, почти столь же интересное—это находка греческого дома, построенного за две тысячи лет до нашего времени и еще сохранившего внутреннее распределение комнат и стенную живопись. Отныне имя Пергама будет пользоваться в истории искусства такой же славой, какую оно уже приобрело в истории наук, благодаря знаменитым уроженцам этого города, как Галиен, и драгоценным манускриптам, написанным на «пергамских кожах» (пергамент).
Дорога длиной в 28 километров, построенная Гуманом, исследователем руин, ведет из Пергама в его новый порт, Дикели, сделавшийся в несколько лет цветущим греческим городком. Чандарлик, на северном берегу залива того же имени, приходит в упадок с тех пор, как перестал быть отпускным портом долины Бакир-чай. По другую сторону залива, простая деревушка, Ламурт-кой, указывает местоположение древних Кум (Киме), матери других Кум, италийских, где Энеида поместила вход в ад. Далее, на морском берегу, при рейде, открытом северным ветрам, основалась Енидже-Фокия или «Новая Фокея»; жителя её, большинство которых греки, строят мол для защиты кораблей от ветров.
Караджа-Фокия ила просто Фокия, Фуджес или Фоглеры, есть знаменитая Фокея, смелые выходцы которой основали Марсель и столько других колоний. Старая Фокея, скромный городок в сравнении с её богатой дочерью, не уступает последней по красоте местоположения, а её естественный порт гораздо обширнее марсельского. Группа островов, Перистериды или «Голуби», защищают рейд с северной и северо-западной стороны, оставляя судам только два входа: северный, не глубокий, и южный, широкий и доступный самым большим купеческим кораблям; мыс, занятый разрушенной цитаделью, защищал некогда вход в порт. Круглый бассейн, который кажется запертым со всех сторон высотами острова и твердой земли, сам делится на два второстепенных порта, на севере и на юге полуострова, на котором расположены развалины крепости и собственно город. Еще недавно эта скала была островом; но обломки, падавшие с соседних стен, выбрасываемый в море балласт кораблей и мусор всякого рода, наносы ручейка, может быть, также, как утверждают туземцы, медленное поднятие почвы осушили пролив, и теперь стоят дома там, где прежде становились на якорь суда. Новый квартал, населенный почти исключительно греками, вытянулся полукругом на берегу, вдоль северной бухты. Масличные рощи, в перемежку с кипарисами, занимают овальную равнину, которая составляет как бы продолжение залива и окружена со всех сторон голыми каменистыми горами, известковыми на юге, вулканическими на севере. На юго-востоке видны остатки города, бывшего акрополя Фокеи, господствующие над другой гаванью, которую Смирнский залив выделяет из себя внутрь материка: это—Вария, называемая турками Хаджи-Лиман.
Греческое население Фокеи, составляющее большинство жителей, выказывает меньше инициативы и предприимчивости, чем их обыкновенно обнаруживает эллинская раса. Причина тому, без сомнения, в условиях труда здешних греков: почти все они солепромышленники, добывающие соль из соленых болот, залегающих на берегу моря, к северу от Гермуса, и постоянный надзор чиновников фиска держал их как бы в состоянии рабства, парализуя всякое проявление самодеятельности. Единственная торговля Фокеи—отправка соли: в соседстве пристани высятся громадные груды кристаллов, настоящие холмы, одного из которых достаточно для нагрузки нескольких кораблей. А между тем город поставлен в очень благоприятные условия для большой международной торговли, как передовой порт Смирны: расположенный при входе в залив, представляющий судам превосходную якорную стоянку и совершенную защиту от ветров, он имеет лишь то неудобство, что отделен от Гермуса дикими крутыми холмами, а Смирна отказывает ему в проведении ветви железной дороги, которая отвлекла бы в пользу Фокеи часть торгового движения. Хотя азиатские фокейцы и очень гордятся городом, основанным их предками на берегу Прованса, однако их вовсе не встречается среди греков, эмигрировавших в Марсель.
Долина Гедиза или Гермуса, наносы которой выдвинуты далеко в море, непосредственно на юг от Фокейских холмов, как и долина Каика, очень густо населена относительно своего протяжения. Город, давший ей свое имя, незначителен: расположенный в горном цирке, над которым господствуют снеговые вершины Мурад-дага и Ак-дага, он сгруппировал свои дома невдалеке от застывшего потока базальта, который, вследствие охлаждения, раскололся на отдельные массы на подобие колонн, и в котором река открыла себе проход. С высоты этих скал видишь у себя под ногами плоские кровли домов, с стоящим на каждой мраморным свитком, фрагментом колонны, который употребляется для утрамбовывания земли. Гедиз—может быть, древний греческий город Кади, но большие развалины находятся вне этого бассейна, в верхней долине Риндака, притока реки Сусурлю-чай; там, близ нынешней деревни Чарду-Гиссар, стоял эллинский город Айзани, теперь же видны только остатки ристалища и театра. На западе, Демирджи, Гердиз, Ак-Гиссар, через который проложена железная дорога, занимают географическое положение, сходное с положением Гедиза, в небольших высоких долинах, которые открываются в южном основании водораздельных гор, ограничивающих с севера бассейн Гермуса или Гедиза. Гердиз—промышленный город: его «смирнские ковры» всего более похожи на персидские по отчетливости узора и прелести колорита. Ковровое производство Гердиза: 2.000 работниц, 400 станков; общее количество вытканных ковров 10.000 квадр. метров. Ак-Гиссар, древняя Фиатира, сохранил от своих дворцов и храмов только остатки скульптурных работ. Он превзойден ныне городом Мермере, построенным на хребте, который господствует на севере над глубокой котловиной, где находится озеро того же названия.
К югу от реки Гедиз-чай, город Кула, лежащий среди «Горелой» местности, усеянной «чернилицами» или кратерами из черноватого вулканического пепла, отправляет в Смирну так называемые «молитвенные ковры», очень умеренной цены, потому что они ткутся из шерсти, смешанной с пенькой. Другие материи, отличающиеся оригинальным стилем и превосходным качеством, которые ткутся лучшими мастерицами, предназначаются для приданого; в продаже их редко встретишь, по причине их высокой цены. Кула—земледельческий центр, откуда отправляют опиум и другие сельско-хозяйственные произведения на железную дорогу Гермуса. Конечная станция этого важного пути,—который должен современем соединиться у Афиум-Кара-Гиссара с будущей магистральной линией Передней Азии,—в настоящее время Алашер, известный в эллинскую и римскую эпохи под именем Филадельфии, которым он был обязан своему основателю, царю Филадельфу, из династии Атталидов. Некогда значительный город, Алашер занимает в равнине Когама или Сари-киз-чай, притока Гедиза, основание предгорья Тмолуса или Боз-дага; терраса покрыта садами и тенистыми рощами, а равнина представляет одно обширное поле, где разветвляются до бесконечности ирригационные каналы. Филадельфия была «маленькими Афинами», по своим памятникам и празднествам; хотя землетрясения, очень частые в этой области Катакекаумены, не раз опрокидывали и разрушали её здания, там и теперь еще видны остатки многих храмов, ристалища, театра и двух каменных оград, стен акрополя и стен собственно города. Филадельфия была, во времена Иоанна Богослова, одною из знаменитых «семи церквей», и имя её упоминается в Апокалипсисе; но, несмотря на все поиски, до сих пор не найдено никаких обломков, относящихся к этому первому периоду христианства. Филадельфия, последний город Малой Азии, завоеванный оттоманами, пал лишь в 1390 году. В наши дни он быстро возрастает в торговой деятельности; греческая община, состоявшая недавно из тысячи душ, увеличивается вместе с развитием торговли и промышленности.
Сарды или Сарт, древняя столица Лидии, в настоящее время не более, как железнодорожная станция, окруженная простыми навесами и двумя или тремя хижинами; здесь переходишь по доске через знаменитый Пактол, узкий ручей, текущий среди лугов; предгорья, господствующие над долиной, сплошь состоят из конгломерата и красной земли, которые малейший дождик бороздит рытвинами везде, где переплетающиеся корни растений не образуют непроницаемого ковра. Разрезанные размывами дождевых вод, иссеченные в форме пирамид, обелисков, крепких замков, сардские холмы имеют причудливый и восхитительный вид, благодаря контрасту зелени и красноватых скал; в обломках, увлекаемых дождевыми потоками с этих стен, находятся те частицы золота, из которых были вычеканены первые монеты, и которые сделали из имени Пактола синоним неисчерпаемого сокровища; но в наши дни нет более пастуха, турецкого или греческого, который дал бы себе труд заняться промыванием песков ручья. Земли, обвалившиеся с холмов или нанесенные проточными водами, покрыли большую часть античного города, расположенного между цепью Боз-даг и холмом акрополя; однако, там видны еще остатки зданий. Прекраснейшая руина, развалина храма Цибелы—быть может, святилища Юпитера Олимпийского, воздвигнутого Александром Великим, представляет две колоссальные колонны, высоко поднимающиеся над неровной лужайкой; во время путешествия Чисгулля, в 1699 году, портал, предшествуемый шестью колоннами, с их архитравами, существовал еще; вероятно, что систематические раскопки, предпринятые в городе Креза, привели бы к открытию драгоценных изваяний. На север от Сард и равнины Гермуса или Гедиза, недалеко от озера Гигес—ныне озеро Мермере—находятся древние могилки в таком большом числе,что образуют целый некрополь, называемый Бин-Бир-Тепе или «Тысяча один курган». Самый обширный из этих могильных холмов, о котором легенда говорит, как о кургане Алиатта, отца Креза, имеет более версты (1.100 метров) в окружности; раскопки, сделанные там недавно, доказали только факт посещения прежних исследователей, которые и унесли сокрытые в могилах сокровища.
Новый город Дургутли, лежащий к западу от древней столицы Лидийского царства, и более известный под именем Кассабы, то-есть «Местечка», окружен садами, бахчами дынь, полями хлопчатника и хлебных растений, занимая род бухты в широкой долине Гермуса, между предгорьями Боз-дага и крутыми горами Манисса-дага. Он обязан плодородию своей равнины важностью своих рынков; его торговая деятельность зависела главным образом от его положения относительно Смирны. Здесь проходит самая легкая дорога, ведущая из столицы Ионии в долину Гермуса; до постройки железной дороги, которая огибает на западе массив Сипилос, вся торговля, направлявшаяся из верхней долины к морю, производилась через этот вырез горы, порог которого имеет всего только 200 метров высоты; там видны еще многочисленные следы древней дороги. Недалеко от этого перевала, но уже на покатости Гермуса, какие-то древние завоеватели вырезали в стене из серого известняка барельеф, который Геродот описывает, как фигуру Сезостриса: это—памятник в виде четыреугольного каменного столба, называемый Нимфи или Нимфио (Ниф), по имени соседней деревни, где находился античный нимфеум. Дожди попортили камень, и многие детали доспехов и одеяния неузнаваемы более; однако, кажется, можно сказать с уверенностью, что на этом барельефе не было иероглифической надписи, и стиль скульптуры вовсе не египетский; в этом замечательном памятнике лидийского, или, может быть, гиттитского, происхождения, чувствуется влияние ассирийского искусства, как и в других до-эллинских барельефах Малой Азии. В 1875 году инженер Гуман открыл на одной скале той же долины следы другого «столба Сезостриса», о котором также говорит Геродот; но костры, зажигаемые юруками у подножия этого барельефа, сделали его почти неузнаваемым.
Нынешняя Манисса (Мансер), бывшая Магнезия на Гермусе или при Сипиле, занимает грандиозное местоположение у основания крутых гор, которые отделяют ее от Смирнского залива: белые минареты, резко обрисовывающиеся на сером или черном фоне скалы; отдельно расположенные кварталы, виднеющиеся на склонах и на террасах; чащи зелени, рассеянные в лощинах и на кладбищах по окраинам города,—все это придает Маниссе странный, своеобразный характер. Внутренность города также производит приятное впечатление оригинальностью вида; турецкий квартал сохранил еще свою особенную физиономию: нигде не увидишь лучше, каков был оттоманский город в средние века, с его лабиринтом базаров, ханов, мечетей и медрессе. Но рядом с турецкой Маниссой стоит эллинская Магнезия, быстро растущая и долженствующая опередить свою соперницу в близком будущем. В 8 километрах к востоку, в нише одной скалы, стоит колоссальная статуя, впрочем, очень попорченная и совершенно неразличимая в некоторых частях тела и одежды. Не есть ли это Ниобея Илиады, а глубокие следы, оставленные дождем, не борозды ли неизсякаемых слез богини? Или, быть может, это изваяние есть Кодинская скала, о которой говорит Павзаний, «статуя Цибелы, матери богов, старейшей из богинь»? Как бы то ни было, этот бесформенный памятник, кажется, указывает одну из первых попыток эллинского скульптурного искусства. Вокруг ниши Цибелы скала во многих местах высечена в виде гротов, служивших могильными склепами, где, без сомнения, хоронились те из верующих, которые хотели покоиться вблизи святилища. Научный термин «магнетизм» произведен от имени Магнезии, славившейся в древности своими горными породами и жилами руды, имеющей свойство притягивать железо.
Ниже Магнезии, единственный город этой долины—Менемен, лежащий при выходе из ущелий реки и при входе в её аллювиальную равнину. Менемен может быть рассматриваем уже как пригород Смирны, которую он снабжает огородными овощами и фруктами, и которая посылает ему в праздничные дни тысячи гуляющих.
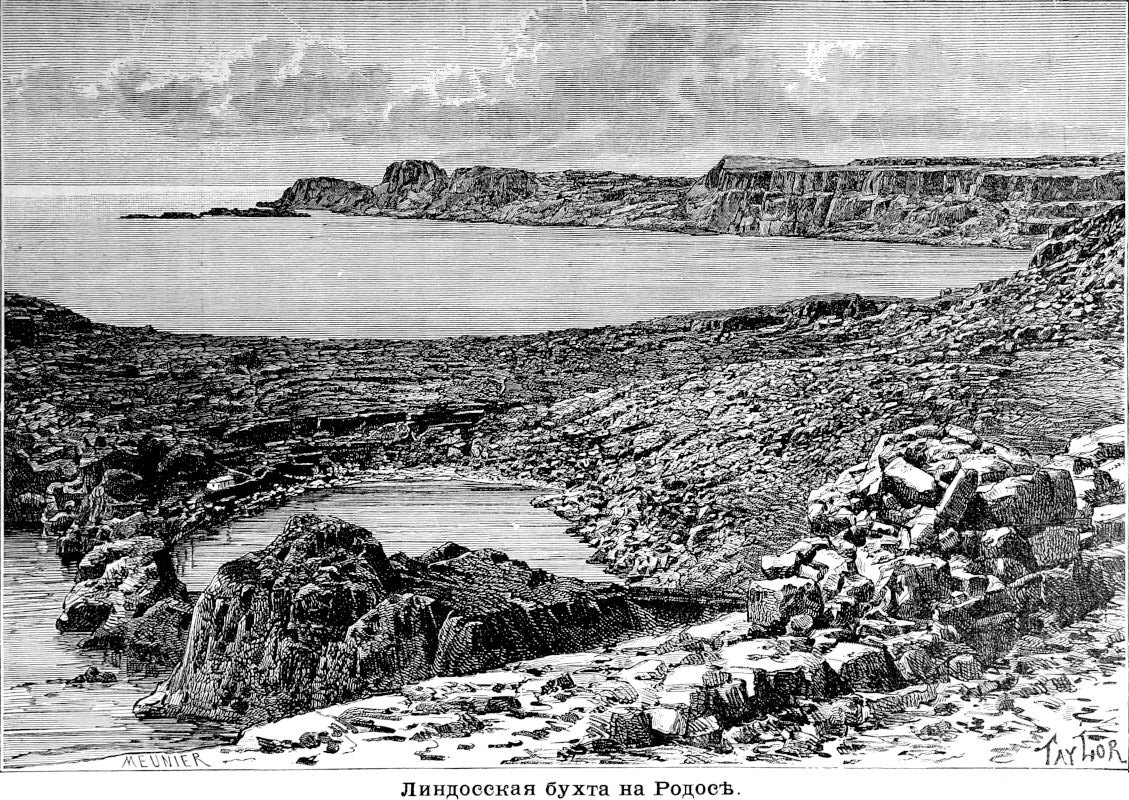
Смирна, по-турецки Исмир, главный торговый город Малой Азии, стоит не на берегу открытого моря; близ восточной оконечности своего залива, окрашенного в желтый цвет мутными водами Гермуса, она отделена от голубых вод моря узким проходом, над которым господствуют белые стены Санджак-Кале («Крепость знамени»). Город занимает широкий пояс земель с пологим скатом, которые постепенно поднимаются на юг и к горе Пагус, на которой еще сохранились остатки средневековых укреплений, построенных на фундаментах античного акрополя. В отношении красоты и живописности Смирна уступает большинству городов азиатской Ионии и, повидимому, не заслуживает изречения оракула: «трикраты и четырекраты счастлив тот, кто обитает на Пагусе, за священным Мелесом!» Едва несколько высоких зданий выступают над морем домов; только когда приблизишься к городу со стороны южного угла, видишь развернувшийся во всем объеме амфитеатр турецкаго квартала, с его куполами, минаретами и кипарисными рощами, осеняющими кладбища. Все горы, ограничивающие горизонт, безлесны и не имеют другой растительности, кроме пажитей; но по крайней мере они отличаются красотой контуров. Массив «Двух братьев», господствующий над входом в рейд, отдаленный Мимас, отделяющий залив от открытого моря, цепь Сипила, поднимающаяся постепенно уступами до пирамидальной массы Пелопсова Трона, могучая вершина хребта Тмолус с деревнями, приютившимися на его предгорьях,—живописно обрамляют этот необозримый круг, развертывающийся около рейда.
Самый значительный город Анатолии и всей Передней Азии, Смирна по численности населения первый город эллинского мира после Константинополя; по влиянию же она занимает второе место после Афин. Турки не без основания дали ей прозвище «Смирны неверной»: вступая в порт, видишь почти исключительно суда под европейскими флагами, и все кварталы вдоль набережных, построенные на земле, которую французская кампания завоевала у моря, принадлежат гяурам. Все носит на себе отпечаток западной инициативы: набережные, вымощенные лавами Везувия, английские рельсы, венские коляски и кареты, дома, построенные под руководством французских архитекторов каменщиками из Архипелага, кирпичи, мраморы, железные столбы, сваи и деревянные рамы, позволяющие строениям выдерживать сотрясения почвы,—все эти материалы были привезены из-за моря. Иностранец почти не знает другой Смирны, кроме Смирны греков и франков; турки оттеснены внутрь города, к склонам горы Пагус; квартал их—это лабиринт бедных деревянных домов, которые никогда бы не ассенизировались, если бы огонь не делал иногда среди них широких пробелов. Судя по школам, которые наперед обеспечивают первенство более образованным, не подлежит сомнению, что нравственное превосходство греков быстро возрастает; их главная коллегия (высшее учебное заведение), которую английское покровительство охраняло от вмешательства турецкого правительства, занимает целый квартал и постоянно расширяется прибавлением новых построек; при ней есть даже музей древностей, который обогащается изо дня в день новыми приобретениями, благодаря патриотическому рвению греческой общины, а библиотека её представляет неоценимое сокровище, при входе в обширный мир без книг, простирающийся внутрь Азии. Армяне тоже очень усердно заботятся о своих школах, и даже евреи, еще недавно составлявшие один из самых презренных классов общества, поднимаются мало-по-малу в общем уважении за ту энергию, с которой они занимаются воспитанием своих детей. В очень многих европейских семействах французский язык заменил испорченный испанский (spaniole), как общеупотребительная речь.
Население Смирны по «национальностям» в приблизительных цифрах:
Греков райи—96.000; эллинских граждан—30.000; турок—40.000; евреев—16.000; армян—10.000; левантинцев и иностранцев—8.000; всего—200.000.
Промышленность Смирны доставляет для вывоза лишь небольшое число предметов. Ковры, известные под именем «смирнских», производят внутренние округа—Гердиз, Кула, Ушак; в городе и его окрестностях не выделывают других фабрикатов, кроме ординарных бумажных тканей, тесьмы, лент и легких шелковых материй, затканных золотом; главный местный продукт—халва, род теста, приготовляемого из кунжутной муки и меду; она очень ценится во всех восточных странах, где население обречено на частые посты; смирнская халва вывозится в Грецию, в дунайские земли и в Россию. Почти вся отпускная торговля главного порта Ионии состоит из земледельческих и промышленных произведений, доставляемых из внутренних долин по железным дорогам, которые проникают уже на сотни верст внутрь материка (общая длина сети смирнских железных дорог в конце 1883 года—570 километров; доход в 1882 году 3.050.000 франк.). Главные предметы вывоза—виноград, винные ягоды, хлеб, растительные масла, хлопок, табак, опиум, кожи сырые и в деле, ковры и цыновки; ценность вывозимого винограда, в среднем выводе, 10.000.000 франков; сбор в 1882 году 34.000 тонн. Привоз состоит из бумажных и полотняных изделий, доставляемых преимущественно из Англии, сукон из Германии, лионских шелковых тканей, затканных золотом и серебром материй, металлов, мануфактурных произведений всякого рода. Прежде смирнские армяне пользовались монополией фабрикации носовых платков и покрывал, но завод их был отчужден для постройки железнодорожной станции. Возрастание торгового обмена значительно из десятилетия в десятилетие, хотя Смирна уже не занимает такого важного места относительно остальной Оттоманской империи, какое занимала прежде, в первой четверти нынешнего столетия: в 1816 году, её внешняя торговля с Европой, около 70 миллионов франков, представляла по ценности половину торговых сношений всей Турции, европейской и азиатской. Франция, которая в прошлом столетии пользовалась почти исключительной монополией левантской торговли, опережена теперь Англией в отношении ценности торгового обмена, но не уступает своей заламаншской соседке в отношении движения морского судоходства (относительного числа судов, участвующих в торговле с смирнским портом), и все еще занимает привилегированное положение, благодаря приносимому таможнями доходу, приписываемому отчасти французской компании, которая расчистила нынешний порт, построила волноразбиватели, молы и набережные. В настоящее время видны только следы прежнего порта, который вдавался внутрь материка близ южной оконечности города. Овальные контуры старых берегов бассейна еще заметны в строениях базара, которые стояли вокруг водной площади, постепенно съуживавшейся.
Движение судоходства в Смирне в 1880 году:
Парусных судов—1.233, вместимостью—165.650 тонн; пароходов—1.668, вместимостью—1.787 250 тонн; всего—2.901, вместимостью—1.952.900 тонн.
Ценность привоза в 1882 г.—116.500.000 франков; ценность вывоза—95.500.000 франков; общая сумма—212.000.000 франков.
Доля различных наций во внешней торговле Смирны в 1882 году:
Англия—75.730.000 франков; Франция—39.000.000 франков; Австро-Венгрия—19.300.000 франков; Италия—7.750.000 франков.
Доля участия иностранных коммерческих флотов в торговле Смирны в 1880 году:
Франция—21 процент; Австро-Венгрия—20 процент.; Англия—17 процент.; Италия—7 процент.; Турция—2 процента; другие государства—33 процента.
Как все большие города, Смирна дополняется предместьями, местами загородных прогулок и центрами дачной жизни, куда городские жители отправляются искать тени, недостающей их площадям и проспектам. На северо-востоке, кладбища представляют великолепные группы кипарисов; подле этих занавесов зелени смирниоты, сидя беспечно на террасах кофеен, расположенных вдоль берега, рядом с Караванным мостом, созерцают беспрестанно меняющееся зрелище, представляемое проходом верблюдов, с их вожаками, юруками, турками или татарами. В своем нижнем течении скромный ручей, обозначаемый, справедливо или нет, именем Мелеса, в память Гомера, бежит в «Райском» овраге, под аркадами древних водопроводов, сплошь обвитых фестонами растений. На востоке, в цирке, открывающемся на боках массива Тмолус, приютилось местечко Буджа, окруженное прекраснейшими чащами зелени, великолепными кипарисовыми аллеями. Далее, в том же бассейне верхнего Мелеса, Севди-кой или «деревня любви» выглядывает своими белыми домиками из-за зелени платанов. В равнине, составляющей продолжение впадины Смирнского залива, по направлению к Нимфейскому перевалу, Бурнабат, покрывающий своими садами пространство в несколько квадр. километров, поднимается пологим скатом у основания гор: это—наиболее посещаемый дачный городок в окрестностях Смирны; население его удвоивается в период с марта по ноябрь. Дальше на восток показываются Гаджилар, окруженный масличными рощами, и Бунар-Баши или «Голова воды» (начало, исток), который обязан своим названием находящимся в соседстве его обильным источникам; железная дорога, которая в праздничные дни привозит толпу гуляющих в сады Бурнабата, продолжается до подошвы Нимфейского прохода. На одной террасе хребта Тмолус расположено местечко Каклуджа (Куклуджа), откуда можно любоваться панорамой бухты. На другой стороне залива, напротив города, быстро разростающееся местечко Корделио состоит из вилл, принадлежащих мелкой буржуазии, и имеет правильное пароходное сообщение с Смирной. Наконец местечко Кара-Таш, где находится большой лицей, и Гез-тепе, собрание дач, продолжают город на юго-запад, вдоль южного берега залива. Скаты холмов, еще недавно представлявшие обширные пастбища, уже разрезаны на правильные геометрические фигуры, начерченные стенами оград.
Но в этой Смирнской области, где возникают новые города вокруг большого торгового центра, на каком именно месте стояла древне-греческая Смирна? Какая река должна быть признана Мелесом, на берегу которого родился Гомер? Вот вопрос, обсуждаемый археологами, и относительно которого они еще далеко не пришли к соглашению. Так как древние предания поместили Мелес под стенами Смирны, и так как этот город несколько раз менял место, то название реки всегда переносилось на тот поток, при котором основывался новый город. Большинство путешественников, принимая народное предание, видят Мелес в ручье, проходящем под мостом Караванов, и с благоговением посещают близ древнего водопровода пещеру, которая носит название «Гомерова грота». Другие исследователи полагают, что истинный Мелес впадает в северо-восточный угол Смирнского рейда. Руины, «гробницы Тантала», могильные склепы, высокий акрополь, венчающий соседния кручи, по их мнению, принадлежали к древнему городу, и остатки порта видны еще, будто-бы, в маленьком озере и болотах, сообщавшихся некогда с морем. Наконец, некоторые археологи, созерцая прекрасный источник, называемый Кара-Бунаром, то-есть «Черным фонтаном», или чаще, «купальней Дианы», уверяют, что эта-то чистая вода, разливающаяся скатертью, среди колеблемых ветром высоких трав и спускающаяся к морю равномерным потоком, и есть настоящий Мелес, «с прозрачной водой, обросшей густыми камышами», как его описывают древние авторы. Сколько источников величаются таким образом «реками»,—титулом, которого, конечно, более заслуживает вода всегда прозрачная и бегущая, чем поток быстрый весной, но иссякающий во время летних жаров! Сена, Гаронна, Рона, Дунай, Иордан, Евфрат представляют тому замечательные примеры.
Античная Клазомена, родина философа Анаксагора, стоявшая на внешнем Смирнском заливе, вне прохода, почти совершенно исчезла, как и город Гомера, но по крайней мере известно, где она находилась. Она была расположена на острове, к востоку от великолепного рейда, образуемого полуостровом и островными холмами. Колонны и различные остатки скульптурных украшений были увезены в Смирну и в другие города морского прибрежья. В наши дни Клазомена сделалась лазаретом, и суда, выдерживающие карантин, становятся на якорь под защитой этого островка. Плотина, разрушенная теперь до уровня воды, была построена по повелению Александра Македонского от острова Клазомены до твердой земли. Морская пристань Вурлах, лежащая на континентальном берегу, напротив Клазомены, посылает свой виноград непосредственно за границу. Прекрасная колесная дорога, длиной 4 километра, соединяет этот порт с городком Вурлах, который виднеется на краю гористого плато, превращенного в эти последние годы в один необозримый виноградник; но большая часть возделанной территории уже монополизирована крупными землевладельцами. Тысячи рабочих приходят из других мест и располагаются лагерем в окрестностях Вурлаха во время полотья и сбора винограда. Эти работники разделены на партии, как невольники, расставленные в линию, они полют в такт, нагибаясь и выпрямляясь все вместе мерным движением; от времени до времени коновод испускает пронзительный крик, и все отвечают ему, продолжая его голос звуком, похожим на ржание коней. На расстоянии нескольких борозд, против ряда наемников, стоит надзиратель, часто вооруженный. Лошадь его, оседланная, ждет своего господина на соседней тропинке.
По другую сторону полуострова, на южном побережье, два города, Севри-Гиссар и Сигаджик, сделались, подобно Вурлаху, земледельческими центрами. В 2 километрах к югу от этого последнего города, у основания скалистого полуострова, находятся величественные руины Теоса, ионийского города, где родился знаменитый поэт Анакреон. Ограда из каменных стен имеет 6 километров в окружности, и между развалинами можно различить кое-какие остатки храмов, театр, откуда открывался обширный вид, простиравшийся до гор далекого Самоса, и святилище Дионизоса, которому город был посвящен. Договоры, заключенные со всем эллинским миром, обеспечивали ему право убежища. Далее на юго-восток, на том же южном берегу, развалины Лебедоса представляют лишь бесформенные кучи мусора, а в направлении Эфеса, Кларос, славившийся своим оракулом, исчез с лица земли, так же, как и город Колофон. После Чендлера, Арунделя, Тексье, Аристид Фонтрье тщательно изучил все его обломки и отыскал несколько замечательных остатков древности, между прочим фрагменты двух гигантских львов, относящихся к великой эпохе ионийского искусства. Страна, некогда густо населенная и славившаяся коневодством, ныне почти пустынна, исключая зимнего времени, когда там бродят пастухи-номады со своими стадами. Горы, господствующие над этой страной, сохранили еще кое-где купы сосен, последние остатки больших лесов, о которых говорят древние писатели, как о производящих колофонскую смолу, название которой переделано в «канифоль».
В эпохи эллинские и римские, Лебедос был посещаем иностранцами, ради существующих в окрестностях его терм, которыми и теперь еще пользуются. Мало найдется стран, более богатых горячими источниками, чем изрезанный полуостров, заключенный между Смирнским заливом и заливом Скала-Нова. Уже в соседстве смирнских вилл, на южном берегу залива, бьют из земли Агамемноновы ключи, возле которых видны остатки римских терм. Но наибольшее число посетителей привлекает Чесменский курорт, близ оконечности полуострова, напротив Хиоса и недалеко от развалин Эритреи, где также текут обильные горячия воды. Чесме, то-есть «Источник» по преимуществу, приобрел в истории известность морской битвой 1770 года, в которой русские совершенно истребили оттоманский флот, и подвигами греческого вождя Канариса, который «водрузил пламя пожара» на корабле капудан-паши. Рядом с торговым городом, разделенным на два квартала, турецкий и греческий, выстроился новый город для приезжающих из Смирны на минеральные воды. Высокую температуру чесменских источников и вообще всего полуострова приписывают вулканической энергии почвы. Действительно, земля этой страны часто испытывает потрясения; как на одно из явлений этого рода, причинивших наиболее бедствий, можно указать на последнее землетрясение, имевшее место в октябре 1883 года, когда слишком шесть тысяч домов были разрушены в Чесме, Лацате, Ритре, Рейс-дере. Запасы сушеного винограда, продукта, составляющего богатство края, исчезли под грудами обвалившихся камней. Еще долгие годы будут чувствоваться последствия общего обеднения, произведенного этой катастрофой.
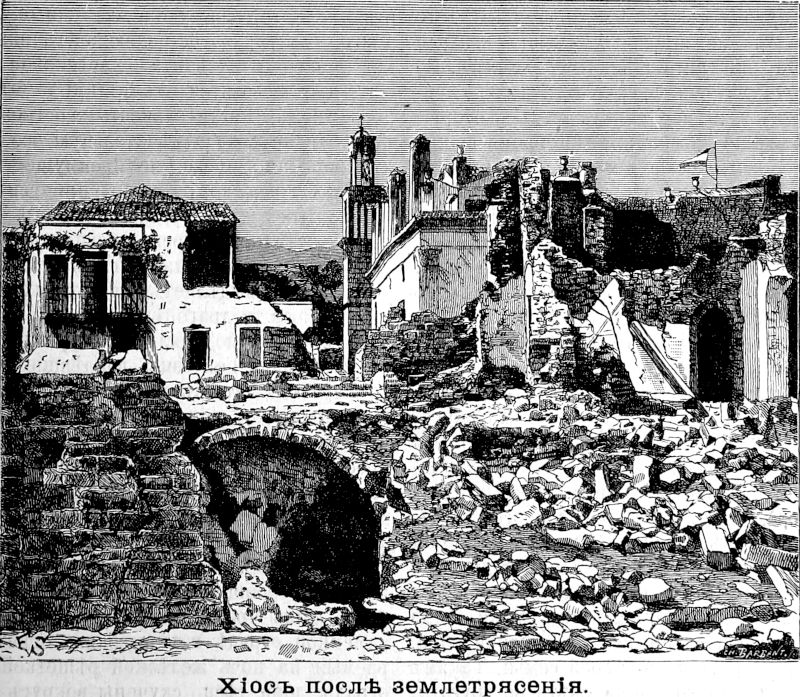
Город Хиос, протянувшийся на несколько километров в длину, на острове того же названия, на краю зубчатого берега, между садами померанцевых деревьев и масличных рощ, наглядно свидетельствует своим видом о бедствиях, которые могут быть причинены землетрясениями. В 1881 году он был почти весь разрушен, и слишком 5.000 человек погибли под развалинами зданий. Хотя после того город в большей части опять отстроился (реставрация Хиоса до июля 1883 г., по сведениям газеты «Impartial de Smyrne»: 1.321 домов, церквей и мечетей отстроенных, 1.873 поправленных), однако, и теперь еще увидишь много покривившихся башен и потрескавшихся стен. Но трудолюбие хиосцев так велико, что они, без сомнения, скоро изгладят все следы страшной катастрофы, подобно тому, как до землетрясения они уничтожили следы еще большего бедствия. В 1822 году, в первое время войны за независимость Греции, турки «прошли здесь», и когда дело опустошения было совершено, города и деревни представляли одни груды развалин. 25.000 хиосцев были перебиты и 45.000 уведены, как невольники, в Смирну и Константинополь; 15.000 убежали на острова и в континентальную Грецию; остальные умерли от голода или тифа. Из всего населения, превосходившего 100.000 душ, только 2.000 пережили турецкий разгром. Так отомстило оттоманское правительство за поражения, которые моряки из Псары или Ипсары, маленького островка, лежащего в соседстве с Хиосом, к северо-западу от последнего, нанесли турецким военным кораблям.
«Рай Архипелага» снова заселился, хотя число его жителей не достигло еще и половины той цифры, какую представляло население острова до войны. Город Хиос, или Кастро—как его называют по господствующему над ним генуэзскому замку,—занимает очень счастливое положение, на пути кораблей, плывущих вдоль западных берегов Малой Азии; это—передовая пристань Смирны на дороге из Афин и из западной Европы. На север город продолжается предместьем или, вернее сказать, громадным парком Вронтадос, населенным преимущественно моряками. С южной стороны за городом тянутся непрерывным рядом тысячи вилл дачного места Кампос, куда негоцианты уезжают каждый вечер, по окончании дневных занятий. Во все времена хиосские греки отличались меркантильным гением; те из них, которые нашли убежище за границей во время войны за независимость, воспользовались своим изгнанием, чтобы основать торговые дома на Западе—в Лондоне, в Марсели, в Ливорно, и их-то инициативе торговля острова была обязана тем, что опять достигла цветущего состояния. «Природа, говорят, создала их негоциантами и банкирами, и они делаются богатыми без усилий». Другие греки остерегаются этих единоплеменников, столь ловких, и часто утверждают, что в них следует видеть потомков какой-нибудь еврейской или финикийской колонии; впрочем, хиосцы действительно имеют кое-что из семитического типа, особенно женщины, которые отличаются благородством и правильностью черт. Подобно евреям, хиосцы избегают смешения с иноплеменниками или с эллинами других островов. Брачные союзы заключаются не иначе, как между своими; точно также, когда требуется выбрать торгового корреспондента, они всегда берут члена своей семьи. Таким образом, с одного конца света до другого, дела ведутся между родственниками. Пронырливые и вкрадчивые, хиосцы также очень искусны в приобретении почестей и теплых местечек. Число высших чиновников, уроженцев острова, весьма значительно при дворе и во всех пашалыках.
Исключая низины, остров Хиос от природы не плодороден. Камень, состоящий почти везде из синеватого мрамора с крупными кристаллами, прикрыт лишь тонким слоем растительной земли. Нужно было создать почву и удержать ее на террасах, расположенных одна над другой в виде ступеней лестницы по бокам гор; нужно было также отыскать источники в недрах скал, вывести их на поверхность и распределить их воду по ирригационным каналам: если остров сделался плодоносным, то только благодаря труду человека. Хиосцы—самые искусные садоводы между греками; их берут нарасхват в качестве садовников в Константинополе, в Смирне и даже в Италии; вошло в поговорку, что «земля улучшается в их руках». Благодаря этому неутомимому труду жителей и своему счастливому климату, Хиос, очень богатый плодами всякого рода, вывозит каждый год от 35 до 40 миллионов апельсинов, от 40 до 50 миллионов лимонов; кроме того виноград, винные ягоды и камедь лесного и терпентинного фисташкового или мастиковаго дерева, употребляемую для приготовления «мастики», которую жуют восточные люди, и другой «мастики», составляющей главный крепкий напиток Леванта (мастиковой камеди ежегодно вывозится от 50.000 до 60.000 килограммов). Растительность на острове Хиосе представляет ту замечательную особенность, что маслина, дерево, по преимуществу свойственное греческому Востоку, приносит плоды не каждый год, а в два года раз. Взамен того, мастиковое дерево, бесплодное или малопроизводительное на других островах и на континенте, выделяет в южных местностях Хиоса ту драгоценную смолу, за которую весь остров получил у турок название Сакиз-Адаси. Генуэзцы, владевшие островом до перехода его в руки турок, придавали такую важность монополии знаменитой камеди, что для того, чтобы легче было наблюдать за крестьянами и предупредить всякую контрабанду, они сделали из каждой «мастиковой деревни» обширную тюрьму. Еще и в наши дни местечки в южной части острова имеют вид настоящих четыреугольных крепостей, которые сообщаются с окрестными деревнями лишь чрез узкия ворота, пробитые в каменной ограде из высоких стен и запираемые на ночь железной решеткой. Внутри ограды дома тесно скучены вокруг сторожевой башни, на которую можно взойти не иначе, как по веревочной лестнице. Ни город Кастро, ни другие населенные места острова не сохранили никаких остатков древности, кроме находящейся в 8-ми километрах к северу от города скамьи, вырезанной в скале и поддерживаемой грубыми изваяниями, изображающими не то львов, не то сфинксов: этот памятник, быть может, принадлежащий до-эллинскому периоду, называется «Гомеровой школой», на основании предания, которое сделало из поэта философа и изображает его восседающим в этом месте среди своих учеников. В новые времена, как и в древние века, Хиос имел сынов, приобревших известность в науке и литературе: так, эллинист Корай, так много сделавший для восстановления классических текстов, был хиосец. Турки держат гарнизон в цитадели и редко пускают туда христиан; но они мало вмешиваются во внутреннее управление острова. Общественными делами в Хиосе, как и в большей части земель Архипелага, заведует патрициат, почти автономный.
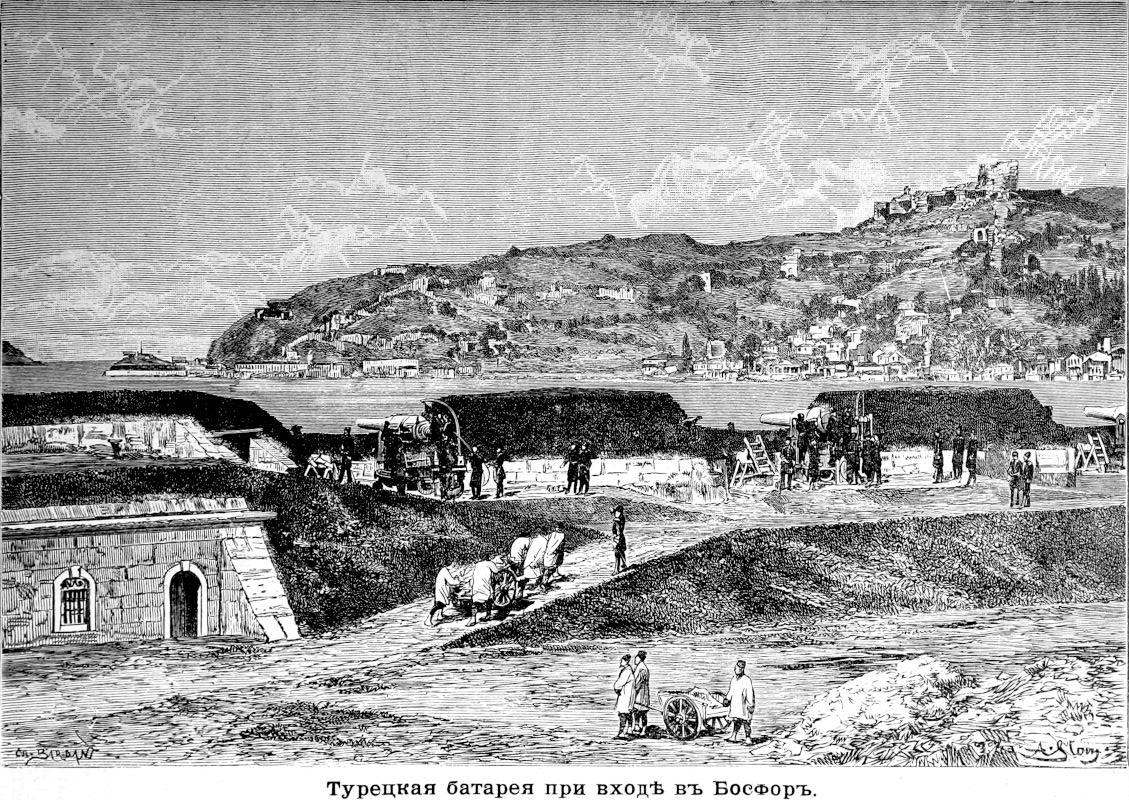
К югу от смирнских гор долина реки Кайстра или «Малого Меандра», оканчивающаяся эфесскими болотами, представляет страну небольшого протяжения, которую древние обозначали специально под именем Азии, и которая в наши дни есть одна из самых многолюдных и важнейших по торговле областей Анатолии; сотни деревень и три важных города, население которых в большинстве состоит еще из турок, Эдимиш, Тира или Тире, Байндир, отправляют в Смирну земледельческие произведения окрестных местностей—виноград, оливки, винные ягоды, хлеб. Тира, соединенная с сетью смирнских железных дорог, есть одно из красивейших городских поселений Малой Азии. Разделенная лесистыми оврагами на множество отдельных кварталов, она представляет скорее целую группу городов, чем один сплошной город; со всех сторон стройные минареты выдвигаются над зеленеющими чащами деревьев. К западу от Тиры находится обширный чифтлик Машат, который султан подарил Ламартину, но которым поэт не воспользовался для обработки земли и ведения хозяйства.
Древний город Эфес, охранявший выход долины Кайстра, перестал существовать, и в равнине, где виднеются развалины его памятников, единственные жилища—это избушки бедной деревни Айя-Сулук, приютившейся под нависшими аркадами римского водопровода, на котором важно сидят аисты; путешественники с опасностью жизни пускаются летом в болотистую область, где некогда стояли прекраснейшие здания. Эфес, состоявший по крайней мере из трех, первоначально отдельных, городов, был раскинут на значительном пространстве; на западе, близ моря, он покрывал крутые склоны горы Корессос; другая уединенная гора, Пион (Прион), на которой был расположен второй квартал или отдельный город, тоже заключалась в городской черте, а далее, на восточной стороне, третья скала была увенчана эллинскими строениями, которые впоследствии сменил турецкий крепкий замок, резиденция ай-сулукских султанов. В этом обширном пространстве, около 4 километров с востока на запад, нет больше ни одного цельного памятника, но обломки зданий встречаются на каждом шагу, свидетельствуя о могуществе и великолепии античного города. Эфес, «глаз Азии», как известно, был, после Афин, столицею ионийской конфедерации и, как религиозная метрополия, резиденцией жрецов-царей, местопребыванием грозной богини,—в одно и тоже время Анагиды, Артемиды и Дианы,—которая царствовала над Европой, так же, как и над Азией, «Матери природы» и «Источника всех вещей». Никакое творение рук человеческих не могло достойно представить эту богиню; самая священная, наиболее чтимая статуя её был буковый чурбан, упавший с неба. Непрерывные восьмилетния раскопки под руководством англичанина Вуда привели, наконец, к открытию, в 1871 г., фундаментов Артемизиона, погребенных на глубине более шести метров, недалеко от того места, где стоит мечеть деревни Айя-Сулук, сама построенная на остатках христианской церкви. В своих поисках этот исследователь руководился межами полей, для определения направления древних дорог: он был совершенно прав, вверяясь в этом случае консервативному духу крестьянина; древние памятники разрушены временем, но проложенные к ним тропинки существуют и до сих пор.
Колоссальное здание, в четыре раза превосходящее размерами афинский Перфенон, открылось взорам археологов, которые могут отстроить его мысленно, с его бесконечными рядами желобчатых колонн, опирающихся на цоколи, украшенные барельефами, с его группами статуй и жертвенниками, окруженными тенистыми деревьями, сквозь которые виднелись вдали холмы, обрисовывающие на горизонте свой важный и мягкий профиль. Великолепные фрагменты, перевезенные в Британский музей в Лондоне, дают возможность составить понятие, каково было это «седьмое чудо света». Развалины храма были частью употреблены как материал для постройки водопровода и впоследствии для сооружения мечети, которая, впрочем, представляет оригинальный и любопытный памятник турко-персидского искусства, украшенный стихами из Корана, которые группируются и обвиваются прелестными арабесками. На самых склонах гор Пиона и Коресса, откопанные фундаменты зданий, выступающие из-под земли развалины стены также обнаруживают изумительное богатство пышными памятниками, которые украшали город эфесцев. Какое грандиозное зрелище должен был представлять вид театра, где более двадцати пяти тысяч зрителей собирались на скамьях, поднимающихся уступами, и под перистилем верхней колоннады. Другие исследователи исчисляли в 56.000 число мест в театре (Фалькенер). От театра до порта храмы, названия которых сохранились на медалях, следовали один за другим без перерыва: статуи, теперь разломанные на отдельные куски или превращенные в цемент, стояли тысячами по сторонам широких аллей; каменоломни на горе Пион, откуда добывали материалы для постройки всех этих зданий, поражают своими громадными размерами. Как во всех жреческих городах, в Эфесе не было ни одного камня, который не имел бы своей легенды, и в окружающих горах каждая местность была прославлена какими-нибудь чудесами; все боги там фигурировали в какой-нибудь мифологической сцене. Точно также христиане, наследники греческого мира, видели в Эфесе один из своих святых городов; здесь «тюрьма апостола Павла», в другом месте—могила Марии Магдалины; там, приютившись в гроте, почивали в течение двухсот лет «семь спящих отроков» с их верной собакой, тогда как вокруг них сменялись поколения, и древние языческие верования уступали место новой религии; вырезанные на драгоценном камне имена этих отроков сделались как для христиан, так и для магометан, вернейшим талисманом. Предание указывает на Эфес, как на местопребывание апостола Иоанна Богослова; отсюда и самое имя местечка, Хагиос Феологос, превратившееся в Айя-Сулук в устах турок. После Гераклита, знаменитейший из греков, родившихся в Эфесе, был живописец Апеллес, который, менее счастливый, чем эллинские ваятели, не оставил ни одного творения, чтобы оправдать свою славу в глазах потомства.
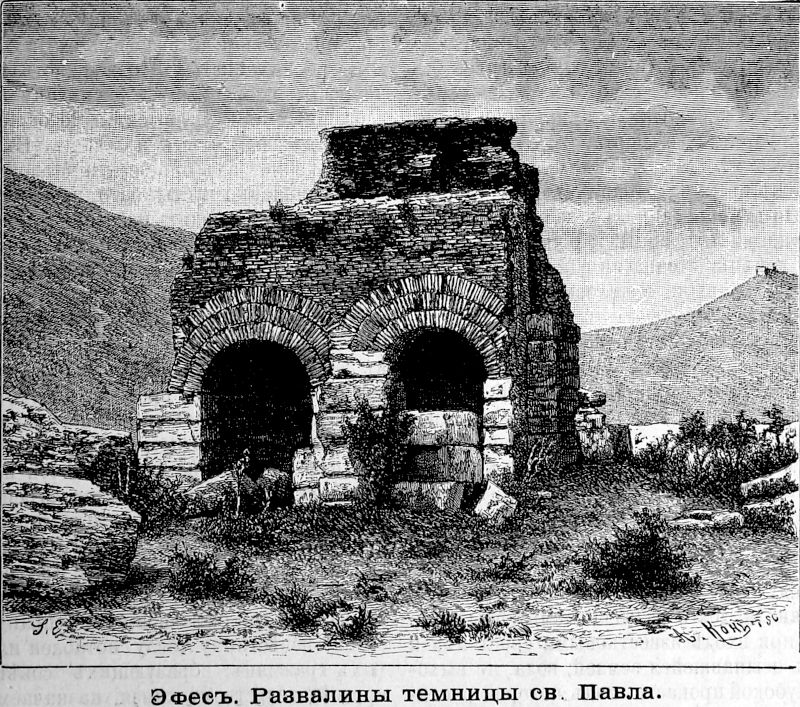
Две гавани, которыми обладал в древности Эфес, не существуют более, но можно угадать их местоположение. «Священный порт», названный так потому, что он находился в соседстве храмов, можно узнать только по крутому изгибу, который делает в этом месте река Кайстр. Бассейн города, лежавший дальше от моря и сообщавшийся некогда с большим портом посредством канала, может быть искусственного, теперь не более, как болото, окруженное развалинами. Эти обмелевшие гавани были заменены портом «Нового Эфеса», более известного под именем Скала-Нова или «Новая пристань», которое ему дали итальянские мореплаватели. Город, носящий то же название, имеет вид большого города; он поднимается амфитеатром по северному склону холма, обращенного наискось к морю; древние стены окружают лабиринт поднимающихся в гору улиц; обширные кладбища простираются далеко в равнине, окаймляющей морское прибрежье; гавань глубока, и с западной стороны островок, называемый Птичьим, отчасти защищает ее от ветра, дующего с открытого моря; но северо-западные бури бывают там иногда опасны. Скала-Нова посещалась большим числом судов до открытия железной дороги, которая проникает в долину Меандра и увозит теперь все произведения в Смирну; но в наши дни «Новая пристань» почти покинута и, если правительство не разрешит постройки ветви, соединяющей ее со станцией Эфес, на магистральной линии, то изолированное положение, в котором она очутилась, грозит лишить ее и той небольшой торговли, которую она еще сохранила. Однако, пароходные компании, ведущие борьбу с «обществом смирнских набережных», часто возвращаются к мысли основания в Новом Эфесе большого порта со всеми новейшими промышленными приспособлениями, и постройки специального пути к долине Меандра, чтобы отвлечь торговое движение к своей выгоде. На западе, недалеко от пригорка, на котором раскинуты руины Неаполиса («Нового города»), греческое местечко Чангли прячется в маленьком бассейне зелени на берегу ручья, осененного платанами: это, как полагают, древний Паниониум, куда собирались делегаты от ионийских городов для обсуждения общих дел конфедерации. За Чангли, на морском берегу, нет ни одного города, даже ни одной деревушки, и только кое-где встречаются отдельно стоящие дома.
Древняя столица острова Самоса, отделенная проливом, в несколько километров, от полуострова Микале, исчезла, как и Эфес, и от всех её храмов сохранилась только одна колонна, остаток Гереиона, наиболее чтимого святилища богини Геры во всей азиатской Ионии. Маленький городок, называемый Тигани или «Сковорода», по причине кругообразной формы его порта, выстроился на том самом месте, где находился торговый квартал в времена Поликрата; на террасе гор, среди виноградников и расположенных косыми рядами масличных рощ, другой город, с домами, стоящими один над другим, и с кривыми извилистыми улицами, Хора, то-есть «Место» по преимуществу, занимает местоположение одного квартала античного Самоса, вероятно, той части города, которая носила название Пифагоровой; остальная часть равнины, некогда покрытая жилищами, теперь заключает лишь бесформенные развалины, рассеянные в болотах и на распаханных землях. Под холмом акрополя, еще увенчанным стенами и башнями, недавно открыли двойную подземную галлерею, длинной около 1.200 метров, которая приносила городу воды бьющего из земли фонтана; этот туннель, долго разыскиваемый, был залеплен при входе известковыми сростками и прикрыт осыпавшейся землей; вода, по выходе из глубокой пропасти, над которой раскинут купол часовни, текла по дну узкого ущелья и наконец терялась в болотах прибрежья. Теперь занимаются очисткой галлерей, и скоро маленькое местечко Тигани, лучше поставленное в отношении водоснабжения, чем многие большие города, будет получать в изобилии чистые воды по каналу, вырытому слишком двадцать четыре века тому назад.
Вати, нынешняя столица Самосского княжества, расположена на противуположной покатости острова, на берегу воронкообразного залива, открывающагося в направлении северо-запада; большие корабли подходят к новым набережным в глубокой воде. Она состоит собственно из трех городов: в зеленеющем, поросшем травой цирке, на южной стороне крутой горы, куда поднимаются по козьим тропинкам, видны старинные строения Палайо-Кастрона; на половине высоты, на предгорьях, извиваются в виде лестницы улицы собственно так называемого города, внизу, новый квартал порта тянется вдоль набережных, там, где еще в половине настоящего столетия стояли только бедные избушки. Порт Вати, посещаемый регулярно пароходами, поддерживает очень деятельную торговлю фруктами, луком, винами, мушкатными орехами. Вокруг города расчистка и запашка земель быстро изменяют вид местности. Виноградники разводят там не только в равнинах и на пологих скатах гор, но даже на каменистых пространствах, и куски скалы, собранные с распаханной почвы и сложенные в кучи, высятся по окраине изгородей, в виде стен и башен. В нескольких километрах от берега Малой Азии, почти совершенно пустынного, путешественник с удивлением видит население, пристрастившееся к труду и проявляющее кипучую деятельность. Самос имеет широкую колесную дорогу, между Вати и Тигани; там есть также мосты, набережные, жете в двух восточных портах и на северо-западном берегу, в Карловасси; он ведет значительную торговлю, в два раза превосходящую торговлю Франции, пропорционально числу жителей. Это цветущее состояние острова объясняется тем, что население его пользуется почти полной автономией, и ему нечего боятся турецкого гарнизона из 156 человек, парадного войска, содержимого для формы от имени султана, верховного властителя страны. Ежегодная дань в 47.000 франков освобождает самосцев от всякой другой зависимости; управление присвоено известному числу нотаблей или именитых граждан, образующих совет, под председательством князя, назначаемого Портой. Островитяне имеют собственный флаг, гордо показываемый в Архипелаге целым флотом самосских шлюпок. Остров Самос пользуется большим материальным благосостоянием; рождаемость обыкновенно в два раза превышает смертность, и с каждым годом возрастает число жителей, которому ведется точная перепись строго применяемой статистикой.
Народонаселение Самоса в 1610 г.—10.000 жит., в 1828 г.—27.125 жит., в 1864 г.—33.998 жит., в 1879 г.—37.701, в 1881 г.—49.211 жит.
Бюджет Самоса в 1876 г.: доходы—3.033.729 франков, расходы—2.923.429 франков.
Роды культур на о. Самосе в 1878 г.: пашни—6.676 гектаров, масличные рощи—5.219 гектаров, виноградники—2.927 гектаров, фруктовые сады—393 гектара.
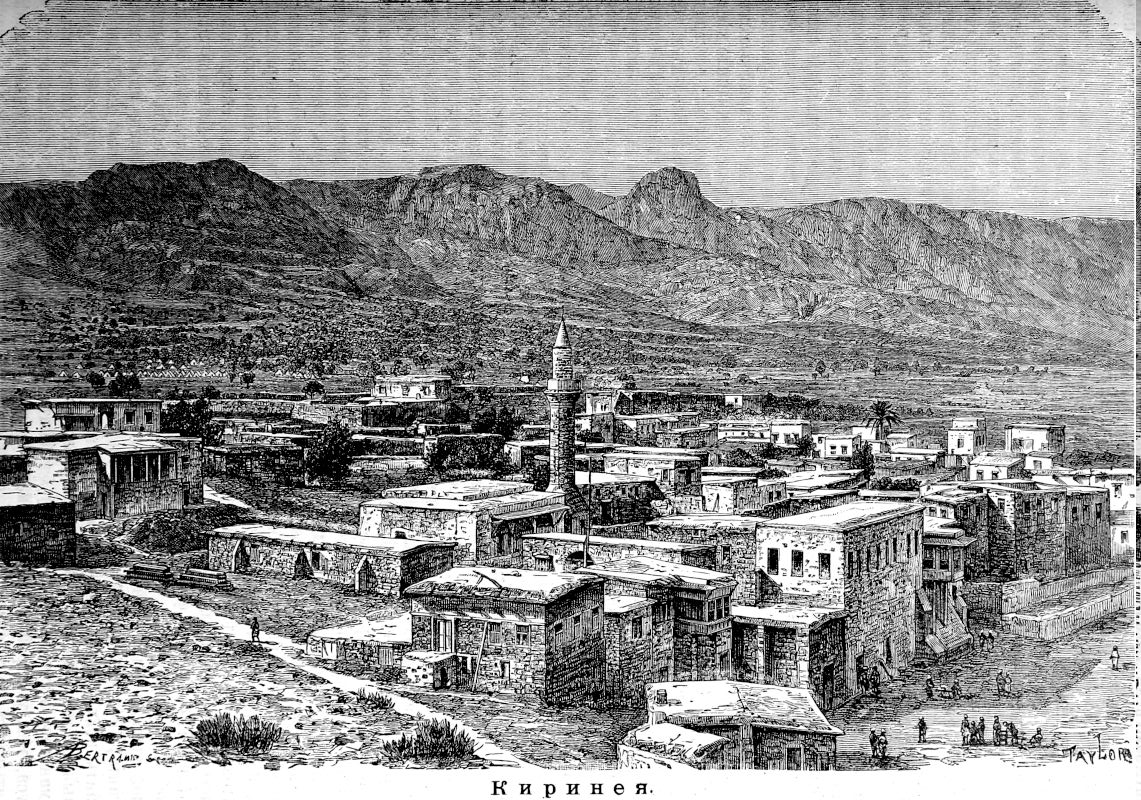
Жители Самоса отличаются такой воздержностью и умеренностью в пище, что легенда приписывает сухому и живительному климату острова особенное свойство, состоящее в том, что там, будто-бы, можно совсем обходиться без хлеба насущного.
Ценность внешней торговли Самоса в 1879 году: привоз—15.701.318 франк., вывоз—12.305.582 франк., общая сумма—28.006.900 франков.
Движение морского судоходства: 3.159 судов, вместимостью 77.014 тонн.
Потомки колонистов, пришедших со всего Архипелага, с берегов континентальной Эллады и из Анатолии после опустошения острова турецкими завоевателями, самосцы способствуют, в свою очередь, заселению соседних морских берегов. Целыми тысячами уходят они искать счастья в Смирне и в других городах Ионии; между ними же слишком часто набираются разбойничьи шайки, разгуливающие по Анатолии. Те же самые индивидуумы, смирные и кроткие среди трудолюбивых населений родного острова, делаются наводящими страх бандитами на чужой земле. Много народу эмигрирует также из Никарии и с вулканической скалы Патмос, где жил Иоанн Богослов, автор Апокалипсиса. Этот последний остров потерял почти половину своих жителей с пятидесятых годов настоящего столетия.
Если бы прекрасная и плодородная долина Меандра была так же населена и возделана, как гористый остров Самос, она была бы раем Анатолии. Эта долина и теперь уже одна из самых промышленных областей Малой Азии: оттуда Смирна получает наибольшую часть земледельческих произведений и мануфактурных изделий, питающих её торговлю. Динеир, у истоков Меандра, составляет как бы ворота областей плоскогорья и должен в скором времени, как конечный пункт смирнской дороги, сделаться складочным местом Фригии и Писидии. Ушак, лежащий на одном из верхних притоков Меандра и окруженный полями, дающими лучший опиум в Анатолии, вышивает так называемые «смирнские ковры»; около 4.000 ткачих, работающих под открытым небом, перед деревянной рамой, в которой натянута основа, заняты весь день считаньем, завязываньем узлов, выравниваньем нитей утка. Ковровое производство возрастает из году в год и представляет среднюю ценность около двух миллионов, оплачиваемых импортерами Англии, Франции и Соединенных Штатов. Французские негоцианты имеют своих агентов в Ушаке и делают непосредственно авансы предпринимателям, которые платят работникам от 4 до 5 франков в неделю. Подобным же образом, посредством выдаваемой вперед платы, значительно меньшей против рыночной цены товара, смирнские негоцианты покупают бумажные материи, называемые алажас, которые ткут женщины мусульманского местечка Кади-Кой, в бассейне Ликуса, между Сарай Коем и Денизли. Там насчитывают до тысячи ткацких станков. Чтобы увеличить свои доходы посредством умножения числа работниц, кадикойские турки почти все имеют по четыре законные жены, то-есть, столько, сколько дозволяет коран.
Денизли, лежащий у восточного основания Баба-дага, в равнине, орошаемой живыми водами, состоит почти только из базара и нескольких кожевенных заводов; в половине прошлого столетия, после землетрясения, опрокинувшего город, почти все население разбрелось по загородным домикам окрестной местности, под тень вязов, дубов и фруктовых деревьев. Вероятно, этот городок рано или поздно будет привлекать много посетителей, как центральный пункт для экскурсий к живописным местоположениям горы Кадмус, к инкрустирующим источникам на берегах Ликуса и к руинам греко-римских городов. На севере Лаодикея, одна из «семи асийских церквей», очень богатая и очень населенная в начале христианской эры, оставила импонирующие развалины своего водопровода, своих храмов и двух театров, обозначаемые теперь под коллективным именем Эски-Гиссар или «Старый замок»; на востоке, местечко Хонас сохранило несколько фрагментов зданий Колоссов; на западе, на противуположном склоне Баба-дага, бараки Гейры (Гиеры, т.е. священный) окружают руины Афродизии, главный храм которой, преобразованный в церковь в византийскую эпоху, до сих пор еще имеет пятнадцать ионических колонн, вполне сохранившихся, но самые грандиозные развалины—это остатки Гиераполиса («священного города»), на травертиновой террасе, господствующей над аллювиальной равниной, где соединяются Ликус и Меандр. Со ступеней театра, одного из самых пышных и наиболее пощаженных временем памятников этого рода, которые уцелели от эпохи Адриана, открывается великолепнейший вид на голубые горы окрестностей и на равнину Меандра, которая сливается вдали с прозрачными парами горизонта, которые кажутся еще более легкими от контраста с руинами зданий, красного или черноватого тона, стоящими на террасе источников.
Буладан, на маленьком северном притоке Меандра, и Сарай-кой, на самой реке, ниже слияния её с Ликусом, так же, как и Денизли, представляют собою оба земледельческие рынки, отправляющие свои произведения в Смирну по айдинской железной дороге. Ниже, на отлогости, обращенной на юг, виднеется городок Назли, состоящий из двух отдельных местечек, из которых одно, Верхний Назли, населенное греками и известное специально под именем Базара, получило довольно важное значение, как один из главных рынков по торговле винными ягодами, называемыми «смирнскими». Окружающая местность представляет один необозримый сад смоковниц, под сенью которых растут ячмень и кукуруза; синия сойки летают повсюду под листвой дерев. Недавно станция Султан-Гиссар была окружена апельсинными рощами, но только небольшое число этих деревьев избегли болезни, от которой погибли в то же время все апельсинные деревья на острове Самосе. Римские руины встречаются почти на каждом шагу. На одном холме, над Султан-Гиссаром, виднеются остатки Низы Греческой.
Айдин-Гюзель-Гиссар или «Прекрасный замок Айдина», самый большой город области Меандра, дал свое имя вилайету, главный город которого—Смирна. Протянувшись в длину на несколько километров, Айдин раскинулся у основания и по скатам холмов из красноватого конгломерата, увенчанных несколькими виллами; выкрашенные дома, желтые, зеленые или синие, крытые черепицей, красный цвет которой исчез под слоем наросшего мха, поднимаются амфитеатром по склонам гор; куполы, минареты, группы кипарисов господствуют над массой низеньких построек; посреди города, между двух выступов горы, открывается глубокая долина, и на берегах ручья Айдин-Чай над журчащей водой свесились раскидистые платаны, под обширными ветвями которых приютились кофейни; в окрестностях бьют из земли обильные минеральные ключи. Айдин, названный так по имени независимого эмира, который овладел долиной Меандра после прохода монголов, населен преимущественно оттоманами; но греки растут в числе, в богатстве, во влиянии, благодаря своей инициативе, своим путешествиям и особенно своим школам, так как хотя они не составляют и пятой части населения, но целая половина общего числа учащихся принадлежит их национальности. Армяне, квартал которых, расположенный но склону холма, находится в соседстве с кварталом греков, соперничают с ними по ведению торговых операций, и менее внушая опасений туркам, чем предприимчивые эллины, доставляют оттоманской администрации почти всех её служащих. Испанские евреи, живущие в нижнем предместье, близ станции железной дороги,—все коммиссионеры, менялы, ростовщики, дающие ссуды под заклад или под формальные росписки. Население Айдина: 23.000 турок, 6.500 греков, 1.800 евреев, 1.000 армян. В том самом месте, где кончается Айдин, т.е. на закраине холма, господствующего на западе над ущельем ручья Айдин-Чай, начинался некогда город Траллес. Терраса, на которой он стоял, совершенно ограниченная крутыми склонами и соединенная с горами легко защитимым перешейком, составляла естественную крепость, пространством от 2 до 3 квадр. километров, которую каменные стены делали почти неодолимой. Греческий город был пышен и богат прекрасными зданиями; но эти здания были почти все построены из кирпича, и уже многие века жители Айдина не имеют другой каменоломни кроме развалин античного города; рабочие постоянно раскапывают почву, чтобы извлекать оттуда древние кирпичи, единственные, которые годятся для постройки печей. Среди масляничных деревьев этой террасы видны лишь груды обломков да кладбища; только на западной оконечности высится еще громадный фасад гимназии, стена толщиной 8 метров (без малого 4 сажени), прорезанная тремя воротами с полукруглым сводом, «Тремя глазами» (Уч-Гёз), через которые можно обозревать нижнюю долину реки. Жалованное поместье Фемистокла, Магнезия на Меандре, которая и сама сменила другой, еще более древний город, исчезла, как и Траллес, расхищенная вековой непрерывной работой камнеломов; все каменные сооружения на железной дороге между Айдином и Эфесским перевалом были сделаны из камней, взятых в Магнезии. Близ бесформенных груд развалин расположена станция Баладжик, славящаяся своим медом и винными ягодами, лучшими в Анатолии.
Средний сбор винных ягод в долине Меандра: 30.000 грузов или 6.360.000 килограм.; в 1878 году 10.000.000 килограммов.
Сбор в долине Кайстра: 2.120.000 килограммов.
За исключением Сокии или «Холодной», названной так от пролома в горах, через который врывается северный ветер, в нижней долине нет городов. Сокия, где греки составляют большинство населения, приобрела важное значение, благодаря заводам для приготовления лакрицы, основанным английскими коммерсантами; они эксплоатируют также в соседстве копи лигнита и наждака. Вот и вся промышленность страны. Но нет в Малой Азии местности, где можно было бы видеть более драгоценные остатки античного искусства. Там, где теперь стоит деревня Самсун, у подошвы Микале, находилась родина Биаса, Приена, набережные которой некогда омывались морем, и над которой господствовал очень высокий акрополь; у подножия скалы, на террасе, виднеются руины храма Миневры Полиады, «образцового произведения ионийской архитектуры в лучшую её эпоху», как о том свидетельствуют фрагменты, положенные г. Пулланом в Британский музей, и реставрация их, сделанная гг. Рэйетом и Томасом. Километрах в двадцати к югу, на колене Меандра, бедная деревушка Палатия указывает местоположение славного Милета, родины Фалеса и Анаксимандра; остатки театра, самого большого, каким обладала Малая Азия, да груды бесформенных развалин, поросших кустарником,—вот все, что уцелело от могущественного города, которому принадлежала гегемония в ионийской конфедерации, и который не побоялся оказать сопротивление армиям Александра Великого. Раскопки, исполненные под руководством г. Рэйета, обнаружили план пышных зданий и привели к открытию изваяний, находящихся теперь в Луврском музее. Мионт, на рукаве Меандра, к северо-востоку от Милета, исчез бесследно; но город, где родился знаменитый живописец Зевквис, Гераклея, лежащая на восточной оконечности бывшего залива Латмос, обратившагося во внутреннее море, вследствие накопления речных наносов,—сохранил свою агору (рынок), менее поврежденную временем, чем агора всякого другого древне-греческого города, и свою ограду, смело взбирающуюся по откосам крутых скал. Наконец, близ мыса, отделяющего залив Меандра от залива Менделия, в Димиде, нынешней Гиеронде, видны руины святилища Аполлона Бранхидеса, самого обширного храма этого бога в Малой Азии и одного из самых замечательных по особенному архитектурному расположению частей здания, обусловленному таинствами оракула. Дорога, длиной в 4 километра, обставленная по бокам сидячими статуями, напоминающими египетский стиль, соединяла этот храм с ближайшим портом. Лувр и Британский музей обладают многими фрагментами изваяний, найденных в Димиде и на Священной дороге.
Маленький бассейн Сари-чая или «Желтой реки», впадающей в Менделийский залив, также очень богат древностями. Недалеко от города, давшего свое имя заливу, и над которым с северной стороны господствуют крутые склоны Латмуса, на месте, где находился древний Эвром, видны остатки прекрасного коринфского храма; в Мелассе, Миласе древних, нет ни одного дома, который не был бы построен из материалов, взятых из развалин храмов, дворцов или мавзолеев; Асын-Кале или «деревня замка», к северу от устья реки Сари-чай, расположен у подошвы полуостровного мыса, на котором в древности стоял Яссус, с его прекрасным театром, его гробницами, его пелазгическими стенами, утилизированными впоследствии для крепости, построенной венецианцами. Древняя Карианда, родина Скилакса, находится на противуположном берегу Менделийского залива. Оттуда остается только перейти горный хребет, чтобы спуститься в город Будрун, бывший Галикарнас, где родился Геродот. Занимая великолепное местоположение на берегу глубокой и безопасной бухты, этот город представляет, по выражению Витрувия, форму амфитеатра, обращенного к морю; с двух сторон бухту ограничивают два высокие мыса, на одном из которых, на правом, стоял храм Венеры, Афродиты и Гермеса, а левый, оканчивающийся скалистым полуостровом, был увенчан дворцом Мавзолея; в этом обширном полукруге находились дворцы, храмы и мавзолей, воздвигнутый Артемидой. Это «чудо» древнего мира, над которым работали Скопа и другие знаменитейшие ваятели своего времени, был в течение восемнадцати веков уважаем всеми завоевателями, последовательно являвшимися на берегах Малой Азии. Хотя несколько раз потрясенный землетрясениями, цоколь имел еще все свои колоннады и изваяния в начале пятнадцатого столетия, когда рыцари ордена св. Иоанна Иерусалимского, более дикие варвары, чем все их предшественники, набросились на памятник и стали делать из него камни для построек и известь. Под руководством архитектора Генриха Шлегехольта, эти вандалы разрушили мавзолей, чтобы воздвигнуть крепость, которую они, впрочем, не смогли защитить против Солимана. Раскопки, сделанные гг. Ньютоном и Пулланом, обнаружили местоположение мавзолея и привели к открытию удивительных фрагментов; теперь нужно отправиться в Лондон, чтобы увидеть эти остатки древнейшего ионийского памятника Анатолии; по мнению г. Рэйета, он был построен в половине четвертого столетия до Р. X.
Порт Будрун ведет лишь небольшую торговлю винными ягодами. Джова, лежащая на восточной оконечности залива Кос, есть просто пристань Муглы, которая находится километрах в двадцати от берега, внутри материка, окруженная горами: наконец, знаменитая Книда, главный город дорийского Гексаполя (союза шести городов), любимый город Афродиты, обладавший статуей богини, изваянной Праксителем, оставил после себя только руины, гробницы, циклопические стены, обломки которых послужили материалом для постройки дворцов в Египте для Магомета-Али; до сих пор там не нашли другого замечательного фрагмента, кроме статуи льва, перевезенной в Британский музей. Эврип или канал, которым сообщались два книдских порта, и через который были построены два моста, занесен илом. В настоящее время рынок юго-западной части Малой Азии находится на острове Косе: из города того же названия, лежащего на закругленном, в виде полукруга, берегу, ясно видны на севере Будрунская бухта, на юге мыс Крио, в древности Триоциум или Книдский. Кос Греческий, один из богатейших островов Архипелага, вывозит превосходные вина, лук, кунжут; он снабжает александринский рынок фруктами, гранатами, миндалем, лимонами, виноградом. Как и в Будруне, над Косом господствует крепость рыцарей-иоаннитов, заключающая барельефы греческого храма; главная площадь осенена платаном, имеющим 19 метров (около 9 сажен) в окружности, боковые ветви которого подперты мраморными столбами: под этим-то деревом, как гласит предание, Гиппократ давал свои медицинские консультации; ключи, бьющие из земли на юго-западе, на боках горы Оромедон, известны под именем «Отца врачебного искусства». Остров Кос, лежащий в соседстве вулкана Низирос, изобилует термальными источниками и плодородием своих равнин обязан главным образом, как это доказал Горсе, вулканическому пеплу, который был выброшен из кратера Низироса во время какого-нибудь древнего извержения. На других островных горах этих областей Архипелага, каковы Калимнос, Астропалея, Сими,—главное богатство жителей составляют губки, растущие на дне бухт; симские моряки употребляют для этого лова около дюжины больших судов и до 150 обыкновенных ладей. Все симиоты искусные водолазы и не боятся нырять в воды, где плавают акулы; обычай не дозволяет молодому человеку жениться прежде, чем он не научится собирать губки на глубине двадцати морских сажень (120 английских фут.). Сцена, которую описывает известная баллада Шиллера, часто происходила на острове Сими; там самая красивая девушка обещается отцом самому отважному молодому человеку, и толпа собирается на берегу бухты, чтобы присутствовать при состязании водолазов и решить, кто из них достоин руки красавицы.

Родос, или «Земля Роз», или вернее, «Гранат», как о том свидетельствуют древние монеты, есть один из самых больших островов Архипелага. В некоторых отношениях он занимает привилегированное положение: защищаемый горами Ликии от северо-восточных ветров, никогда не подвергающийся северному ветру, который, направляясь к тепловым фокусам Египта и Сирии, изменяется для него в северо-западный, освещаемый летом морскими бризами, этот остров пользуется более равномерным климатом, чем другие азиатские Спорады, и долины его менее плодородны, чем долины Хиоса и Митилены: к Родосу более, чем ко всякому другому острову Архипелага, применимы слова Гиппократа: «Там почти не знают различия тепла и холода; обе температуры сливаются одна с другой». Родос—это «супруга солнца», «местопребывание Гелиад», потому что здесь нет ни одного дня в году, когда бы солнечный луч не пронизывал облаков, «деревья здесь никогда не бывают без листвы, а дни без солнца». Расположенный в углу Малоазийского полуострова, Родос занимает центр схождения морских дорог, и в древности, когда корабли редко отваживались пускаться в открытое море, он был необходимою пристанью для купеческих флотов, которые, прибыв на угол континента, должны были менять направление пути. Этим объясняется важность торгового обмена, происходившего некогда в городе Родосе, «с которым, говорит Страбон, никакой город в мире не мог сравниться». В третьем и во втором веке до Р. X. родосцы были «первыми моряками в свете»; наследники финикиян, имевших колонии на их острове, они, подобно своим предшественниками, основали фактории и конторы даже в отдаленной Иберии, и имена города Розас, гор Рода до сих пор еще напоминают о посещении родосскими мореходами пиренейских мысов. Родосцы вели обширную торговлю с Синопом, снабжавшим их крымским хлебом, невольниками, рыбой «пеламидой» или стерлядью, и их политика всегда искала дружбы Византии, чтобы обеспечить себе беспрепятственный переход через Босфор. Положение Родоса давало ему также первостепенное стратегическое значение, и рыцари ордена св. Иоанна, изгнанные с материка, выказали большую дальновидность, основав свою главную крепость на далеко выдающейся в море оконечности острова, похожей на нос корабля, ударяющийся о берег; там они уравновешивали в продолжение двух слишком веков могущество турок в морях Леванта, и известно, с каким мужеством они сопротивлялись, в 1522 году, превосходным силам Солимана Великолепного. Нынешний город, едва занимающий шестнадцатую часть древнего пространства, принадлежит еще, одним из своих кварталов, к средним векам христианства: поднимаясь по извилистой Рыцарской улице, между расписанных гербами ворот «гостиниц», путешественник легко может вообразить себя перенесенным на четыре столетия назад в прошлое. Азиатский остров сохранил вид города феодальной Европы; к несчастию, замечательнейшие памятники Родоса рыцарей, церковь св. Иоанна Крестителя и дворец гросмейстеров ордена были разрушены в 1856 г. взрывом: старинные документы, изученные г. Гереном, заставляют его предполагать, что боченки с порохом,—причина катастрофы—были те самые, которые спрятал изменник Амарал, чтобы ускорить сдачу крепости в 1522 году.
Порты Родоса по большей части засорены: южная гавань, лежащая вне городских стен, не утилизируется более торговлею; северная, в которой стояли галеры рыцарей-иоаннитов, принимает теперь лишь самые мелкие суда; обыкновенные суда, т.е. среднего размера, могут проникать только в центральный порт, над которым поднимается полукругом амфитеатр города. Но и этот порт плохо защищен; вход его, который легко было бы прикрыть волноразбивателем, широко открыт опасным северо-восточным ветрам, и часто экипажи должны сниматься с якоря и направлять паруса в бухточки континента, особенно в великолепную гавань Мермеридже, бассейн с извилистым входом, окруженный высокими холмами. Остров, довольно массивный в своих контурах, не имеет более ни одного посещаемого порта к югу от города Рыцарей; суда не заходят более в бухту, над которой господствует древний акрополь Линдос, около середины восточного берега. Недалеко оттуда, к северу, видны остатки древнего финикийского города Камирос, некрополь которого дал искателям тысячи любопытных глиняных изделий.
К юго-западу от Родоса, продолговатый остров Карпатос ведет незначительную торговлю, но большинство его жителей уходят временно на заработки, в качестве плотников или резчиков на дереве. Что касается островитян, жителей маленького Казоса, который продолжает цепь островов по направлению к Криту, то они занимаются почти исключительно мореходством, и флаг их появляется во всех портах Средиземного моря.
После смертоносной высадки, которую сделали турки во время войны за независимость Греции, остров был совершенно покинут жителями. Большинство земель Архипелага пользуется полным самоуправлением: с них спрашивают только налог.
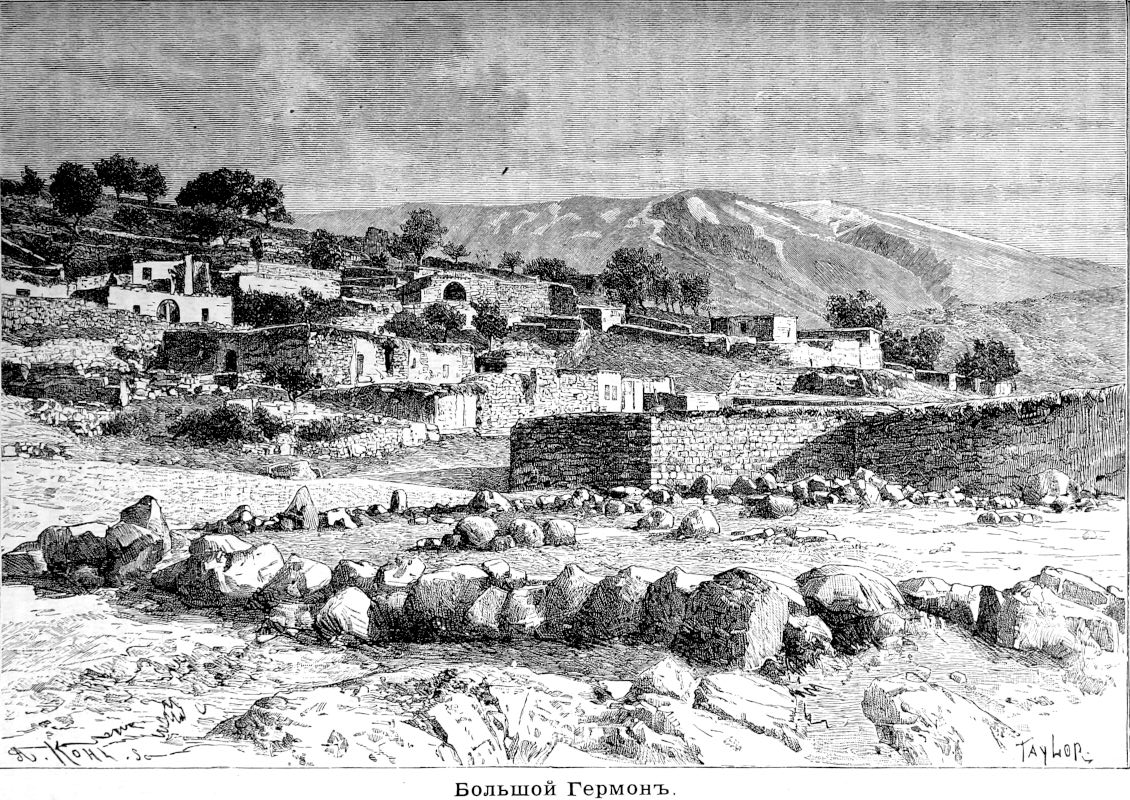
Главные города анатолийской покатости Эгейского моря и турецких островов Архипелага, с их приблизительным народонаселением:
На континенте: Смирна—200.000 жит., Манисса (Магнезия)—35.000 жит., Кидония (Айвали), по Гуману—35.000 жит., Айдин, по Апостолидесу—32.000 жит., Киркагач—20.000 жит., Ак-Гиссар—20.000 жит., Чесме, в 1882 г.—16.285 жит., Пергам, по Гуману—16.000 жит., Алашер (Филадельфия)—8.000 жит., Ушак, по де-Мутье—15.000 жит., Тира—15.000 жит., Лацата, в 1882 г.—13.880 жит., Кассаба—12.000 жит., Мугла, по Шерцеру—11.000 жит., Бурнабат—10.000 жит., Вурлах—10.000 жит., Сома—10.000 жит., Гердиз—10.000 жит., Назли—10.000 жит., Денизли—10.000 жит., Кула—9.000 жит., Эдремид—8.000 жит., Байндир—8.000 жит., Эдемиш—8.000 жит., Буладан—8.000 жит., Енидже-Фокия—8.000 жит., Гедиз, по де-Мутье—7.500 жит., Фокия (Фокея)—7.000 жит., Менемен—7.000 жит., Скала-Нова—7.000 жит., Сокия—7.000 жит., Сигаджик—5.000 жит., Севри-Гиссар—4.000 жит., Дикели, по Гуману—4.000 жит., Кади-Кой на Меандре—4.000 жит.
В Архипелаге:
| Острова | Главные города | |
| Тенедос | 7.000 жит. | 3.000 жит. |
| Митилини | 60.000 „ | 20.000 „ |
| Хиос | 70.000 „ | 26.000 „ |
| Ипсара (Псара) | 6.000 „ | - |
| Самос | 49.000 „ | 7.000 „ |
| Икария (Никария) | 7.000 „ | 1.000 „ |
| Патмос | 3.000 „ | - |
| Дерос | 3.000 „ | - |
| Калимнос | 16.000 „ | 15.000 „ |
| Кос | 25.000 „ | 11.000 „ |
| Низирос | 2500 „ | - |
| Сими | 7.000 „ | 7.000 „ |
| Телос | 1.000 „ | 600 „ |
| Родос | 27.000 „ | 11.000 „ |
| Карпатос | 5.000 „ | |
| Казос | 5.000 ,, | |
На южном побережье полуострова, порт Макри, настолько обширный, что мог бы вместить все корабли Средиземного моря, имеет, однако, на своих берегах только одну деревню, почти совершенно покидаемую жителями во время летних жаров, но очень оживленную зимой, когда она делается торговым пунктом. Там находился в древности Тельмес, город гадателей, от которого сохранились еще важные остатки. Предгорья Крагуса, господствующие над портом, пробиты на боках гротами, служившими гробницами, из которых иные высечены в форме храма, с папертью, перистилем и фронтоном; при входе в один из этих могильных склепов одна колонна потеряла свою нижнюю часть вследствие разрыва стены, но капитель её осталась повисшей на скале.
Замечательные обломки ликийской архитектуры были найдены в руинах Ксаноа, города, стоявшего некогда на уединенном холме среди аллювиальной равнины, по которой протекает река Эрен-чай до впадения в море, к востоку от величественного массива Семи мысов. Драгоценнейшие ксанфские фрагменты, собранные английским путешественником Феллоз, занимают одну из зал Британского музея: это гробницы и барельефы, очень любопытные в истории искусства, так как эти изваяния, эллинские по верности форм, грации поз, изяществу одежды и оружия, имеют, тем не менее, оригинальный характер, как и подобало народу, долгое время независимому, который находился в сношениях с нациями внутренней Азии, так же, как с ионийцами и дорийцами побережья; в руинах этих гористых областей все скульптурные произведения отличаются изяществом и чистотой стиля. У термилаев или ликийцев были свои особенные письмена, имевшие некоторые знаки, общие с азбукой киприотов: их надписи начертаны знаками, которые хотя представляют много сходства с архаическим эллинским языком и, на некоторых гробницах, сопровождаются греческим переводом, не могли быть, однако, вполне дешифрированы. В своих изваянных гробницах, как и в храмах, ливийские зодчие воспроизводили в точности все детали деревянных (дубовых или сосновых) хат, какие крестьяне строили в ту эпоху и строят еще по настоящее время: все тщательно скопировано: бревна сруба, балки, перекладинки и драницы; даже орнаменты на углах походят на пучки травы по краям земляной крыши, плохо выравненной катком. Тем не менее, разнообразие воспроизведенных архитектурных форм значительно, и многие из ливийских гробниц оканчиваются стрельчатым коньком.
Эти развалины кажутся тем более живописными, что горы изрезаны дикими ущельями, над которыми господствуют грандиозные кручи склонов. Так, древняя Пинара, ныне Минара, окружена вершинами, из которых одна высится на несколько сот метров, в виде громадной башни, прорезанной по бокам, словно амбразурами, тысячами могильных гротов, над которыми царят орлы. С тех пор, как Феллоз, так сказать, открыл Ликию, во время своего памятного путешествия 1838 года, исследователи десятками насчитывают ликийские города и местечки, которые они посетили в долинах и на берегу моря. Вот Тлос, на боку гор, возвышающихся на востоке, против скал Пинары; вот Патара, близ Ксанфа, с её большим театром, высеченным в камне горы, дальше на восточном берегу, стояли Феллос и Антифеллос; другие города, без названий, опоясанные стенами, совершенно сохранившимися, заключают внутри ограды только деревья. Между недавно исследованными развалинами самые замечательные были руины Гиель-баши, открытые в 1842 году австрийским путешественником Шенборном. Гора, господствующая на западе над глубокой долиной реки Дембра-чай, увенчана небольшим акрополем, окруженным гробницами, и прямоугольным памятником, главный фасад которого и четыре стены внутреннего двора были украшены фризами в барельефе, общее протяжение которых превышало сто метров. В этих изваяниях развертывались, осененные ветвями деревьев, все важнейшие сцены Илиады и Одиссеи, охота Мелеагра, битвы амазонок и центавров. Эти удивительные фризы из Гиель-баши, изваянные со всей эллинской грацией и с замечательным богатством замысла, находятся в одном венском музе. Античное название лежащего в развалинах города осталось неизвестным.
Разделенная на множество бассейнов, из которых иные даже не имеют видимого истечения к морю, Ликия должна была распадаться во все времена на кантоны, имевшие отдельное экономическое существование; каждая долина, каждый горный массив имели свой город; нигде не было естественного торгового центра для обширной территории; политической связью послужило соединение городов в союз или конфедерацию. Но если Ликия изрезана до бесконечности со стороны моря, где процветала эллинская цивилизация, то она представляет более правильные и более доступные, в смысле сообщения, формы рельефа в своих северных областях, где она постепенно сливается с внутренними плоскогорьями, и с этой-то стороны и проникло турецкое владычество, принесшее с собой административную централизацию. Относительно значительный город, Эльмалу, основался в замкнутом бассейне, который находится почти в геометрическом центре обширного полукруга, описываемого берегами Ликии, между заливом Макри и заливом Адалия. Это—город цветущий, населенный преимущественно греками и армянами, но имеющий также турецкий квартал, над которым господствует богатая и прелестно изукрашенная мечеть. Главный промысел жителей Эльмалу—выделка кож; однако, здешние кожевенные заводы, вместо того, чтобы заражать атмосферу, как делают подобные заводы европейских городов, распространяют приятный запах, происходящий от употребления, для дубления кож, коры козьего дуба. Смирниоты, греки и левантинцы приезжают сюда делать непосредственно закупки сафьяна, кож, фруктов, красильных веществ. Два порта, с которыми столица Ликии ведет самую значительную торговлю—Макри и Адалия; кроме того, она имеет торговые сношения с Феникой, «город фиников», который вполне оправдывает свое название Маис (Мейс, Мегисте) или Кастельориццо, островная пирамида домов и разрушенных укреплений, возвышающихся на берегу бухты, имеет некоторую важность только по своей гавани, запущенной от ветров, да по своей торговле с Александрией: горы Ликии и Карамании доставляют лес Египту.
Адалия, столица Памфилии, признается большинством археологов за Атталею, город Аттала Филадельфа, от которого она, будто-бы, и получила свое название. Расположенная в форме греческого театра вокруг кругообразного порта, вход в который прежде был защищен двумя крепкими замками, она поднимается уступами по отлогому скату холма: снизу одним взглядом видишь весь город, заключенный в двойной зубчатой ограде с массивными башнями по бокам, кое-где в городских валах и стенах вставлены римские обломки. Окруженная садами и стоящая при выходе очень плодородной равнины, Адалия ведет некоторую торговлю, особенно с Египтом, и наружность её жителей так же, как местный диалект, свидетельствуют о смешении между туземными турками и арабскими переселенцами; почти все торговые дела монополизированы греческими негоциантами. Античные руины довольно многочисленны в этой области Памфилии: к востоку от Адалии, на берегу залива, Эски-Адалия или «Старая Адалия», по гречески Сиде, показывают удивительные остатки эллинского театра; к юго-западу, остатки Ольбии господствуют над зеленеющей долиной, где адалийцы построили свои загородные дома вблизи маленьких каскадов; к северо-западу, на уединенном плато, находятся развалины Термесса Большого, покрывающие значительное пространство; как почти во всех греческих городах, театр занимает там, на краю утеса, место, откуда взор обнимает обширнейший горизонт долин и гор.
Если бы дороги не были так редки и так дурно содержимы, Адалия была бы очень оживленным портом, как естественное место сбыта для произведений замкнутых бассейнов, ограниченных с севера массивом Султан-дага и горами, где берет начало река Меандр. В этой области основалось несколько промышленных городов, произведения которых отправляются в Смирну по железной дороге или в Константинополь по афиум-кара-гиссарской дороге. Бульдур, на восточном берегу озера того же имени, раскинулся на пространстве нескольких квадр. километров в узкой равнине: это—Полидорион греков. Этот город, подобно Эльмалу, имеет кожевенные и сафьянные заводы, ткет и белит полотно, отправляет в Смину адрагантовую камедь, получаемую с одного вида астрагала, похожего на утесник (дикий терн). Исбарта, древняя Барида, над которой господствуют куполы тридцати мечетей, ведет еще более значительную торговлю, чем Бульдур, и имеет более удобное сообщение с морем; ее сравнивают с Бруссой по красоте вида и богатству окрестной местности, покрытой виноградниками, полями мака и другими культурами, составляющими резкий контраст с пемзовыми откосами и трахитовыми склонами гор; в этой равнине соединяются многочисленные истоки Ак-су (Белой реки), которая изливается в море между Адалией и Эски-Адалией, пройдя плодоносные «равнины хлопчатника» (Памбук Овасси). Западный приток р. Ак-су проходит у основания скал, на вершине которых лежат развалины античного Сагаласса; ближайшая турецкая деревня называется Агласан,—название, очевидно, происшедшее из первоначальной формы. Сагаласс, мужественно оказавший сопротивление армии Александра Македонского, был одним из сильнейших укрепленных городов Малой Азии и в то же время одним из тех, где на тесном пространстве был соединен прекраснейший ансамбль храмов, дворцов, портиков, театров и других общественных зданий, составлявших необходимую принадлежность каждого греческого города. Над террасой, совершенно ровной, где стоял античный город, господствует с северной стороны вертикальная скала, тогда как на юге она обрывается крутыми откосами: конусообразная скала, правильная, как вулкан, высится впереди террасы, которая выдвинула к ней узкий перешеек: эта скала, командующая всем плоскогорьем, увенчана руинами акрополя; на восточной оконечности площадки, театр, еще более обширный, чем театр Гиераполиса, и не менее хорошо сохранившийся, хотя местами ореховые деревья просунули свои корни между ступенями,—величественно поднимается над другими зданиями, поваленными или обрушивающимися. К югу от Сагаласса, другая крепость писидийцев, Кремна, занимала уединенное плато, которое считали неприступным: у подножия этой скалы теперь приютилась деревня Гирме.
Эгердир—из греческого Акротири—лежащий на южной оконечности озера того-же названия, очень красивый город; амфитеатр рыболовных заведений, домов, мечетей, валов и башен, группы деревьев, над которыми высятся голые кручи скал, зеркальная площадь голубых вод, лесистые острова, мысы, следующие один за другим на берегах бассейна до отдаленных, подернутых фиолетовой дымкой гор,—все это придает ему чисто итальянский вид. Бей-Шехр или «Город бея», тоже построенный на берегу озера, при реке, впадающей в Соглагель, также очень живописный город, но без большой торговли. Очевидно, страна была гораздо богаче и населеннее, когда в этой области озер стояли римские города, Апамея (Apamea Cibotus), Аполлония, Антиохия писидийская, от которой сохранились еще величественные развалины. Высокие аркады водопровода, приносившего столице Писидии чистые воды Султан-дага, проходя красивой дугой через плато, где был расположен город, представляют грандиозное зрелище. Никакой новый город не сменил собою древней Антиохии. Аполлония, на притоке Эгердирского озера, заменена большим местечком Улубурлу, получившим в последнее время известность, благодаря открытию надписи, подобной той, которая была найдена в Анкире.
Коние, древний Икониум, главный город провинции Ликаонии, затем столица Сельджукской империи, занимает стратегическую позицию на дороге из Сирии в Константинополь, у основания гор, господствующих над областью равнин к югу от Большого Соляного озера. Армии часто сталкивались в этой части Малой Азии, в эпоху крестовых походов, затем во время междоусобных войн турок; в 1832 году, египетские силы, под начальством Ибрагима-паши, одержали здесь победу, которая открыла бы им ворота Царьграда, если бы не вмешательство европейских держав. Коние, город, пришедший в упадок, более любопытен своими средневековыми памятниками, чем своей теперешней промышленностью. Его старинные стены и башни сохранили изваяния и надписи, греческие, арабские, турецкия, напоминающие различные господства, под которые последовательно подпадал Икониум; мечети эпохи Сельджукидов, почти все сильно поврежденные временем,—бесспорно прекраснейшие мусульманские храмы на полуострове по изяществу арабесок и разнообразию изразцов; «минарет, поднимающийся до звезд», есть образцовое произведение искусства по нежности форм и колориту украшений. Оазиз садов, окружающий Коние, так сказать, осаждается пустыней; но в нескольких часах к западу оттуда открываются небольшие тенистые долины, снабжающие город овощами и фруктами. К северо-западу от Коние, Зилле, где над массой домов с крышами из красной земли высятся стены трахитовых скал, тоже красных—есть цветущее местечко, сплошь населенное греками, которые происходят от древнего эллинского населения, изгнанного из Икониума; в окрестностях находятся залежи пенки. Почтовая служба, то-есть перевозка почты в Анатолии, вверена с незапамятных времен одному татарскому племени из окрестной Коние, все люди которого могут с гордостью сказать, что никогда никто из них не оказался неоправдавшим общественного доверия. Редкий путешественник, даже из числа очень хороших наездников, мог поспевать за этими курьерами в их быстрых разъездах по полуострову. Гамаллы или носильщики в Константинополе и Смирне тоже по большей части уроженцы окрестностей Коние.
К западу от этого города, редкия скопления домов или хат, которым дают название городов, следуют одно за другим у северного основания Тавра, там, где ручьи чистой воды еще не иссякли, и где в сезон лихорадок туземцы имеют по близости горные пастбища для ежегодных переселений. Караман, некогда главный город провинции Карамании, находится уже почти в самом сердце гор, на высоте 1.900 метров. Эрегли лежит на высоте не более 1.000 метров, но дома его сгруппировались на холме, над болотистой местностью. Кара-Бунар или «Черный фонтан» совершенно покидается населением в летнее время; жители его оставляют в эту пору года разрабатываемые ими соляные и селитряные копи и переселяются в яйлы Караджа-дага. Наконец, Нигдех, у восточной оконечности бассейна, лежит на высоте около 1.500 метров, у подошвы предгорий Ала-дага. Недалеко оттуда, деревня Киз-Гиссар, «Замок девушки», или Килиси-Гиссар, «Замок церкви», стоит на «Семирамидином шоссе», где была построена деревня Тиана, родина магика Аполлония. Исследователь Гамильтон мог с точностью определить положение Тиапы, благодаря открытию бьющего из земли ключа, который древние авторы описывают под именем Асмабея. Этот источник, посвященный Юпитеру, образует пруд холодной, солоноватой, слегка сернистой воды, посредине которого бьет ключ, поднимающийся почти на полметра над поверхностью, при чем, однако, бассейн никогда не переливается через края. Очевидно, этот резервуар представляет то же явление, как и наши водометы: жидкость вылетает через центральное отверстие и уходит через трещину дна. Торговая и военная дорога, которою во все времена следовали караваны и войска из Икониума в Тиану, загибается полукругом, чтобы идти вдоль основания гор через Ларанду и Кибистру, то-есть через Караман и Эрегли; далее на север солончаковые болота, недостаток продовольствия и чистой воды делают путешествие слишком утомительным для того, чтобы значительное число людей могло пускаться через эти негостеприимные пространства. Таким образом очертания морского берега и параллельные хребты береговых гор в точности воспроизводятся кривой, описываемой главной большой дорогой на высоких плоскогорьях. В этой местности английский путешественник Девис открыл недавно гиттитские надписи.
Отделенные от внутренней Анатолии высокими горами, берега Крутобереговой Киликии имеют лишь маленькия гавани, менее оживленные, чем прежние порты, судоходство которых поддерживалось торговлей многолюдного Кипра. Алайя, древний Коракесион,—село, приютившееся у подошвы островной скалы, соединенной с материком песчаным перешейком; Селинти, Селинос древних греков,—теперь бедная деревушка; Анемурион, на крайнем южном выступе Малой Азии, представляет лишь обширный некрополь, и нынешнее местечко Анамур расположилось в некотором расстоянии от развалин, при устье горного потока. Дальше, бухточка Чалиндрех, Келендерис в древности, служит портом для судов, отправляющихся на остров Кипр. Что касается скалы Провансальского порта, некогда укрепленной родосскими рыцарями, то теперь там никто не обитает, а древняя Селевкия (Селевко), при устье Гек-су (Каликадна), представляет лишь группу мазанок.
Торговое движение должно было переместиться к востоку, на берега сельской Киликии, где оканчивается диагональная дорога Малой Азии, и где равнины и плодородные долины представляют обширный пояс культурных земель. Мерсина, коммерческий порт этой области, была еще в половине настоящего столетия маленькой группой хат, окруженной миртами, откуда и произошло данное ей имя, теперь же это торговый город, порт которого, слишком открытый ветрам с моря, окаймлен набережными и снабжен молом (движение судоходства в мерсинском порте в 1880 г.: 110.000 тонн). Город частию построен из мраморных фрагментов, лежавших на земле, обломков греческого города. В нескольких километрах к западу другие развалины указывают местоположение аргейского города Соли, где говорили тем неправильным языком, который подал повод дать неверным оборотам речи во всяком языке название «солецизмов». Дальше видны римские колоннады Помпеиополиса, приводившие к овальному порту, набережные которого еще вполне сохранились; но самый бассейн заполнен илом, и дюны прибрежья продолжаются поперег входа. Памятник более любопытный в некоторых отношениях—это Дерикли-Таш или «Стоячий камень», огромный столб, воздвигнутый, может быть, во времена доисторические: по словам Ланглуа, эта каменная глыба, потертая у основания верблюдами, которые чешутся об нее, имеет 15 метров в высоту, а объем её около 120 кубич. метров; она весит по меньшей мере 3.000 тонн и может поспорить величиной с самыми могучими мегалитами Бретани. Не есть ли это менгир, или, скорее, один из тех столбов, которые финикияне обыкновенно ставили по два у входа в храмы?
Отличная дорога, новой постройки, соединяет Мерсину с городами Тарсом и Аданой. Тарс, лежащий близ правого берега реки Кидна или Тарсус-чай, на сливающейся с равниной покатости одного предгорья массива Булгар-даг, есть, между прославившимися городами Малой Азии, один из тех, которые претендуют на глубочайшую древность: по одной восточной легенде, занимаемое им место есть первая равнина, обсохшая после спада вод всемирного потопа. Пока речные наносы не заполнили порта и когда Кидн был еще судоходной рекой, Тарс занимал очень выгодное положение, чтобы сделаться торговым центром, между Сирией и Малой Азией, через ворота Киликии, вход в которую он охранял. И действительно, во времена Цезаря и Августа он был соперником Александрии, на которую он глядел через море. Школы его считались лучшими в свете, превосходившими даже афинские, и философы его разносили свет своего знания на Западе. Город сделался очень богатым и пышным, Марк-Антоний возвел его на степень столицы свой азиатской империи: здесь он отпраздновал свое бракосочетание с египетской царицей Клеопатрой; император Юлиан был похоронен в Тарсе. Но затем войны разорили город, протекавшая через него река удалилась к востоку и перестала носить суда, порт обмелел, и Тарс очутился посреди материка. Теперь там не видно более никаких следов его былой славы; изредка только кое-какие античные фрагменты зазвенят под ударом заступа; самое любопытное здание—мечеть, построенная, по преданию, на том самом месте, где родился Павел, «апостол язычников». Недалеко от городских стен открыли огромный склад изделий из терракотты, представлявших преимущественно обетные фигурки: вероятно, тут находилась фабрика этих предметов благочестия. После Мекки и Иерусалима, одно из главных мест пилигримства мусульман—это грот в окрестностях Тарса, одна из тех многочисленных пещер, где легенда помещает местопребывание «семи спящих отроков».
Летом город делается нездоровым, и зажиточные жители бегут в долины Булгар-дага, на Ишмехские минеральные воды, в Козне, в Немрун, в Гюлек-Базар, близ Киликийских Ворот. Лучшее украшение Тарса составляет его обширный сад, зеленеющий пояс, откуда сквозь ветви деревьев виднеются поломанные аркады, пошатнувшиеся столбы, остатки римского водопровода; но все эти руины кажутся мизерными, когда, при повороте тенистой тропинки, вдруг очутишься перед громадным Дюнюк-Даш или «Упавшим камнем». Эта обширная четыреугольная каменная масса, пустая внутри, имеет вид колоссальной глыбы. Если смотреть с берегов Кидна, сквозь ветви кипарисов и фруктовых деревьев, Дюнюк-Таш походит на песчаниковую скалу: его можно принять за произведение природы, в роде тех причудливых каменных масс, какие часто встречаются в странах, потрясаемых геологическими деятелями. Это странное здание, очевидно, очень древнее, имеет 90 метров в длину, не считая придаточных построек; ширина его 42 метра, а вышина около 8 метр.; плитки белого мрамора, которыми были облицованы стены, рассеяны по земле. Как она изображена на медалях, эта исполинская масса служила пьедесталом статуи какого-то царя, державшего лук и колчан и стоявшего на символическом животном, вооруженном рогами. Произведенные до сих пор раскопки не обнаружили ни времени сооружения этого памятника, ни его названия. Некоторые ученые видят в нем место прорицаний; по мнению археолога Ланглуа, которое опирается на одном тексте Страбона, это была гробница первого Сарданапала, удалившагося в Киликию после потери своего царства: на вершине здания, без сомнения, высилась колоссальная статуя, изображенная на многочисленных монетах Тарса.
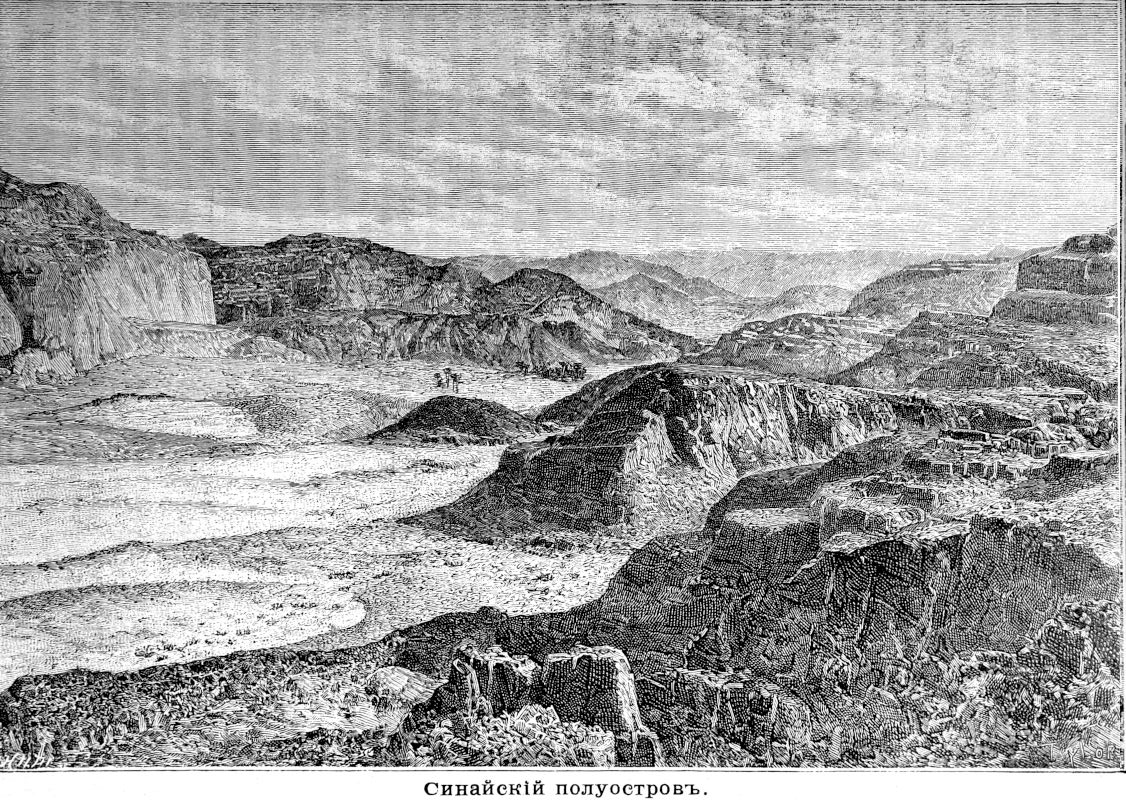
Адана унаследовала часть торговой важности древнего Тарса. Лежащая, подобно этому последнему, в очень плодородной местности, окруженная садами, полями хлопчатника и плантациями сахарного тростника, она также находится на большой диагональной дороге Малой Азии; в этом месте Сарус или Сейгун, текущий на восток, и чрез который построен мост о восемнадцати арках, выходит из области холмов, чтобы вступить в обширную аллювиальную равнину, которая увеличивается каждый год, впрочем, на незначительную ширину по направлению к Кипру и Сирии. Верхняя долина этой реки, как и долины её притоков, составляют естественные пути, открывающиеся в направлении Кайсарие и Кизыл-Ирмака. Кроме того, река Пирам или Джигун настолько близко подходит к Адане, что этот город сделался естественным местом сбыта для произведений всего бассейна; там оканчивается историческая дорога между верхним бассейном Евфрата и побережьем Киликии. Сверх того, эта река представляет, в сравнении почти со всеми другими реками Малой Азии, ту выгоду, что она судоходна в своем нижнем течении; суда, зафрахтованные на о. Кипре и в Сирии, бросают якорь перед набережными города. Благодаря плодородию окружающей местности и схождению дорог, Адана сделалась средоточием большой торговли, и теперь приступили к постройке узкоколейной железной дороги, длиной 60 километров, которая соединит ее с портовым городом Мерсиной через Тарс. Хотя вообще более здоровый, чем этот последний, город на Сейгуне становится, однако, опасным для пребывания в период господства лихорадок, и тогда деревни окрестных гор населяются временными эмигрантами.
В верхней долине Сейгуна, к северу от армянского города Гаджин и на границе двух вилайетов, Сивасского и Аданского, недалеко от нового города Азизие, маленький городок Сар или Сартере занимает местоположение древней Команы, называвшейся Гиераполисом или «Святым городом». Господствующая над развалинами гора называется еще Куменек-Тепе, но самое имя Комана до сих пор еще не открыто на памятниках. Все здания, храмы, театры, арены, гимназия, относятся, по времени постройки, к эллино-римскому периоду; однако, святилища представляют—вероятно, согласно требованию священных традиций—скорее египетский, чем греческий характер; собственно храм не имеет колонн, и жилища жрецов расположены вокруг него, не представляя архитектурного единства. Многочисленные гроты открываются в стенах гор, господствующих над городом и его богатой равниной, которую во время Страбона обработывали шесть тысяч рабов. Туркменские княжества Козан-оглу и Менеменц-оглу, существовавшие в верхних долинах Сара и Пирама, утратили свою независимость; еще в половине настоящего столетия они были связаны с Турецкой империей лишь вассальными отношениями к султану, как сюзерену.
Главный город в верхнем бассейне Джигуна—Альбистан, часто обозначаемый игрой слов под именем Эль-Бостан или «Сад»; он и в самом деле утопает в зелени; обширная, хорошо орошаемая равнина, где оканчиваются едва заметными волнообразными повышениями и понижениями почвы скаты окружающих гор, кажется как-бы предназначенной к основанию большого города, посредника торговли между верхним Евфратом и морем. В этой равнине соединяются все верхние притоки Джигуна, которые спускаются отсюда на юг рядом теснин, завершаемых грозным ущельем Ахир-дага; но в глазах туземцев ни один из этих горных потоков не может быть признан за настоящую реку: с благоговением, какое питают все народы к постоянным источникам, они смотрят как на истинное начало Джигуна, на маленький бассейн, где бьют ключем воды, выходящие из глубоких расселин, и вытекает постоянно одинаковый по объему ручей, орошающий сады. В Альбистане есть несколько армянских семейств, но к юго-западу от города, гайканская конфедерация, состоящая из шести маленьких республиканских общин, сохраняла независимое существование до недавнего времени в возвышенной долине, называемой Зейтун или «Масличная», хотя маслины не растут в этом горном бассейне, лежащем на высоте по крайней мере 1.500 метров. В этом армянском мире, состоящем почти всецело из приниженных подданных, это был единственный пример существования общины вольных горцев, сохранявших свою независимость в течение веков. В числе около десяти тысяч душ эти гайканы, все отлично умеющие владеть оружием, оградили свою территорию несколькими укреплениями, воздвигнутыми в горных дефилеях, и еще недавно не позволяли мусульманам проникать в их селения; они не платили альбистанскому паше никаких налогов, кроме арендной платы за земли, снятые ими в равнине.
Мараш, где половина населения состоит из армян, прислонился к предгорьям Ахир-дага, господствующим над слиянием рек Ак-Су и Джигуна, при выходе последней из её главного ущелья. Этот промышленный город, женщины которого ткут бумажные материи и вышивают ткани золотом и серебром, в летние месяцы делается временной столицей вилайета; это—яйла, куда переселяется паша, когда жары заставляют его покинуть аданский кишлак. К юго-западу от Мараша, на западной покатости долины Джигуна, Сис—местечко, построенное на боках и у основания крутой горки, тоже было некогда столицей: цари Армении имели там пребывание в течение почти двух столетий, с 1182 по 1374 год, и до сих пор еще видны остатки тарбаса или дворца такаворов. Перестав быть царской резиденцией, Сис остался духовной метрополией; в тамошнем монастыре царствует патриарх, которого турецкое правительство хотело-было сделать соперником русского подданного, эчмиадзинского патриарха-католикоса. Все окрестные епископы посылают пребывающему в Сисе прелату десятину, платимую их крестьянами. На дороге, спускающейся к Джигуну, один холм увенчан крепким замком Аназарб (Хайн-зарба мусульман), который до Сиса был резиденцией армянских царей, и имя которого прославлено сохранившимися там римскими руинами. Два древних водопровода, хотя прерывающиеся там и сям и потерявшие уже свои изваяния и надписи, все еще представляют грандиозные памятники античного зодчества: они продолжаются один на 12, другой на 20 километров, до гор, господствующих над равниной с севера и с северо-запада: их плодотворные воды преобразили окружающую пустыню в необразимый цветущий сад, так что в двенадцатом столетии Эдризи мог сравнить окрестности Аназарба с дамасским «раем».
К востоку от Аданы, древняя Мопсуэста, Мамистра крестоносцев, Миссис армян и турок, охраняет переход через Пирам, на котором в этом месте построен мост о девяти арках: мы уже находимся около основания полуострова, и крутые склоны Джебель-эль-Нура или «Горы света» обозначают естественный рубеж между двумя странами, Малой Азией и Сирией; в этой пограничной области встречаются группы всякой нации—турки и греки, армяне и курды, арабы, черкесы, ансариехи, негры и цыгане. Мопсуэста, стоящая на крайней границе эллинского мира, принадлежала также к Сирии и внутренней Азии по смешению культов. Её Аполлон был скорее восточный Ваал, чем греческое божество; в ней для всех богов были храмы и поклонники; точно также Эгея (Айяс, Лаяццо), «город волн», построенная на северной стороне Александретского залива, принимала все религии бассейна Средиземного моря; во время крестовых походов, когда итальянские мореходы основали здесь свой главный складочный пункт, Мопсуэста сделалась христианским городом. Сменивший ее киликийский порт находится в нескольких километрах западнее, недалеко от устья Пирама: это—местечко Юмурталик (Чумур-Талек); теперь поговаривают о том, чтобы соединить этот городок с Аданой железнодорожной ветвью, которую нужно будет защитить от речных наносов, отведя течение реки к западу. Айяс и Юмурталик суть в числе портов, которые предполагают взять за исходные пункты железной дороги от Средиземного моря к Персидскому заливу. Путь вышел бы длиннее, но строители выиграли бы тем, что при этом направлении можно было бы обойтись без подъемных рамп для перехода через Аманус.
На восточном скате Джебель-эль-Нура, близ дуги залива, который наидалее к северу вдается внутрь материка, две сближающиеся скалы, соединенные прекрасной аркадой из черного гранита, съуживают дорогу: как и ущелье Гюлек-богаз, это тоже «ворота Киликии», называемые также «Воротами Тамерлана», иначе «Железными воротами» или «Черными воротами», Кара-Капу. Сколько людей было перебито для завоевания этого узкого прохода, открывающего дороги Азии! Со времен доисторических не было ни одного столетия, которое бы не видело там кровопролитных битв.
Города южной покатости Малой Азии, с их приблизительным населением:
Караманский вилайет: Коние—40.000 ж., Исбарта—30.000 ж., Адалия, по Спратту—13.000 ж., Бульдур, по Гамильтону—12.500 ж., Эльмалу, по Шенборну—10.000 ж. Караман, по Гамильтону—7.500 ж., Нигдех, по Гамильтону—6.000 ж., Эгердир, по Гамильтону—5.000 ж., Эрегли—5.000 ж., Зилле—4.000 ж.
Аданский вилайет: Адана—25.000 ж., Мараш—52.000 ж., Тарс, по Гири—12.000 ж., Хаджин—10.000 ж., Мерсина, по Гири—10.000 ж., Сис—5.000 ж., Альбистан—1.000 жит.
Земля в одно и то же время азиатская и европейская по своей географии, истории и населению, Анатолия представляет в своем социальном и политическом состоянии двойное движение упадка и прогресса, прелюдию неизбежных переворотов. Греки возрастают в числе, а турки уменьшаются; города морского прибрежья населяются, а города внутренних областей приходят в упадок. Современная промышленность представлена в Смирне самыми грандиозными из её произведений, а в непосредственном соседстве обитают в походных палатках кочевые племена, не менее лишенные всяких материальных удобств жизни, чем беднейшие киргизы Средней Азии. Некоторые округа поморья возделаны так же тщательно, как сельские местности западной Европы, тогда как в других местах боязнь разбойников заставляет покидать поля и деревни. Иной город, даже в соседстве прибрежья, как бы осаждается бандитами, и именитые жители не отваживаются выходить за городскую ограду иначе, как под охраной многочисленных эскортов. Основываются огромные имения, низводя целые населения в замаскированное крепостное состояние. Жестокия голодовки, как, например, 1874 и 1878 годов, разом обезлюднивают целые округа. Внутри страны можно ехать целые дни, не встречая других следов пребывания человека, кроме могильных курганов, да развалин эллинских или римских городов. А между тем торговля, указатель земледельческой и промышленной деятельности, возрастает из года в год. Если Азиатская Турция перестала вывозить марену, если, вследствие болезни, появившейся на коконах, в ней уменьшилось производство шелка-сырца, за то она экспортирует теперь больше, чем прежде, хлопка, опиума, винограду. Одна только Смирна имеет в настоящее время более значительную внешнюю торговлю, чем какую имела вся Анатолия в начале нынешнего столетия. Вероятно, в целом есть прогресс: общая равнодействующая всех элементов, находящихся в столкновении, указывает, повидимому, на возрастание народонаселения и его благосостояния.
Сильный контраст, замеченный теперь между двумя половинами Анатолии—морским прибрежьем, которое стремится принять европейский характер, и внутренними плоскогорьями, которые принадлежат еще к Центральной Азии,—не может не ослабеть в близком будущем. Разделенный на расходящиеся бассейны, имеющие скат к разным морям и отделенные один от другого впадинами без истечения, полуостров Малой Азии не имел географического единства; но это единство, в котором ему отказала природа, он начинает приобретать, благодаря деятельности человека. Торговля, облегчаемая путями сообщения, уравнивает первобытные препятствия, отнимает у раздельных возвышенностей, у крутых склонов гор, их влияние, некогда решающее, на движения истории, ослабляет мало-по-малу узы зависимости, привязывавшие населения к родной земле. Уже вагоны железных дорог начинают конкуррировать в Малой Азии с 160.000 вьючных верблюдов, следующих караванными путями. Когда внутренняя Анатолия сделается столь же легко доступной, как страны Европы и Америки, уже обладающие обширной, далеко разветвляющейся сетью железных путей, понизится и барьер, отделяющий однообразное нагорье от зубчатой, изрезанной бухтами и бухточками, окраины морских берегов. Мало-по-малу, шаг за шагом, действие, идущее извне, почувствуется даже на горных пастбищах, где бродят юруки со своими стадами. Самая форма Малой Азии, так сказать, отдает ее заранее в руки предприимчивых европейцев. С трех сторон этот остров омывается морем, и от Батума, сделавшагося русским владением, до Мерсины, лежащей против острова, присоединенного уже к Британской империи, все порты представляют как бы пункты атаки. Наконец своим континентальным фасом Анатолия, прежде имевшая свободное сообщение с курдскими, тюркскими и туркменскими племенами лидийских гор, теперь граничит с европейской державой; она, так сказать, обойдена в тыл, и с этой стороны тоже сеть дорог будет быстро разростаться.
В этом деле постепенного преобразования Малой Азии инициатива принадлежит не Стамбулу, а Смирне «Неверной». Естественно, что константинопольские оттоманы нехотя занимаются общественными работами, которые достанутся в наследство иностранцам. Железная дорога, начинающаяся в Скутари и которую инженеры столько раз предлагали продолжить до Багдада, не проникает еще даже в долину р. Сакарии, которая, в отношении ежедневного продовольствования столицы, почти составляет часть округа Босфора. Но главный город азиатской Ионии, где, несмотря на политические фикции, гегемония принадлежит в действительности грекам и западным европейцам, обладает уже целой сетью железных дорог, проникающей на восток в долины Гермуса, Кайстра и Меандра, и работы по постройке быстрых путей сообщения продолжаются в направлении к внутренним плоскогорьям, на которые без труда можно будет проложить рельсы по легким для подъема скатам. Даже в этих высоких степях, где города так редки, железные пути найдут элементы торгового движения в химических продуктах, каковы соль, селитра, бура, которые выработались на берегах озер Фригии и Ликаонии. Однако, эти линии, очень полезные для обеспечения промышленного завоевания внутренних областей страны, будут иметь лишь второстепенную важность для международной торговли: это в Константинополе должен пройти большой диагональный путь, соединяющий Европу с Индией.
Но как бы дело ни представлялось на первый взгляд, в сущности англичане, обитатели Индустана, не имеют никакого интереса строить эту прямую линию, командуемую батареями пролива, который не в их сфере влияния. Открытие этого пути, без сомнения, тотчас же дало бы нациям центральной Европы преимущество над ними в отношении торговли с Востоком. Владычице морских путей, Великобритании, выгодно было бы не иметь другой дороги, кроме той, которая идет вокруг мыса Доброй Надежды. Так, она противилась открытию Суэзского канала, потому что не ей одной можно было пользоваться этим новым путем. Точно так же она будет противодействовать всякому предприятию, имеющему целью постройку железной дороги из Константинополя в Багдад: линия, которой она благоприятствует наперед,—это та, которая пойдет от какого-нибудь порта Средиземного моря, лежащего против острова Кипра, и кончается у Персидского залива, замкнутого моря, где господствуют её флоты. Она требует также, чтобы проектируемый путь был отделен от армянских плоскогорий течением Евфрата, так как военное превосходство обладателей Кавказа и Анти-Кавказа слишком прочно установилось, чтобы османлисы, даже поддерживаемые англичанами, могли впредь пытаться загородить дорогу русским, если бы последним заблагоразсудилось прибавить к своим владениям Тавр и Анти-Тавр.
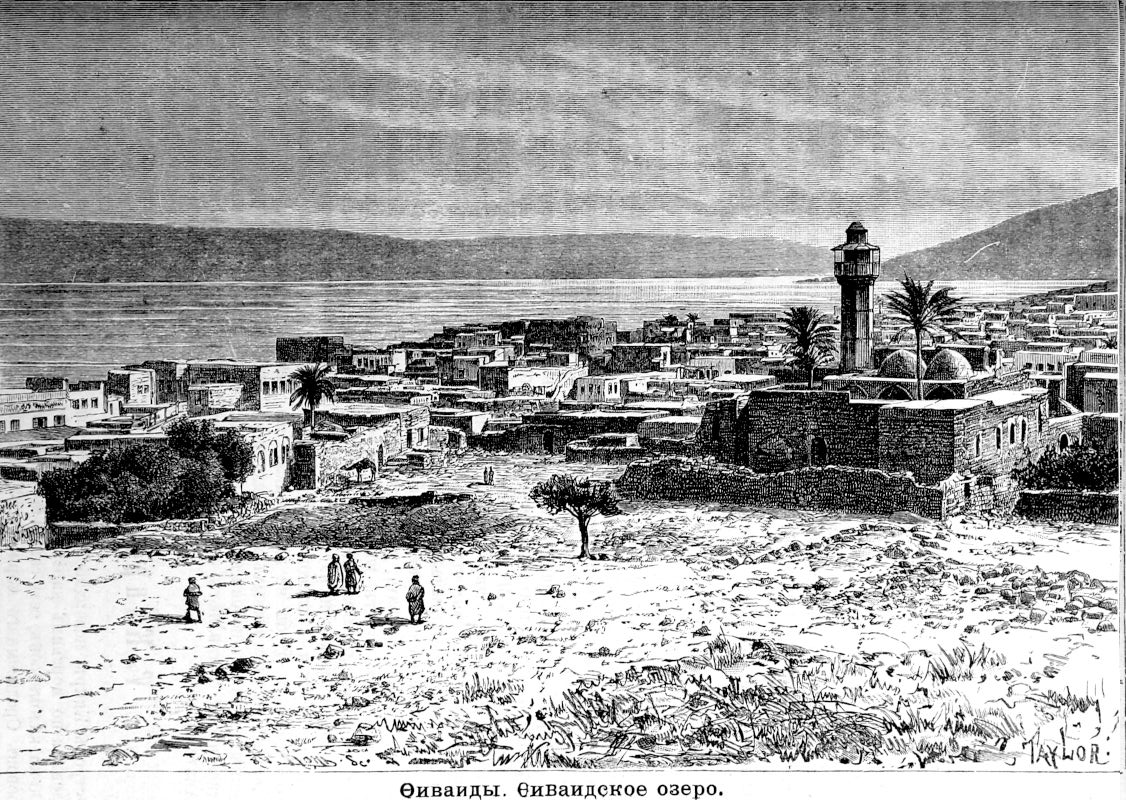
Таким образом промышленное и торговое завоевание Малой Азии должно иметь важные последствия для политического равновесия мира: но сколько перемен нужно предвидеть для самых населений полуострова! Можно сказать, что, с точки зрения правительства, политическое единство Анатолии установлено: власть султана там теперь лучше утверждена, чем в былое время; повсюду вассальные или почти независимые княжества деребеев или «начальников долин» были упразднены: уцелели лишь кое-какие следы автономных республик, которые держались там и сям в высоких горных массивах. Административное устройство одинаково во всех вилайетах. Но это единство—чисто внешнее: анатолийские «нации» остаются, несмотря на политическое единство, все так же разъединенными. Более того: возрастающие удобства сообщений увеличивают число точек соприкосновения между народностями враждебными или, по крайней мере, имеющими совершенно различные интересы. Предприимчивые греки побережья уже видят соседями не одних только античных, покорных судьбе турок: они встречают также туркменов из внутренней части страны, еще молодых энергией, курдов, с их иранскими качествами, сметливостью и изворотливостью, армян, трудолюбивых и настойчивых. Нет ни одного города в Малой Азии, где не было бы четырех или пяти «национальностей», живущих смешанно. Многие города насчитывают их до двенадцати или пятнадцати, и каждая из этих национальностей ищет вне родного города своих соотечественников или единоверцев; жители одного и того же города, сознающие свое различное происхождение, разъединенные традиционной ненавистью или соперничеством, не считают и не называют себя согражданами. Как совершится присоединение всех этих разнородных элементов в европейском миру? Без сомнения, в Малой Азии нет недостатка в людях с широкими взглядами, понимающих равноправность восточных национальностей и высказывающих пожелания за будущий политический союз или федерацию народов Тавра и Арарата; но этот исторический переход будет, конечно, труден. Присутствуя при преобразовании старой Европейской Турции, можно ли надеяться, что преобразование Турции Азиатской может совершиться без того, чтобы не иметь также своего кортежа насильственных массовых переселений и кровавых побоищ, которые за последнее время составляют нередкое явление в Анатолии.