Нынешние египтяне, потомки древних ретов, очень походят на своих предков, хотя в течение четырех тысяч лет много чуждых элементов примешалось к коренным жителям, по крайней мере в области дельты и в Среднем Египте: первоначальный тип проявляется везде, несмотря на смешение рас. Копты преимущественно перед другими должны быть рассматриваемы как относительно чистокровные: их до сих пор еще называют «Народом Фаруна», то-есть «фараона». Правда, при правлении Птоломеев, и позднее в римскую эпоху, они, без всякого сомнения, разнообразно смешивались с своими соседями, прибрежными народами Средиземного моря; но с того времени, как страна была покорена магометанами, слишком тысячу двести лет тому назад, религиозная ненависть держала этих христиан в стороне от их поработителей, и специальный тип у них лучше сохранился, чем у других египтян. Они гораздо многочисленнее, чем это думали до недавнего времени: по словам патриарха александрийского, спрошенного об этом предмете Ванслебом в 1671 году, в ту эпоху было всего только десять или много-много что пятнадцать тысяч коптов; в семидесятых годах их исчисляли в 150.000 душ, перепись же 1882 г. насчитала их уже слишком 400.000 душ, что составляет пятнадцатую часть всего народонаселения. Копты более, чем все другие этнические элементы страны, имеют право называть себя египтянами. Самое имя их «копты» или «кубт», есть, повидимому, не что иное, как испорченное древнее название Мемфиса, Ха-ка-Птах, жилище «Птаха», из которого греки сделали слово Айгуптос, применявшееся одинаково к реке и к стране. Впрочем, это наименование «копты» производят также от Гуфт или Коптос, имени города, где они и теперь еще очень многочисленны: время разрушения этого христианского города императором Диоклетианом принято за исходную точку коптского летосчисления. Копты живут главным образом в Верхнем Египте, вокруг города Ассиута, называемого «коптской столицей», и в Файюме, где они образуют целые деревни; в некоторых местах они избрали себе жилищами полуукрепленные монастыри, деры или дейры, которых все первые обитатели были люди, обрекавшие себя на безбрачие. В этих областях, отдаленных от столицы и частию лежащих в стороне от дороги завоевателей, копты могли сохранить свои нравы и монофизитскую веру, которую они получили из Византии, как и эфиопы. К северу от Ассиута, в долине Нила, коптов можно встретить только в городах, в качестве ремесленников, менял и мелких чиновников или служащих; благодаря господствующей веротерпимости, они пользуются теперь правом селиться во всех частях Египта; но никто из них не играл никогда политической роли, как турки, армяне и даже евреи. До того времени, когда они были совершенно уравненены с мусульманами в отношении всех гражданских прав, ислам постоянно делал в среде их захваты, преимущественно через браки. Так как большинство коптов подвергаются обрезанию, согласно древнему египетскому обычаю, существовавшему задолго до Магомета, то они зачисляются в ряды мусульман, как только переступят порог мечети. В настоящее время костюм их уже не отличается от одежды других египетских туземцев: прежде цвет тюрбана у мужчин и цвет покрывала у женщин были признаками, отличавшими копта от феллаха-магометанина, и нередко копт наматывал себе на голову белую чалму и вообще носил такую же одежду, как другие крестьяне, чтобы тем возвысить свое достоинство. Копты имеют ныне около 120 церквей в различных провинциях; но встречающиеся в многих округах, где теперь уже не видно коптов, развалины религиозных зданий свидетельствуют, что население там было еще христианское несколько столетий тому назад. В настоящее время число этих туземцев правильно возрастает из года в год, вследствие превышения рождений над смертными случаями, ибо копты, которые вообще вступают в брак в более позднем возрасте, чем другие египтяне, более уважают семейные связи и более заботятся о своих детях.
Но если религия Магомета не восторжествовала над религией Христа, то язык арабов успел достигнуть преобладающего значения в Египте: тот коптский идиом, который дал возможность ученым разобрать древние иероглифы, восстановляя египетский диалект эпохи фараонов, от которого он очень мало разнится, теперь не употребляется уже нигде как устная речь. Большинство коптов изучают свой древний язык только для того, чтобы уметь читать молитвы, смысл которых они не всегда понимают; даже книги духовного содержания пишутся на арабском языке. Коптский язык имеет также свою азбуку, составленную из греческих букв, к которым были прибавлены некоторые знаки, заимствованные от курсивных форм древнего национального письма. Первый письменный памятник коптского языка относится к половине третьего столетия христианского летосчисления; в десятом веке этим языком еще говорили обыкновенно все египтяне, за исключением завоевателей. Начиная с семнадцатого столетия арабский язык становится господствующим и общеупотребительным во всем Египте; но большое число древне-египетских слов и теперь еще употребляются в языке страны. У коптов сохранились еще некоторые древние обычаи или обряды, установившиеся, без сомнения, задолго до вторжения иностранных религий. Так, они строят свои могилы в форме домов, и каждое семейство собирается раз в год в фамильном мавзолее, чтобы справить поминки с заупокойной трапезой. Одно из самых обыкновенных имен, даваемых при крещении,—Менас, напоминающее Мену или Менеса, истинного или предполагаемого основателя первой египетской династии.
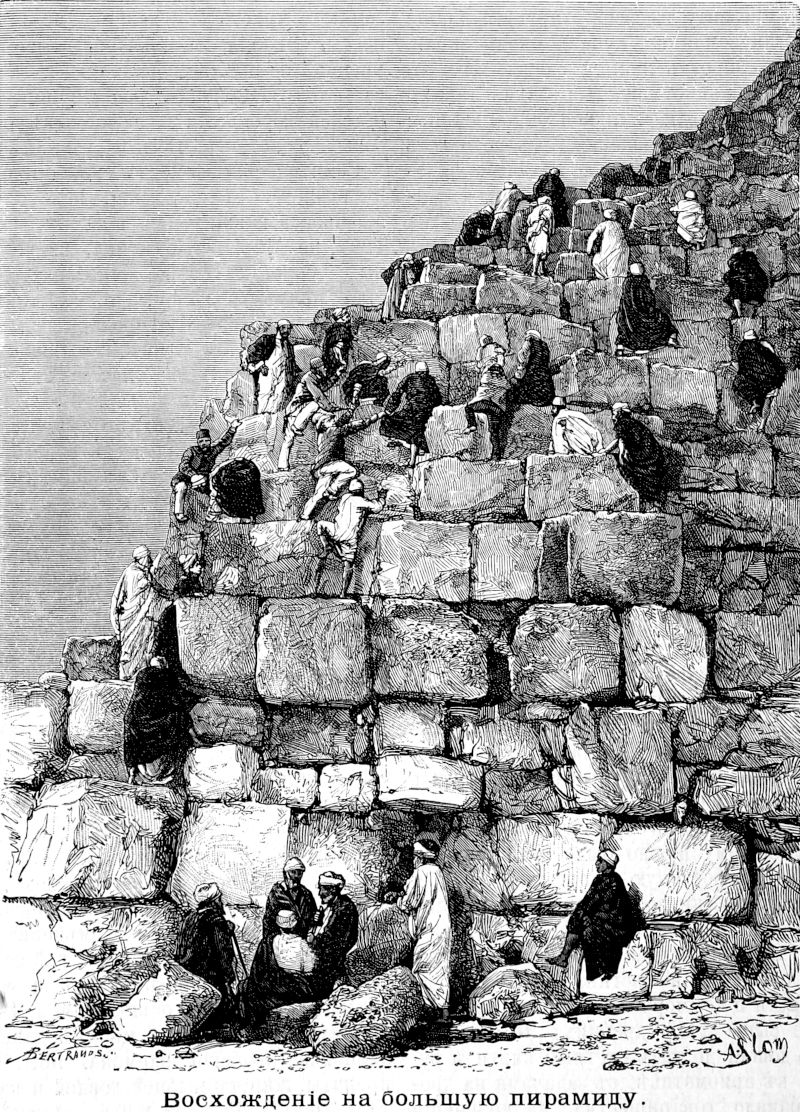
«Пахари», или феллахи, принадлежат, как и копты, к туземной расе, более или менее видоизмененной скрещениями с другими этническими элементами. Те из них, которые живут вне больших городов, Каира и Александрии, называют себя Аулад-Маср, то-есть «детьми Масра» или «египтянами». Подобно своим предкам, копты и феллахи имеют вообще рост средний (от 1.60 до 1.62 метра), тело гибкое, стройное, члены ловкие и сильные. Голова у них представляет красивый овал, лоб широкий, нос правильный, закругленный при оконечности, ноздри расширенные, губы толстые, но красиво очерченные, глаза большие, черные и бархатные, веки слегка приподняты кнаружи. Большинство детей выглядят хилыми и угрюмыми; глаза у них тусклые, кожа бледная, живот вздутый: но те из них, которые вынесут детскую сухотку и другие болезни, делаются красивыми и сильными: невольно удивляешься, как могли такие красавцы парни, такия красавицы девушки вырости в грязных хижинах деревень. Очень часто встречаешь типы истинной красоты, напоминающие черты сфинксов, и большинство молодых женщин отличаются миловидностию, стройностию, изяществом манер и горделивой поступью; нет картины более привлекательной, как вид молодой матери, несущей своего голого ребенка верхом на плече. В деревне женщины не закрывают себе лица так строго, как в городах; почти все они красят себе губы в синий цвет и татуируют подбородок, накалывая на нем изображение цветка; некоторые украшают себе такими же узорами лоб и другие части тела; кроме того, те из них, которые не впали в крайнюю бедность, носят диадемы и ожерелья из жемчуга, настоящего или поддельного, цехины (золотые монеты) или позолоченные кружки; все состояние семьи употребляется на эти женские украшения. Феллах, так сказать, не имеет другой потребности, кроме этого излишка, который он презентует своей супруге; жилище его—убогая землянка, куча комков земли, взятых из борозд пашни; одежда его состоит из синей бумажной рубахи, таких же штанов и тарбуша или войлочной шляпы; несколько дурровых лепешек, к которым более зажиточные прибавляют бобы, чечевицу, лук, арбузы, пару фиников, составляют обычную его пищу. Больше всего на свете он любит мир и тишину, и ни в одной стране на всем земном шаре не видывали, при всеобщей воинской повинности или конскрипции, более частых примеров членовредительства, примеров добровольных калек, кривых, хромых или безруких. Вообще говоря, феллах добродушен, наивен, веселого характера, услужлив, гостеприимен, насколько это позволяют его убогие достатки; если он старается пустить в ход против своих угнетателей оружие слабого, ложь и хитрость, то это в большинстве случаев не удается ему: его маленькия махинации легко угадываются и часто навлекают ему только сугубую жестокость со стороны его господ. Копт обыкновенно более умело хитрит, чем простодушный феллах-мусульманин: это объясняется тем, что копту не только приходится терпеть нищету, как и египтянину из магометан, но он еще должен, сверх того, казаться маленьким человеком, чтобы избегнуть преследования; из опасения быть обобранным до последней нитки, он должен был скрывать свои маленькие достатки; ему нужно было подбирать в грязи подачку, бросаемую с презрением, сберегать скряжнически все добываемое трудом, хитростию или ниществом. Те из коптов, которые получили кое-какое воспитание, выказывают обыкновенно истинный талант по счетной части и коммерческой бухгалтерии: это достойные сыны тех древних ретов, от которых дошли до нас счетные книги и руководства к арифметике, с задачами на дроби, на правило товарищества, на уравнения первой степени. Во времена владычества мамелюков управление финансами государства находилось всецело в руках коптов; благодаря изобретенной ими совершенно особенной системе счетоводства, они сделали свои бухгалтерские книги никому непонятными, так что эта профессия составляла их неотъемлемую монополию. Но введение западных методов счетоводства и особенно постоянно усиливавшаяся иммиграция сирийских католиков, людей не менее ловких и вкрадчивых, не менее способных к интриге, чем копты, но более образованных и знакомых с арабскими классиками, мало-по-малу отняли у туземных христиан высшие административные посты. Низшие же должности счетчиков и писцов по-прежнему остались и до сих пор остаются за коптами; вообще персонал египетской бюрократии заключает в себе гораздо больше христиан, чем мусульман.
Семитический элемент сильно представлен в египетском населении, даже со времен, предшествовавших арабскому завоеванию. Так, по Мариетту, туземцы, живущие на южных берегах озера Мензалех, может-быть, прямые и очень мало смешанные потомки тех «людей неблагородной расы», гиксов, которые овладели Египтом слишком сорок веков тому назад: тип их точь-в-точь такой же, как тип царских статуй и голов сфинксов, открытых в Сане, древнем Танисе, среди аллювиальных образований озера. Эти потомки азиатов населяют местечки Мензалех, Матариех, Салкиех и соседния деревушки. Рослые, с сильно развитыми мускулами, они имеют лицо очень широкое сравнительно с их закругленным черепом, нос крупный, скулы выдающиеся, лицевой угол очень открытый, лоб высокий, взгляд и улыбку осмысленные. По словам Баярда Тэйлора, потомки гиксов очень многочисленны также в области Файюм.
Наиболее значительную долю семитической крови внесли в египетское население арабские и сирийские мусульмане, пришедшие вслед за Амру. Без сомнения, эти арабы не сохранились в чистом состоянии ни в одном из городов Египта, но как они, так и последующие пришельцы того же племени, были довольно многочисленны, чтобы произвести глубоко захватывающее видоизменение туземной расы, особенно в городах, где все магометане, за исключением турок и черкесов, обозначаются теперь общим именем арабов. На берегах Красного моря, недавно переселившиеся арабские племена, абы, ауасимы, иренаты, живут рыбной ловлей и каботажной торговлей. В сельских местностях, на границах пустыни, многие племена бедуинов, ахр-эль-вабары илп «люди шатров», сохранились в большой чистоте и с гордостию выводят свою родословную от первых завоевателей. Иногда, правда, араб берет себе жену в семье феллаха, но сам он никогда не выдаст за него свою дочь: полу-номад, разделяющий свою жизнь между возделанными полями и пустыней, он презирает несчастных земледельцев, всегда согбенных над своей пашней; хотя бы даже он сам добровольно оставил бродячую жизнь, в глазах бедуинов-кочевников он уже будет не более, как феллах, такой же, как другие феллахи; но обыкновенно он имеет пребывание в деревне, в соседстве полей, только в течение известной части года, и тотчас же возвращается в пустыню, как только окончена жатва и уборка хлеба: так что, следовательно, населения различаются здесь не столько по расе, сколько по образу жизни. Однако, даже поселившись в деревнях и сделавшись оседлыми земледельцами, сыны номадов пользуются большими привилегиями в течение нескольких поколений: так, они освобождены от воинской и других натуральных повинностей. Впрочем, бедуинов, живущих в пределах Египта, нельзя назвать независимыми: разделенные долиной Нила на две особые группы, бедуины «арабской» пустыни, как и бедуины ливийских оазисов, занимают открытые пространства, легко доступные нападению со всех сторон, и находятся в полной зависимости от своих соседей в отношении торговли и продовольствия. Кроме того, они делятся на большое число (около пятидесяти) племен, из которых многие живут между собой в постоянной вражде: не бывало примера, чтобы все бедуины пустыни соединились для защиты общей свободы. Одно из самых многочисленных племен «аравийских» гор—мазехи или «козьи пастухи», которых путешественник Масперо считает древними ливийцами мазиу, обарабившимися в сравнительно недавнюю эпоху. Это наследственные враги абабдехов, народцев беджасской расы, живущих к югу от Коссеира, в долинах цепи порогов и в Северной Нубии. На запад от дельты, в Ливийской пустыне, господствующее племя—аулад-али. Гаварахи, живущие в Верхнем Египте и доставляющие армии вице-короля почти всю его иррегулярную кавалерию,—народ туарегского происхождения. По переписи 1882 года, число бедуинов-кочевников и полуоседлых, которых еще в семидесятых годах насчитывали только 70.000 или 100.000 душ, простирается до 246.000 душ, с значительным преобладанием мужского пола; мужчины, будто-бы, превышают женщин на 11 слишком процентов,—пропорция, какой не представляет никакая другая группа жителей, относительно которой делалась правильная перепись, исключая разве некоторых округов Японии, и которая не встречается в других населениях Египта (численное отношение полов между оседлыми туземцами в 1882 году: мужчин 3.401.498; женщин 3.415.767). Нужно думать, что арабы во многих случаях давали неверные сведения агентам, производившим перепись.
Турки, оффициально властители страны со времени завоевания её султаном Селимом II, в 1517 году, до сих пор еще считаются иностранцами, и при том они всегда стояли вне населения, как солдаты или чиновники. Число их не велико, от 12.000 до 20.000, по разным исчислениям; но было бы ошибочно утверждать, как это часто делали, что, будто-бы, дети этих чужеземцев обречены климатом на преждевременную кончину. Без сомнения, смертность очень велика между детьми семейств, не вполне акклиматизовавшихся; но потомство почти без исключения следует национальности матери; оно становится египетским по чертам лица, как и по языку: название иностранца само собой пропадает. Точные статистические данные обнаружили, что бывшие мамелюки имели очень мало детей; но доказательством того, что не все мамелюки, грузины, черкесы, арнауты, умерли без потомства, может служить тот факт, что беспощадный истребитель этого воинства, Могамед-Али, сам арнаут с одного из островов Македонии, имел многочисленную семью, поныне царствующую оффициально над Египтом. Точно также левантинцы, то-есть христиане родом из Сирии, Греции, Италии или Испании, поселившиеся с давних пор в стране, конечно, сделались родоначальниками на берегах Нила, как и их конкуренты по торговле, евреи или яхуды. В течение целого ряда веков их роды или фамилии вступают в браки только между собой, и, однако, они нисколько не утратили на чужой земле своей воспроизводительной силы. Европейцы, поселившиеся в Каире и в других больших городах Египта, с успехом воспитывают своих детей, если только заботливо соблюдают правила гигиены. Даже смертность между новорожденными меньше у европейцев, нежели у туземцев, которые в большинстве случаев не могут окружать своих детей заботливым уходом, по причине своей бедности (смертность детей до десятилетняго возраста составляла в 1889 году: у европейцев 37,85, а туземцев 52,45 на сто). Однако, иностранная колония, где мужской пол гораздо многочисленнее женского (по переписи 1882 года, между живущими в Египте европейцами насчитывалось 49.054 мужчин и 41.832 женщины), возрастает только путем иммиграция, а не вследствие избытка числа рождений над числом смертных случаев. В настоящее время европейский элемент представлен в Египте, по крайней мере в Александрии и в Каире, колонией гораздо более многочисленной, чем колония турок. В 1892 году численность европейской колонии превышала 600.000; колония эта сделается, без сомнения, гораздо более многочисленною теперь, когда страна находится под протекторатом западной державы. Теперь уже не турки, а европейцы истинные властители Египта, по умственному развитию, материальной силе и обладанию капиталами. Этой иммиграции господ, прибывающих с севера, соответствует прилив служащего люда, барабрасов или варсарийцев, приходящих с юга и играющих в больших городах ту же роль, какую играют в Париже оверньяты. Фигуры нубийцев, изваянные на древних памятниках земли фараонов, доказывают, что эта иммиграция с юга продолжается уже многие века.
Народонаселение Египта по переписи 1897 г. (не считая 20.890 ж. оазиса Сивах, Синая и и о. Фазос):
По образу жизни:
Оседлых—9.047.905; кочевников—573.974; иностранцев—112.526; всего—9.734.405.
По вероисповеданиям: магометан—8.978.775; христиан: коптов—608.446; католиков—56.343; греко-восточного исповед.—53.479; лютеран—11.895: евреев—25.200; других вероисповеданий—268.
Наконец, те индусские племена, которым испанцы и англичане дали название Gitanos и Gypsies, то-есть «египтян», и которые известны у нас под именем цыган, встречаются также и на берегах Нила, где их называют гхагарами. У этих бродячих народцев мужчины промышляют в качестве лошадиных барышников, лудильщиков, канатных плясунов, показывателей обезьян, кузнецов, гадальщиков; между ними же вербуются татуировщики и татуировщицы, псиллы или змеезаклинатели, равно как кружащиеся дервиши, которых обыкновенно считают, но совершенно ошибочно, пылкими последователями Магомета. Несмотря на свой азиатский тип и дикий, насквозь пронизывающий взгляд, составляющие отличительные признаки цыган, все эти выходцы из Индии выдают себя за чистокровных арабов и утверждают, что будто-бы предки их первоначально эмигрировали в Западную Африку, откуда впоследствии вернулись и поселились на берегах Нила. Самое «благородное» племя гхагаров присвоивает себе даже имя бармесидов: это народец, известный всего более под названием гавази и среди которого вербуются преимущественно альмея или авалим, то-есть «ученые». Не в этом ли имени гавази нужно искать происхождение слова Gabachos или Gavaches, которое применяют в Испании и на юге Франции к хитанам (цыганам), равно как ко всем презираемым иммигрантам?
Многочисленное народонаселение Египта, почти учетверившееся с начала настоящего столетия (в 1800 году, во время французской оккупации, число жителей, считая по 8 человек на каждый дом, при 603.700 домах, равнялось 2.514.400 душ), и возрастающее средним числом на 50.000 душ в год, свидетельствует в пользу благоприятных климатических условий страны (средняя смертность сравнительно не велика: она составляет от 26 до 27 на 1.000). Особенно в Верхнем Египте, где воздух не наполнен сырыми испарениями, климат очень здоровый, несмотря на сильные жары; в пустыне он еще лучше, как это доказала медицинская статистика, правильно веденная во время работ, столь тяжелых и неблагоприятных в санитарном отношении, которые были предприняты для прорытия Суэзского канала. Египет даже посещается зимой немалым числом европейцев, приезжающих туда для восстановления расстроенного здоровья, преимущественно при грудных болезнях. Но, кажется, нельзя сказать, чтобы пребывание в том или другом из больших городов, в Александрии или Каире, где на улицах постоянно кружатся столбы или смерчи пыли, было удачно выбрано для лечения этого рода недугов; напротив, чахотка свирепствует там над пришельцами с Верхнего Нила и каждый год похищает большое число жертв даже между туземцами; в Каире одна седьмая смертности приходится на долю грудных болезней; в военных госпиталях бывали случаи, когда число умерших от бугорчатки составляло целую треть общего числа смертных исходов, но некоторые болезни дыхательных путей, как, например, катарр легких, не имеют случая зарождаться и развиваться у европейцев. Из болезней последние всего больше должны опасаться дизентерии и, в некоторых частях дельты, болотных лихорадок. Болезни печени, почти неизвестные у магометан, которые воздерживаются от употребления спиртных напитков, этой «специфической отравы печени», очень обыкновенны у европейцев, по причине их образа жизни.
Главные болезни, господствующие среди туземцев, это те, которые являются необходимым следствием их бедственного экономического положения: чума, некогда столь страшная, и от которой в 1834 и 1835 годах погибло 45.000 человек в Александрии и 75.000 в Каире, перестала свирепствовать между египетскими населениями; холера, превратившая Дамиетту в 1883 году в один обширный госпиталь, производит периодически свои опустошения только в незначительной части страны; но анемия, происходящая от недостаточного питания, свирепствует по всему Египту, поражая преимущественно детей. Во всем свете нет страны, где бы слепые и кривые были более многочисленны, чем в Египте; высадившись на александрийскую набережную, иностранец тотчас же замечает действия заразительной офтальмии в толкающейся вокруг него толпе; и последующие его наблюдения, опирающиеся на статистику (процент лиц, страдающих глазами, в египетском населении, составляет, по Амичи, 17 на сто), вполне подтверждают это первое впечатление. Малокровие, ослепительное отражение яркого света от белых стен и от вод реки, резкия перемены температуры и особенно едкая пыль, содержащая соляные и селитряные частицы, которая образуется путем разложения нильского ила и которую ветер поднимает столбами, кружащимися на подобие вихрей,—вот причины, которым должно быть приписано происхождение этих опасных глазных болезней; тем не менее, бедуины пустыни почти все обладают отличным зрением. Мухи, эта библейская «язва египетская», конечно, способствуют поддержанию и растравливанию офтальмий. Жалко смотреть на маленьких детей, около которых мухи кружатся роями: у бедных малюток даже нет силы отгонять назойливых насекомых, которые садятся им на больные глаза, и печальные, неподвижные, они ждут, когда сон прервет на время их страдания.
Проказа, менее обыкновенная в Египте, чем в Сирии, к несчастию, еще не исчезла. Род гастрической лихорадки, известной на Востоке под именем дение, тоже довольно распространен на берегах Нила. Слоновья или бугорчатая проказа (elephantiasis) арабов часто поражает также туземцев, особенно в области дельты; другая болезнь кожи, так называемый нильский «бутон», аналогичный багдадскому «финику» и алеппскому и бискранскому «бутону», имеет в Египте эндемический характер, и большинство местных жителей и иностранцев должны вынести этот нарыв или веред, один раз в течение своей жизни или своего пребывания в крае, чаще всего под формой довольно доброкачественной.
Более девяти десятых населения Египта состоит из магометан; но в этой стране, где религии следовали одна за другою, как слои наносов Нила, нация не имела времени выработать себе веру, соответствующую своему оффициальному культу, и многие наблюдатели находили в легендах и в церемониях феллахов следы религии, которая некогда собирала толпу верующих на папертях храмов Фив и Мемфиса: тот или другой ночной праздник, где толпятся крестьяне, ожидая пришествия золотой коровы, в руинах Дендерахского святилища, напоминает торжественные процессии, которые в древности совершались в честь телицы Гатор. Египтяне только по наружности магометане, и между ними очень немногочисленны, в сравнении с толпой индифферентов, те правоверные, которые усердно и добросовестно исполняют все предписания Магомета. Мечети мало посещаются; феллах не всегда делает положенные омовения в канале, проходящем подле его жилища, а бедуин не останавливается в пустыне, чтобы потереть себя песком, за неимением воды. В последние пятьдесят лет дух веротерпимости сделал большие успехи в Египте: как бы ни была велика ревность самых горячих хаджи, никто из них не являлся сражаться против англичан до тех пор, пока не была провозглашена «священная война», и даже тогда между редкими добровольцами, вступившими в ряды священного воинства, не было ни одного уроженца Нижнего Египта. Как ни гордятся египетские мусульмане честью принадлежать к избранному народу, они уже не имеют права относиться с презрением или пренебрежением к иноверцам, так как не смеют вступать с ними в открытый бой, и так как эти чужеземцы являются перед ними со всеми признаками умственного превосходства и со всеми ресурсами материальной силы. Однако, именно в пределах египетской территории находится центр пропаганды, враждебной христианам. Страшное мусульманское братство недавно умершего махди или «вождя» Сиди-Могамед-Бен-Али-эс-Сенуси имеет свой главный монастырь в Серхбубе или Джарабубе, в оазисе Фаредга; но сам покойный махди, состоявший, говорят, в союзе с вождем, поднявшим арабские племена Кордофана и Верхнего Нила, был алжирец, и почти все окружавшие его верующие пришли из Мавритании. Если он выбрал именно это место своей резиденцией, то только потому, что оно представляет две драгоценные выгоды: положение почти центральное для пропаганды в мусульманском мире, и отдаленность Джарабуба от всякого поста, военного и торгового, занятого европейцами. Махди мог вести там почти в тайне свое дело в течение двадцати лет, не опасаясь какого-либо постороннего вмешательства, могущего противодействовать его усилиям.
Получив религию от арабов, египтяне приняли также, несмотря на свое большое численное превосходство, и язык победителей, которым они, впрочем, говорят чисто; университет Эль-Азар, в Каире, есть даже одно из мест, где обсуждаются и решаются самые деликатные вопросы, касающиеся арабской грамматики и литературы. Употребление нескольких арабских и коптских слов и особенный способ произношения для некоторых букв—вот единственные отличия египетской речи в сравнении с языком Геджаса. Арабы по религии и языку, египтяне сделались турками по политическому устройству, системе управления, отсутствию наследственной аристократии. В отношении социальных учреждений они также сообразовались с примером, данным их завоевателями, арабскими и турецкими. Более охотно, чем турки, они придерживаются многоженства, особенно в правящих классах; но редко можно встретить крестьян, имеющих больше одной жены. Развод практикуется чаще, чем во всякой другой земле: говорят, около половины браков сопровождаются рано или поздно разлучением супругов. Наконец, в некоторых коптских семействах и теперь еще существует обычай заключать временные браки, даже на несколько недель; священники благословляют эти союзы с обычной торжественностию, как будто бы они заключались на всю жизнь. Правда, если супруги пожелают, этот пробный брак может обратиться в окончательный. Двоюродные братья и сестры часто бывают обручаемы уже с колыбели и вступают в брак, как только достигнут возраста возмужалости. Прелюбодеяние составляет редкое событие в семьях.
Оффициально продажа людей не дозволяется в Египте, так как торговля невольниками строго воспрещена во владениях на Верхнем Ниле. В силу прежних конвенций, заключенных с Англией, личное рабство должно было бы быть совершенно отменено 4 августа 1884 года в пределах египетского вице-королевства; но статьи трактата остались мертвой буквой, и представители Великобритании, сделавшиеся всемогущими в Египте, ограничились посылкой циркуляра, напоминающего о законе, предписанном хедиву. Вероятно, они будут соблюдать в этом отношении ту же осторожность, какую обнаружил покойный Гордон в египетском Судане, и оставят господам в полную собственность мужчин и женщин, приобретенных захватом или покупкой. Хотя невольничьи базары закрыты, но сделки по купле-продаже живого товара все еще практикуются тайком, и знатные лица по-прежнему могут приобретать евнухов для оберегания своих жен. Причину существования рабства в Египте составляет содержание гаремов, таинственный порядок которых не удовлетворяется служителями, могущими пожеланию уничтожить свой контракт о найме. Однако, не подлежит никакому сомнению, что, за исключением дворцов, принадлежащих мусульманским вельможам, невольничья челядь мало-по-малу заменяется вольнонаемной прислугой; все чернокожие, обращающиеся к полицейской власти с просьбой о выдаче им «вольной», тотчас получают увольнительную грамоту и могут поселиться, где желают, и заниматься каким угодно промыслом или ремеслом. Завоеватели подобно арабам и туркам, западные люди приносят с собой новое общественное устройство.
Порядок землевладения тоже видоизменяется, вследствие вмешательства европейцев в управление делами страны. По буквальному смыслу мусульманского закона, общество верующих, представляемое государственною казной, беит-эль-маль, есть единственный владелец земли; частное лицо может быть лишь временным владельцем, пользующимся доходами, которому только обычай, но не право, дает наследственность. Однако, этот принцип давно уже потерял свое безусловное значение, и начало личной собственности, подобно господствующему в Европе, установилось уже для большей части территорий. Со времени этого переворота, позволяющего свободную передачу и отчуждение земель, ценность почвы значительно возросла; крестьяне-собственники, теперь уже не платящие налога натурой, выиграли в благосостоянии, но, с другой стороны, образовался новый класс общества, класс сельского пролетариата, толпа несчастных, которые не имеют больше своей доли земли и потому принуждены наниматься в работники, чтобы снискать себе пропитание (средняя плата земледельческому работнику от 37 до 68 сантимов, смотря по времени года). Земли этих обездоленных батраков-феллахов, почти все конфискованные за неплатеж податей, увеличили собою частные владения вице-короля, уделы членов его фамилии и имения разных высокопоставленных лиц в государстве; компания Суэзского канала тоже является одним из крупных землевладельцев страны. Совокупность земельной собственности, принадлежащей, под разными наименованиями, вице-королевской фамилии, исчисляют в четверть всей пахатной почвы Египта; между Ассиутом и Бедрашейном почти вся земля составляет собственность хедива, и каждая станция железной дороги построена рядом с земледельческой фермой и заводом. Другая четверть почвы состоит из земель ушури или «десятинных» (обложенных десятиной), принадлежащих на правах полной собственности тем, которые ведут на них хозяйство. Что касается земель бедного сельского люда, разделенных на маленькие участки вокруг деревень и составляющих, вместе с владениями сельских обществ, половину территории, то они обложены переменным налогом, называемым харадж, который может быть увеличен, по усмотрению правителей, но который в среднем составляет одну пятую, как во времена Иосифа. Платя этот налог, держатель участка все-таки остается в полной зависимости от благоусмотрения властей; он собственник лишь по снисходительности начальства, и наследники его признаются таковыми только по представлении доказательства, что они в состоянии обработывать уступленную землю и исправно уплачивать падающие на нее налоги. Если они желают преобразовать свои земли хараджие в земли, принадлежащие им на правах полной собственности, то могут достигнуть этого под условием уплаты налога за шесть лет вперед, в один раз или несколькими частными взносами; кроме права полного владения землей, эти досрочные платежи дают им освобождение на будущее время от половины поземельного налога. Земли вакф (вакуфы), принадлежащие мечетям или учебным заведениям, вероятно, переменят владельцев, все или частию; переход в казну этих вакуфных имений позволит британскому правительству уравновесить свой египетский бюджет.
Оффициально наибольшую территориальную собственность Египта составляют удельные имения хедива; однако, эти владения, дайра-сание, сделавшиеся обеспечением европейских заимодавцев с 1878 года, поставлены под ведение специальной комиссии, действительное правление которой находится в Европе, так что истинными владельцами являются западные банкиры. Значительная часть этих имений сдается в оброчное содержание барышникам, которые, в свою очередь, отдают землю мелкими участками в аренду крестьянам; поля непосредственно уступаются рабочим за известную плату, но обширное пространства дайры, которое, конечно, было бы распахано, если бы оно принадлежало феллахам, теперь остается невозделанным. Для непосредственной эксплоатации удельных земель кредиторы хедива прибегают либо к наемным, состоящим на жалованье, рабочим, либо к агентам или подрядчикам, которые заключают условие с сельскими старостами о поставке известного количества рабочих рук. Работа оплачивается правильными денежными выдачами или личными подарками, делаемыми старшинам рабочих партий: от безвозмездной барщины до жалованья, определенного по добровольному взаимному соглашению между работником и нанимателем, практикуются всевозможные способы вознаграждения за труд. Но столько посредников должны получать свою долю барыша в культуре вице-королевских имений, столько заинтересованных, якобы содействовавших, под разными титулами, «возрождению Египта», требуют награды за свои добрые услуги, что окончательный доход с этих земель, славящихся своим необычайным плодородием, сводится к сущей безделице: он не достигает 60 франков с гектара (0,92 десятины), и даже оказывается дефицит, если к годовым расходам прибавить уплату процентов погашения по прежде заключенным займам.
Состояние владений в момент передачи их в ведение кредиторов 31 октября 1878 года:
Площадь земель, возделываемых непосредственно—77.020 гектаров. Площадь земель, сдаваемых в аренду—53.719 гектаров; площадь полей, отдаваемых рабочим—15.068 гектаров; площадь земель необработанных—32.940 гектаров; всего—178.747 гектаров.
Различию порядка землевладения между имениями высокопоставленных лиц и хараджевыми участками мелких землевладельцев соответствует во многих местах различие способов орошения. С точки зрения ирригации нужно строго различать земли сефи и земли нили. Эти последние, как показывает самое их название, суть поля, которые сплошь, на всем их протяжении, покрывались бы разливом реки, если бы его не сдерживали береговые плотины, и на которые проникают, путем просачивания, глубокия воды, выходящие либо из самой реки, либо из каналов, естественных или вырытых на небольшой глубине под поверхностию почвы. Самые глубокие рвы имеют уровень отведенной воды на 4 метра ниже возделанных земель; они наполняются только в период наводнения и высыхают в период низких вод. В прошлом столетии весь Египет был орошаем исключительно при помощи последовательных бассейнов, расположенных уступами на обоих берегах реки и получающих воду через нильские каналы (нили); и теперь еще более трех четвертей обработанных равнин Верхнего Египта получают орошение посредством системы этого рода каналов. Что касается каналов сефи, то-есть «летних», которые все новейшего происхождения, то они вырыты ниже среднего уровня меженных вод, от 8 до 9 метров ниже почвы, так что вода проникает туда даже в самое сухое время года; в области Верхнего Египта их проводят параллельно реке, по очень пологому скату, так чтобы они скоро достигали уровня подлежащих орошению земель. В Нижнем Египте, где система ирригационных каналов совершенно исчезла, летние каналы (сефи) повсюду остаются ниже уровня земель, так что ирригационную воду приходится поднимать на требуемую высоту посредством паровых насосов, сакие или шадуфов. Один из этих каналов сефи есть знаменитый канал Махмудие, берущий воду из Нила, чтобы орошать краевые поля пустыни до города Александрии, и служащий в то же время большим судоходным путем; но частию засоренный илом, он уже не имеет достаточной глубины, при которой могло бы установиться правильное течение, и наполнение канала до надлежащего уровня производится при помощи паровых машин, установленных в Атфехе, на Розетской ветви Нила. Дамиетская ветвь тоже питает большое число летних каналов, благодаря своему относительному возвышению над равнинами дельты.
Первые попытки культуры при помощи летних каналов сделаны были при Могамедде-Али, когда начали разводить плантации хлопчатника; и теперь еще на землях сефи, орошаемых в продолжение трех месяцев перед наступлением обыкновенного наводнения, получаются почти исключительно продукты большой ценности: кунжут, сахар, хлопок. Оттого мелкая земельная собственность не имеет никакого участия в пользовании этими пространствами, орошаемыми во время низких вод в реке: высокопоставленные лица государства, да богатые заимодавцы, которым Египет платит проценты по долгам, одни только и пользуются этими жатвами промышленных растений. А между тем, не одни они несут расходы по содержанию летних каналов, расходы громадные, ибо грязь, скопляющаяся во рвах, мало-по-малу заполняет их во многих местах; одного года было бы достаточно, чтобы превратить канал сефи в простой канал нили, если бы многочисленные отряды феллахов не были употребляемы в течение недель и месяцев на работы по расчистке каналов. Совокупность каналов сефи представляет массу вынутой земли, равную полуторной массе, вынутой при прорытии Суэзского канала, и каждый год количество земли и ила, которое нужно снова перемещать для очистки летних каналов, доходит до трети первоначальных выемок. Для этих громадных работ требуется содействие всего населения; так как однодневного труда феллаха достаточно, в среднем, только для перемещения кубического полметра в исключительно благоприятных обстоятельствах, то число рабочих дней, потребное для исполнения всего дела, нужно считать десятками миллионов: в 1872 году инженер Линан-де-Бельфон оценивал в 450.000 человек число рабочих, употребляемых каждый год, в продолжение, средним счетом, двух месяцев, для очистки летних каналов, и каждый феллах должен, сверх того, заниматься расчисткой нильских каналов своей общины, так же как расчисткой частной канавы, приносящей воду на его собственное поле. Для одного только канала Махмудие Могаммед-Али употреблял 313.000 человек из категории обязанных нести натуральные повинности.
Но это еще не все: исключительно большие разливы Нила могли бы быть страшным бедствием для страны, если бы охранительные плотины не содержались с надлежащей заботливостию и не были возвышаемы в опасных обстоятельствах. В 1874 году всем летним культурам, каков сахарный тростник, хлопчатник, дурра, маис, грозило совершенное истребление, и все богатство страны погибло бы разом, если бы население, движимое чувством общей опасности, не защитилось тотчас же против все выше и выше поднимавшихся вод реки. В течение слишком месяца семьсот тысяч человек трудились над укреплением и возвышением земляных насыпей, так чтобы постоянно давать отпор наступающей реке. Часто целая треть населения была занята одновременно этой борьбой с Нилом; в нормальные годы правительство призывает 160.000 подлежащих исполнению натуральных повинностей феллахов, которые разделяются почти поровну между Верхним и Нижним Египтом. Непрестанная борьба для приспособления почвы к речным водам только в редких случаях имеет характер добровольного труда, предпринимаемого населением по собственному почину. Потребованные на эту барщинную работу и не получая от правительства никакого вознаграждения или подарка, кроме выдаваемых от казны лопаты и корзины, сплетенной из пальмовых листьев,—крестьяне сельских общин отправляются in corpore на верфь, предшествуемые своим шейх-эль-беледом, или старшиной, и часто в сопровождения женщин и детей: импровизированные лагери разбиваются на краю плотины, и рабочие спускаются в канал, чтобы копаться в грязи и переносить на голове корзины земли на высоту десяти, двенадцати, даже шестнадцати метров, до обратной стороны береговой насыпи: женщины занимаются стряпней, то-есть пекут лепешки из дурры на очаге, который топится коровьим калом; дети играют в песке; вооруженные солдаты молча расхаживают по плотине. Вполне естественно, конечно, чтобы почти все жители выходили разом на работы по исправлению ирригационных каналов: ведь из нильской грязи родятся богатства Египта; в этом отношении все население солидарно; каналы, приносящие плодотворную воду и без которых прибрежные жители были бы обречены на голодание, представляют количество труда столь значительное, что содержание их должно быть национальным делом. Но нужно бы было, чтобы это дело, в исполнении которого принимают участие все труженики, было действительно делаемо в интересе всех; нужно, чтобы оно приносило пользу не только нескольким крупным имениям, но также и мелким крестьянским хозяйствам; справедливость требует, чтобы оно не ложилось всей своей тяжестию на земледельцев, которые слишком бедны, чтобы выкупить свой труд; следовало бы устроить так, чтобы несчастным роющимся в грязи на дне каналов, не приходилось терпеть голод, и чтобы эпидемии не производили опустошений в их рядах: не курбаш должен бы был давать такт работе! Памятники древнего Египта рассказывают нам со времен глубокой древности, восходящей за шесть тысяч лет, печальную историю феллаха, согбенного под тяжестию корзины с грязью, тогда как над головой его носится плеть надзирателя: хотя имена переменились, но эта форма античного рабства существует и до сих пор. Как писал арабский полководец Амру калифу Омару, египетский народ, «кажется, предназначен работать только для других, не пользуясь сам плодами своих трудов».
Мало найдется в свете стран, где бы старинные обычаи, трудно приспособляющиеся к новым временам, представляли более разительный контраст с приемами, применяемыми современной цивилизацией. В то время как античный способ культуры остается доселе таким же, каким он был при фараонах, в то время как крестьяне, сообразуя свои полевые работы с разливом Нила, пашут, сеют и жнут по-прежнему в те же сроки, пользуются такими же первобытными орудиями, возделывают те же самые сорты хлебных злаков, едят такой же хлеб—новое земледелие черпает воду прямо из реки паровыми машинами, культивирует экзотические растения Индии или Нового Света, употребляет усовершенствованные плуги, жнеи, молотилки и другие земледельческие машины. Для удобрения почвы крестьяне не имеют ничего, кроме птичьего помета, который им доставляют миллионы голубей, кружащихся над хлебными полями; коровий кал все еще утилизируется как топливо в деревнях, смешиваемый ныне с верблюжьим калом, между тем как агрономы выписывают из Европы и Америки фосфаты и гуано, химически приготовляемые для целей удобрения. Железные дороги проходят подле убогих землянок; стальные мосты самой смелой конструкции перекинуты через каналы и рукава Нила, тогда как в других местах феллах должен переправляться через эти воды вплавь, наматывая свою тунику в форме чалмы вокруг головы, или сидя на циновке из пальмовых листьев, поддерживаемой пустыми кувшинами или выдолбленными тыквами, обернутыми сетью, или на связанных вместе пуках травы, которые он направляет, устроив парус из своей рубахи. Наконец, в полной пустыне, среди песков и болот, маяки с электрическими фонарями, эти «солнца христиан», как их называют правоверные, освещают между Средиземным морем и Аравийским заливом тот судоходной путь, который даже в нашу эпоху гигантских предприятий есть самое грандиозное создание человеческой индустрии.
Известно, что канал между двумя названными морями, существовавший, может-быть, в виде естественного пролива в течение короткого периода четверичных (постплиоценовых) веков, был восстановлен косвенно фараонами девятнадцатой династии, слишком три тысячи триста лет тому назад. Одна легенда, передаваемая Страбоном, приписывает прорытие канала Сезострису. Геродот рассказывает нам, что Некос, сын Псамметиха, велел начать близ Бубаста канал, который огибал горы каменоломень, то-есть Джебель-Мокаттам, и направлялся на восток, чтобы достигнуть Аравийского залива: уже сто двадцать тысяч рабочих перемерли, трудясь над копанием этого канала, отведенного из Нила, как вдруг оракул остановил работы, «производимые, сказал он, на пользу варвара». В самом деле, это был чужеземец, персидский царь Дарий, который установил сообщение между Нилом и заливом Арсиное, и, следовательно, между Средиземным и Чермным морями, посредством хорошо вырытого канала, «достаточно широкого, чтобы могли разойтись две триремы», говорит Геродот. Более того—Дарий, по свидетельству Диодора Сицилийского, имел мысль провести канал от моря до моря, между Пелузским заливом и водами моря Эритрейского; кажется даже, что работы по осуществлению этого плана были уже начаты, так как до сих пор еще видны берега (высотой около 5 метров) рва, имевшего от 50 до 60 метров ширины, которой направлялся от озера Тимсах к Эль-Кантара через Гиср; но затем явилось опасение, как бы «воды Красного моря, поверхность которого лежит выше уровня земель Египта», не затопили всей страны, и прорытие канала было оставлено. На берегах канала, у Суэца, были воздвигнуты памятники, носящие надписи на четырех языках: персидском, лидийско-скифском, ассирийском и египетском; надписи эти рассказывают о бесплодных попытках Дария осуществить грандиозное предприятие, доведенное в наши дни до благополучного конца. Опасение персидского царя, которое еще до половины девятнадцатого столетия разделялось большинством европейских инженеров, станет вполне понятным, если мы скажем, что средняя высота южных вод действительно превышает высоту средиземноморского бассейна перед Пелузиумом: в часы отлива равенство почти полное между обоими уровнями, но в часы прилива Красное море поднимается выше, иногда даже на два с половиной метра в исключительных случаях. Во времена Дария течение, производимое в канале с юга на север разностью уровней, было, без сомнения, сильнее, чем в наши дни, так как перешеек был тогда уже.
Осаждавшийся ил постепенно наполнял этот Нильский канал, и пески засыпали ров, прокопанный через порог перешейка; однако, память об исполненных работах не исчезла, и многие государи Египта стремились, как к предприятию славному по преимуществу, к осуществлению проекта соединения двух морей. Птоломей II, говорят, восстановил канал, и некоторые писатели полагали, на основании текстов—впрочем, недостаточно ясно выраженных—Страбона и Диодора Сицилийского, что прорез был сделан прямо от залива до залива: искусно устроенные ворота с шлюзами позволяли баркам проходить без того, чтобы вода затопляла низменные земли. Однако, торговля между двумя морями была, вероятно, не настолько значительна, чтобы стоило заботиться о содержании в исправности проходов и шлюзов; утверждали, что в царствование Клеопатры этот судоходный путь, должно быть, был уже снова заперт, так как, по словам Плутарха, эта царица пыталась перевезти свои корабли сухим путем в Красное море, чтобы убежать от Октавия со всеми своими сокровищами. Впрочем, возможно, что канал еще существовал временно в течение периода нильских разливов: когда царица хотела бежать, это был как раз период низкого стояния воды и канал был сухой. После Птоломеев пришла очередь римских завоевателей мечтать о соединении двух морей. Траян, ознаменовавший свое царствование многими великими предприятиями, велел также приступить к работам по устройству канала в Египте, и при императоре Адриане суда уже плавали по «Траяновой реке», вырытой, как и прежняя река Некоса, между Нилом, озером Тимсах и Горькими озерами, в поясе пустыни, который тянется вдоль возделанных земель. Как справедливо замечает Летрон, эксплоатация обширных порфировых каменоломень в Клавдиевой горе была бы непонятна, если бы не существовало канала от моря до реки, позволявшего отправлять водой громадные монолиты, выламываемые из горы; очевидно, невозможно было бы перевозить их в долину Нила через горы и скалы «Аравийской» цепи. Канал Траяна строился так, чтобы быть долговечным, как большинство римских сооружений, и действительно он сохранялся в течение многих столетий: Макризи рассказывает, что суда проходила им еще в первые времена исламизма. Когда полководец калифа Омара, Амру, овладел Египтом, этому арабскому завоевателю нужно было только велеть вновь прокопать Траянову реку и отстроить на ней шлюзы. Но честолюбие его шло дальше: он хотел открыть прямой канал из Чермного моря в Фараму, на берегах Пелузского залива, для чего можно было утилизировать прорезы, сделанные Дарием и Птолемеями; но Омар, опасаясь, говорят, чтобы греки не воспользовались этим средством сообщения для нападения на пилигримов, отправляющихся в Мекку, отказал в просимом разрешении. Канал, реставрированный Амру, просуществовал недолго: спустя сто тридцать три года, он был закрыт, по приказанию калифа Абу-Джафар-эль-Мансура, чтобы воспрепятствовать одному мятежнику получать этим путем продовольствие для своих военных сил. С этой эпохи и до новых времен, в продолжение около одиннадцати столетий, медленная работа природы постепенно уничтожала дела рук человеческих: дома, шлюзы, запруды исчезли; рвы были заполнены илом и песком, тогда как на месте высоких берегов образовались лужи стоячей воды; форма побережья изменилась на озерах и заливах, но остались еще многочисленные следы прежних сооружений, египетских, римских и арабских: в некоторых местах, близ Суэца, древние плотины, построенные из таких массивных и твердых камней, что арабы принимают их за натуральные скалы, поднимаются до высоты 6 метров над уровнем окружающей равнины. Это, вероятно, запруде, остатки которой видны еще до сих пор, порог Гисра и обязан своим арабским названием, означающим «плотину».
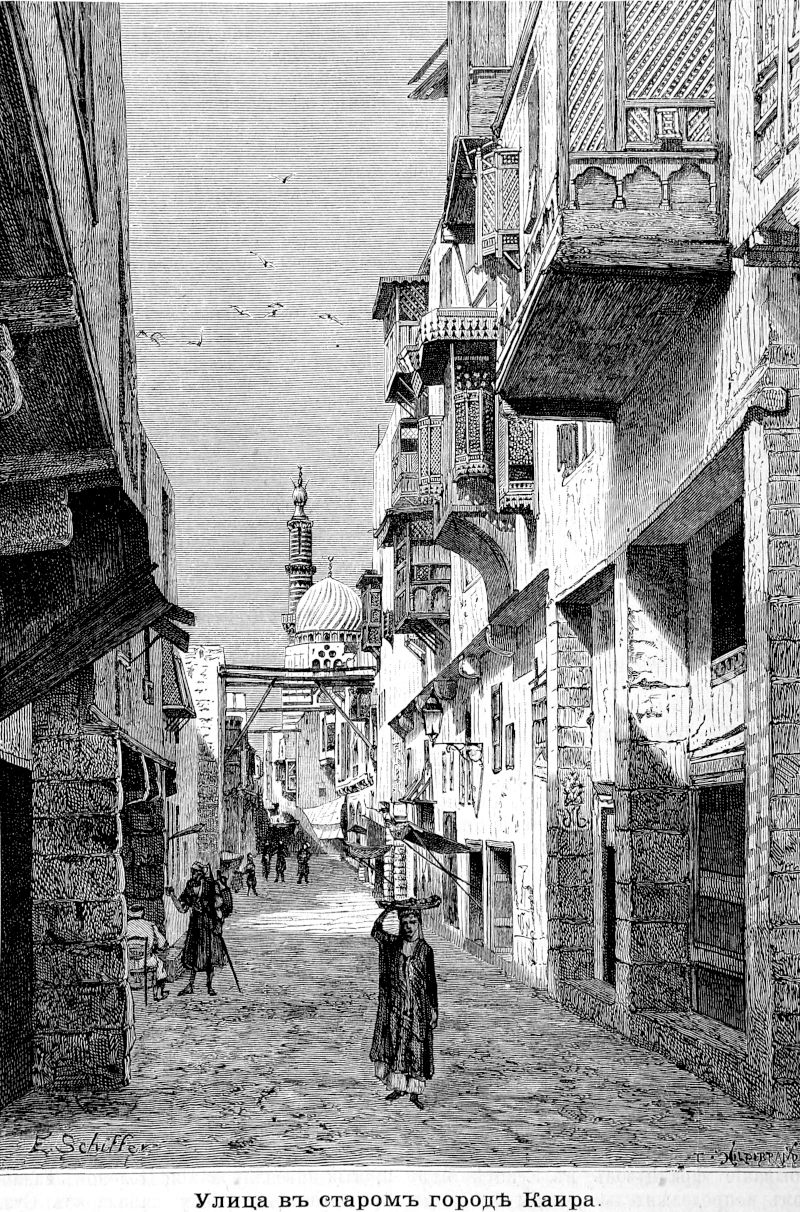
В то время, как пески и грязи стирали с лица земли сооружения фараонов и Птоломеев, Траяна и Амру, константинопольские султаны, сделавшиеся владетелями Египта, часто строили планы возобновления работы своих предшественников; но проект реставрации канала из области предположений перешел на практическую почву только со времен французской экспедиции: тогда, как известно, в Египет высадилась плеяда людей, проникнутая страстным желанием совершить великия дела, и одним из самых грандиозных ей казался план соединения двух морей. Лепер и другие ученые тотчас же принялись за работу, чтобы произвести нивеллировку поверхности Суэзского перешейка и узнать точным образом условия, в которых могло бы быть начато задуманное дело. К несчастно, результаты этого исследования были искажены досадной ошибкой, вкравшейся в работы нивеллирования. Лепер, на основании своих измерений, пришел к тому выводу, что уровень Красного моря превышает на 9,908, или почти на 10 метров, уровень Средиземного, и под влиянием этой грубой погрешности присоединился к ошибочному взгляду древних, которые опасались для низменных земель средиземного побережья разлития вод Чермного моря через путь, который был бы им открыт. Вследствие этого, он отказался предложить прорытие непосредственного морского канала, хотя и признавал большие выгоды, какие получились бы для всемирной торговли от соединения двух морей глубоким рвом, неподверженным изменению уровня в зависимости от поднятия и спада вод в Ниле. Возвращаясь к плану фараонов, он предлагал устройство канала, глубиной от 4 до 5 метров, направляющагося из Каира в Суэц четырьмя расположенными на различной высоте, в виде ступенек, и соединенными между собой бассейнами, из которых два будут наполнены пресной водой Нила, а два другие—соленой водой Красного моря; кроме того, этот канал должен был дополняться судоходным путем, прорытым от вершины дельты до Александрийского порта. Пригодный лишь для плавания нильских барок, канал, проектированный Лепером, мог бы служить как средство сообщения между двумя морями только во время высокого стояния воды в реке.
Пребывание французов в Египте было слишком непродолжительно, чтобы дело могло быть начато, но мысль о разделении Африки и Азии новым Босфором не была оставлена, она даже сделалась догматом новой религии: сент-симонисты ввели ее в свой символ веры, как одну из задач своей апостольской деятельности. С 1825 года они обсуждали этот вопрос в своих газетах и журналах, и когда многие из них принуждены были покинуть Францию, изучение Суэзского канала было одною из главных побудительных причин, заставивших их направиться на Восток. Впоследствии, когда сен-симонистская религия перестала существовать, но когда большинство её бывших последователей сделались людьми, сильными в мире промышленности, мысль о прорытии Суэзского перешейка нашла между ними наиболее ревностных поборников. Наконец, общественное мнение по этому вопросу сделалось настолько настойчивым, что признали нужным приступить к новому нивеллированию, контролирующему исследование Лепера, результаты которого многие ученые, между прочим, Лаплас и Фурье, всегда считали ошибочными. В 1847 году составилось европейское общество специалистов для производства изысканий на месте, и под руководством инженеров Линана, Талабота, Бурдалу, почва перешейка была пронивеллирована на всем протяжении от Суэца до Пелузиума, на этот раз уже окончательным образом: с этого времени был установлен вне всякого сомнения тот факт, что за исключением неравенств, производимых приливами и обусловливающих некоторое превышение среднего уровня в Суэзском заливе, воды представляют лишь незначительную разность уровней в обоих морях, как показывают следующие, найденные исследователями числа:
Уровень Средиземного моря у Тине, на Пелузском заливе: при низком стоянии воды—0,0 метр., при высоком стоянии воды—0,38 метр.
Уровень Красного моря у Суэца: при низком стоянии воды—0,7414 метр., при высоком стоянии воды—2,0886 метр.
Операции нивеллировки, произведенной под руководством Бурдалу, были затем проверены в 1853, 1855 и 1856 годах, и результат каждый раз получался почти тождественный.
Казалось бы, что после доказательства этого столь важного факта физической географии оставалось только приступить к прорытию прямого канала; однако, первый проект, представленный одним из сотрудников в предприятии нивеллирования, Поленом Талаботом, предлагал постройку канала из Суэца в Александрию через Каир. Этот проект, недавно вновь выдвинутый некоторыми английскими инженерами, в противоположность ныне существующему Суэзскому каналу, предвидел устройство расположенных уступами бассейнов и шлюзов, чтобы подняться с той и другой стороны до уровня Нила выше бифуркации: кроме того, пришлось бы устроить запоры, для сопротивления речным наводнениям, и перекинуть бечевной мост на Ниле, между двумя половинами канала, для буксирования судов от одного берега до другого. С точки зрения судоходства этот пресноводный канал Нижнего Египта, очевидно, не может сравниться с морским каналом перешейка, вырытым без шлюзов и почти втрое более коротким; но главная польза предлагаемого нового канала, долженствующего иметь около 400 километров длины, состояла бы в орошении дельты. Однако, в виду того, что интересы судоходства и ирригации земель совершенно различны и даже противоположны, так как судовщики требуют низкого уровня для своего канала, тогда как земледельцам выгодно провести русло своей искусственной реки на возможно большей высоте,—было бы неблагоразумно строить канал, долженствующий удовлетворить двум противоречащим одна другой целям; вероятно, что если прибрежные земли дельты когда-либо будут заперты кругообразным рвом, то этот канал будет утилизируем только для целей орошения и местной торговли.
Наконец, султанский фирман, разрешавший прорытие прямого канала от моря до моря, был подписан в 1854 году. Государь, подписавший акт концессии, не верил в возможность исполнения этого проекта, и даже между инженерами, работавшими в великом деле соединения двух морей, многим недоставало убеждения, которое должно бы было поддерживать их в задуманном предприятии. Но человек, в пользу которого был подписан фирман, Фердинанд де-Лессепс, обладал непоколебимой верой и настойчивой волей. Ничто не могло обескуражить его—ни финансовые затруднения, ни слабость друзей, ни противодействие, скрытое или явное, противников. Правительство Великобритании, недовольное тем, что открывается к Индии прямой путь, относительно которого оно не было уверено, что будет обладать современем его ключом, тоже было в числе врагов смелого проекта Лессепса. Но и оно, в свою очередь, должно было признать себя побежденным, и 17 ноября 1869 года целая эскадра пароходов, следовавших один за другим в виде праздничного кортежа, перевозила знатных иностранцев, гостей хедива, из Порт-Саида на озеро Тимсах. Пятнадцати лет было достаточно, чтобы осуществить это гигантское предприятие; но чтобы привести его к желанному концу, нужно было изобретать новые приемы производства работ, новые снаряды и машины; израсходована была сумма в 472 миллиона франков, около половины которой покрыто подпиской во Франции, и, сверх того, египетское правительство содействовало осуществлению предприятия многочисленными услугами: уступкой земель, постройкой маяков, выдачей денег в займы без процентов, доставкой подлежащих барщине рабочих,—услугами, которые в общей сложности представляли капитал по меньшей мере в сотню миллионов. В среднем, число туземцев, употреблявшихся на работы по прорытию канала, простиралось до 20.000 человек.
Этот новый морской путь, настоящий пролив, куда заходят китообразные и акулы и где встречаются эритрейские и средиземноморские виды флоры и фауны, имеет размеры, которые в свое время казались огромными и которые теперь признаются уже недостаточными. Длина канала от моря до моря 164 километра, ширина между берегами от 60 до 100 метров, ширина на дне 22 метра, глубина нигде не меньше 8 метров, а в некоторых местах достигает 8 с половиной; землечерпательные суда постоянно заняты извлечением песка и грязи, увлекаемых на дно ударом волны о берега. Объем вынутой при прорытии канала земли, не считая последующих драгажей, которые составляют около 600.000 кубич. метров в год, представляет массу в 83 миллиона кубич. метров, или пирамиду, имеющую километр в стороне основания и 250 метров в вышину. Из простого болота Тимсах, или «озеро Крокодилов», откуда эти животные давно уже исчезли, превратилось во внутреннее море; бассейн Горьких озер получил из Красного моря водную массу, исчисляемую в два слишком миллиарда кубич. метров; громадные соляные банки, наполнявшие эти озера, постепенно растворяются от действия попеременных течений канала. По истине грандиозное зрелище представляет этот канал между двумя откосами дюн, в Гисре, поднимающихся с той и другой стороны на высоту 15 метров над уровнем воды, и легко понять чувство удивления, охватывающее наблюдателя, когда он, взойдя на верхушку маяка в Порт-Саиде, видит у себя под ногами правильно построенный, в роде шахматной доски, город, расположенный на песке, обширный порт с его доками и боковыми бассейнами, кишащими садами, белые жете, теряющиеся вдали в синеве моря, а там, внутри материка, среди дюн и болот, колоссальные пароходы, пловучие дворцы, которые кажутся идущими по земле, движимые какою-то волшебной силой.
Судоходство по Суэзскому каналу быстро разрослось до таких размеров, каких и не ожидали его строители. Парусные суда не могли бы, без помощи буксирных пароходов, ни спускаться, ни подниматься по Красному морю, против южных или северных ветров, дующих прямо по направлению залива; но для сообщения с Индией парус был заменен паром; созданы были специальные флоты пакетботов для правильных заокеанских рейсов через Суэзский канал и Чермное море, и средняя вместимость судов, выражаемая количеством тонн, возрастает из году в год, как показывают следующие цифры:
Движение судоходства по Суэзскому каналу:
| Года. | Число судов | Валовая вместим. тонн | Чистая вместим. тонн | Плата за проход франк |
| 1870 | 486 | 654.915 | 436.609 | 5.159.327 |
| 1875 | 1.494 | 2.940.708 | 2.009.984 | 28.884.300 |
| 1880 | 2.026 | 4.344.519 | 3 057.421 | 39.840.487 |
| 1883 | 3.307 | 8.051.307 | 5.775.861 | 68.523.345 |
Средняя вместимость судов: в 1870 г., 1.843 тонны; в 1877 г., 2.015 тонн.
Средняя проходная пошлина с судна: 20.720 франк.
Число пассажиров, перевезенных в 1883 г.: 119.177.
В 1883 году только одно парусное судно во весь год прошло каналом из моря в море, тогда как каждый день, средним числом, десять пароходов проходили этим путем.
В 1894 г. судоходство по Суэзскому каналу выразилось в таких цифрах:
Число судов 3.541, вместимостью в 7.659.000 тонн, пассажиров перевезено 189.809.
Доля флагов, участвовавших в судоходстве по Суэзскому каналу в 1883 году:
Английские суда, вместимостию—6.136.847 тонн; французские суда, вместимостию—782.133 тонн; нидерландские суда, вместимостию—309.583 тонн; немецкия суда, вместимостию—213.666 тонн; других наций суда, вместимостию—609.078 тонн.
В виду этого постоянного и быстрого возрастания судоходства, оказывается необходимым увеличение судоходного пути: нужно срезать слишком резко выступающие изгибы канала, как уже сгладили двойной поворот у Гисра, дать большую глубину фарватеру, докончить обшивку камнем берегов, песок которых, слишком рыхлый, легко размывается и подтачивается течением, вырыть порты в прибрежных озерах; особенно необходимо расширить путь, так чтобы не было надобности в побочных разъездных путях, устроенных на нынешнем канале, во избежание встречи судов, через каждые десять километров: при сооружении канала предполагали, что годовое сообщение через этот путь не превзойдет, по вместимости судов, шести миллионов тонн, теперь же нужно предвидеть вдвое или даже вчетверо большее движение судоходства для недалекого будущего. Проектируют увеличить втрое нынешнюю ширину канала, так чтобы судам при встрече не нужно было замедлять хода и чтобы остановка какого-нибудь судна посреди канала не сопровождалась заграждением пути для других судов. И именно Англия, так упорно противившаяся некогда открытию этого нового морского пути, теперь настойчивее всех требует увеличения канала! События объясняют эту перемену политики. По флагу судов, пользующихся искусственным проливом, этот последний сделался почти исключительно английским путем: около восьмой части всей внешней торговли Великобритании, то-есть ценность свыше 2 миллиардов, проходит через Суэзский перешеек. Кроме того, британское правительство сделалось одним из главных акционеров канала, а вступив во владение Египтом, оно получило в полное свое распоряжение этот путь, который оно может открывать или закрывать по своему усмотрению, как это оно и сделало уже перед битвой при Телль-эль-Кебире, ни мало не заботясь о конвенциях, гарантирующих нейтралитет прохода между двумя морями. Таким образом Великобритания, опасавшаяся, чтобы морская дорога в Индию не попала в руки её противников, успела обеспечить за собою обладание Суэзским каналом. Но нужно надеяться, что этого не случится с трансконтинентальной железной дорогой через Малую Азию, Месопотамию, Персию,—дорогой, которая будет построена рано или поздно и которая превзойдет по важности извилистую дорогу судов. Этот будущий международный путь, по всей вероятности, не будет принадлежать Англии.
В то время, как основываются новые города в Египте, его древние города обращаются в прах: большинство значительных групп населения расположено в близком расстоянии от развалин, оставленных бывшими столицами. Но эти уцелевшие обломки седой старины, более интересные, чем большинство современных городов, рассказывают нам историю египетского народа. Во многих местах убогия лачужки феллахов,—маленькие кубы, кирпичные или земляные, покрытые кровлей из тростника или террасой из битой глины,—едва приметны рядом с величественными пилонами и перистилями античных храмов. С тех пор, как началось научное исследование страны фараонов, не мало прекрасных памятников было отрыто из песков, в которых они были погребены; но много других совсем исчезли с лица земли: селитра, которою насыщены пески, и аллювиальная пыль разъедают камни древних памятников; искатели сокровищ срывают стены; земледельцы, смешивающие порошок от руин с землей, приготовляя таким образом превосходный компост себах, еще более разрушают остатки древности. Печи для обжигания извести пожрали, камень за камнем, храмы, построенные из известняка; памятники из песчаника, материал которых нельзя утилизировать для современных построек, были всего более пощажены. Египетские деревни носят самые разнообразные названия, смотря по происхождению жителей или по форме землевладения: они называются нахие, кафр, эзбег, наг, абадие или меншат; селения, основанные арабами, из кочевников превратившихся в земледельцев, носят название назлех, то-есть «пристанища» или колонии. Деревни часто меняют места, вследствие наводнений или нового начертания каналов; нередко они меняют и самое название, с переходом в собственность других владельцев. В деревнях до сих пор еще можно видеть старый Египет: эта страна, по образному выражению одного писателя, представляет своего рода «палимпсест, в котором Библия написана поверх Геродота, а Коран поверх Библии»; в городах всего явственнее виден Коран; внутри страны снова является Геродот.
Классический Египет начинается у первого водопада, в том месте, где барки, приходящие из Нубии, выгружают камедь, слоновую кость и черное дерево на берегу Магатты, под тенью сикомор и пальм. Перед этим местечком правого берега река еще имеет ровную поверхность, как озеро; но вдали, по направлению к северу, уже виднеются черные скалы, между которыми извиваются пенящиеся струи водопадов. Прежде чем вступить в лабиринт порогов, медленно текущие воды Нила омывают архипелаг зеленеющих островов, один из которых есть знаменитый Филе, или Филы (Philae), Илак египтян, священный остров, куда была перенесена из Абидоса гробница Озириса: из всех клятв самою страшною считалась та, когда клялись «Озирисом, сущим в Филах». Остров этот очень маленький, меньше километра в окружности, но он развертывается в виде красивого овала, и во всем Египте нет памятника более изящного, чем киоск (на восточном берегу острова), тонкия колонны которого, с капителями в форме цветов, соперничают красотой с стройными пальмами, которыми он окружен: это египетское здание времен Тиверия всего чаще воспроизводилось живописью; на нем нет ни барельефов, ни надписей, но своей формой оно напоминает афинский Эрехтеон, и местность, среди которой оно стоит, по истине очаровательна. Другие памятники этого острова, храмы Изиды, отстроенные после завоевания Египта Александром Македонским, более замечательны своими надписями, нежели архитектурой; на колоннах этих святилищ видны еще картины, вполне сохранившиеся. Остров Филы приобрел известность в истории наук, благодаря открытым на нем двум двуязычным надписям, из которых одна, воспроизводящая надпись знаменитого «Розетскаго камня», прославляет, в иероглифических и демотических письменах, победы и величие Птоломея V, прозванного «Безсмертным». В Филах же находился обелиск, на котором Шамполион, после того как им была открыта тайна священных письмен, разобрал имя царицы Клеопатры; этот драгоценный памятник, увезенный в Европу Банксом и Бельцони, составляет теперь часть одной частной коллекции в Англии. Другая надпись в Филах, относящаяся к 8 вантозу VII года республиканского летосчисления, напоминает о проходе первой дивизии французской армии, под начальством генерала Дезе, преследовавшей мамелюков за водопады Нила. Подземный туннель проходил под узким проливом, отделяющим остров Филы от острова Биггех, который в древности тоже считался святой землей.
Долина, через которую некогда изливались воды Нила, когда они текли на высшем уровне, служит большой дорогой караванам, которые обходят пороги, чтобы перевезти товары сухим путем между Магаттой и Асуаном: хедив Измаил-паша велел построить там железную дорогу длиной около 15 километров, для перевозки войск. О важности, которую во все времена придавали этому торговому пути, существующему уже по меньшей мере сорок семь веков, свидетельствуют многочисленные надписи на разных языках, вырезанные на стенах скал; стратегическое значение его тоже было признано в древности, как это доказывает остаток крепостной стены, защищавшей Сиену от нападений блеммиев. Город этот стоит ниже водопада на краю правого берега реки и на скалистых отлогостях, где дома расположены амфитеатром. Суда, менее многочисленные, однако, чем в Магаттской гавани, теснятся в Ассуанской бухточке, и шеллали, илп «люди катаракта», стремглав бросаются к берегу, как только заметят, что какая-нибудь дахабие снялась с якоря, чтобы направиться к порогам; базар наполнен товарами, привезенными из Нубии и с Верхнего Нила—оружием и разными украшениями, страусовыми перьями, шкурами диких зверей, слоновой костью, деревом, драгоценными лекарственными снадобьями; рощи финиковых пальм, в окрестностях города, доставляют в изобилии плоды, отправляемые на барках в Каир и в дельту. Старое египетское название Суан, переделанное арабами в Ас-Суан, сохранилось в течение почти пяти тысяч лет и под своей греческой формой Сиена сделалось знаменитым в классической древности: геологам это имя напоминает обширные каменоломни гранита и «сиенита», которые изрезали скалы к югу от города на пространстве более 6 километров, и где еще виден обелиск, длиной в 36 метров, на половину отделенный от каменной массы горы; астрономам оно говорит об исследованиях Эратосфена, сделанных слишком две тысячи сто лет тому назад. Допуская, что город водопадов находится как раз под линией тропика, что не вполне точно (широта Ассуана 24°5’23"), и констатируя тот факт, что в Александрии тень гномона равнялась одной пятидесятой в день летнего солнцестояния, Эратосфен вывел из этих данных степень кривизны Земли и, следовательно, размеры нашей планеты. Он не измерял непосредственно расстояния, разделяющего Сиену от Александрии, но народ, умевший так же верно, как и египтяне, строить свои здания главным фасадом к восходящему солнцу, должен был знать не только расстояния, но и точное направление относительно стран горизонта, и народное исчисление пространства между двумя названными городами, воспроизводимое Эратосфеном, не могло значительно разниться от действительного. Если мера меридиана, взятая александрийским астрономом, была выражена в египетских футах, что весьма вероятно, то он ошибся всего только на одну шестьдесят-пятую. Действительная длина дуги земного меридиана между Александрией и параллелью Сиены равна 787.760 метрам. Мера, найденная Эратосфеном, была 810.000 метров.
Остров Элефантина, лежащий напротив Ассуана, по другую сторону речного рукава шириной в 150 метров, тоже заключал знаменитый город. Там находился Абу, «город Слона»; может-быть, впоследствии, в греческую и римскую эпохи, он был складочным местом слоновой кости, привозимой с Верхнего Нила. Теперь на Элефантине нет уже никаких памятников древних времен: храмы её были сломаны в 1822 году и употреблены как материал для построек; единственные еще оставшиеся древности—это нилометр, реставрированный в 1870 году, да кучи античных черепков, на которых таможенные чины римской эпохи нацарапывали свои квитанции в получении пошлины; на развалинах выстроились две барабрасские деревушки. Но зато Элефантина, которую арабы прозвали «Цветущим» островом, может похвастать своими великолепными группами финиковых пальм и блеском своей зелени, составляющей яркий контраст с черными скалами, стерегущими выход водопада.
Место, где стоял в древности город Омбос, теперь указывается только одним селением, Ком-Омбо, расположенным на излучине восточного берега, да руинами двух соединенных между собой храмов, посвященных двум противоположным божествам: Горусу, богу света, и Себеку, духу тьмы; воды реки, подтачивающие правый берег, скоро снесут, камень за камнем и песчинку за песчинкой, эти святилища и опоясывающую их дюну. Ниже деревни Ком-Омбо, в теснине Сильсиле или «цепи», всего легче было бы устроить запруду, чтобы поднять речной уровень и отбросить часть течения в ирригационные каналы: по этому проекту, главный ров должен следовать вдоль основания Ливийской цепи, орошая все земли, ныне бесплодные, которые простираются на запад от Бахр-Юзефа. Ущелье «Цепи», образуемое песчаниковыми скалами, есть одно из замечательнейших мест Египта. На восточном берегу утесы были иссечены камнеломами в виде аллей и цирков, где нельзя не подивиться искусству, с которым они выбирали слои камня самого мелкого и самого ровного зерна, и той тщательности, какую они прилагали к их разработке. В этом отношении каменоломни Сильсиле могут служить образцом: «кажется, говорит Мариетт, что гору распиливали правильными кусками, как искусный плотник распиливает на доски ствол дорогого дерева». На западном берегу утесы были менее тронуты ломкой, но они богаче изваяниями и надписями. Один храм, иссеченный в скале, заключает между своими барельефами образ богини Изиды, кормящей Горуса своим молоком: это одна из прелестнейших картин, какие нам оставила египетская древность.
Два гигантских пилона издали возвещают путешественнику близость города Эдфу, Теб древних, Apollonipolis magna греков и римлян. Между святынями античного Египта храм в Эдфу наилучше сохранился во всех своих частях и деталях, и хотя это здание было построено только в эпоху Птоломеев, оно отличается такою чистотою линий, такою пропорциональностию и гармонией частей, что его смело можно поставить на-ряду с памятниками великих эпох египетского искусства; нигде архитектурные традиции не были уважаемы в такой степени. Только благодаря песку пустыни, это чудо античного зодчества было пощажено всеразрушающим временем; когда Мариетт, после сноса девяноста-двух лачужек, рассеянных на горке храма, сгреб песок, окружавший и засыпавший его на половину, здание явилось почти столь же совершенным, каким оно было на другой день освящения и открытия; ничто в нем не повреждено, все сохранилось в целости, недостает только нескольких камней в пилонах и кровле; даже наружная ограда, скрывавшая святилище от взора профанов, осталась совершенно целою. Из входа во двор видишь перед собой перспективу колоннад и зал, продолжающуюся почти на 130 метров, и во всем этом громадном пространстве нет ни одного уголка, назначение которого не объяснялось бы орнаментами, надписями и вообще всей вполне сохранившейся первоначальной обстановкой; при том каждая зала носит свое особое название: одна из них называется библиотекой, или «домом книг», и каталог этих документов выгравирован на стенах залы. Впрочем, все здание само есть громадная библиотека, заключающая в себе не только начертание молитв и гимнов в честь божественной троицы—Гаргута, Гатора и Гарпохрота, но также религиозные сцены всякого рода, астрономические таблицы и рисунки, картины из сельского быта, изображения осад и битв, словом, этот обширный храм представляет, так сказать, энциклопедию египетской истории и мифологии. Но главный интерес открытому в Эдфу памятнику придают начертанные на его стенах двадцать-семь географических списков Египта и Нубии, где перечислены все номы или области, с их произведениями, городами и покровительствующими божествами: благодаря этим именно номенклатурам, пополненным пятнадцатью другими подобными же, более или менее полными списками, найденными на различных памятниках берегов Нила, более, чем на основании однородных свидетельств какого-либо другого египетского храма, Бругш имел возможность воссоздать географию древнего Египта. Взойдя на вершину одного из пилонов, господствующих с высоты 38 метров над входом в храм, видишь у себя под ногами нынешний городок, шашечницу маленьких кубиков из желтой земли, окружающую купол мечети и минарет, здания очень скромных размеров в сравнении с величественным храмом египетских богов.
Ниже города Эдфу, открывается, на востоке, ущелье, которым спускались с гор грабители геруиса, предки нынешних абабдехов. Для защиты от этих разбойничьих набегов, были построены поперег ущелья валы, и над входом его господствовала крепость. Деревня Эль-Каб сменила это укрепление, носившее у древних египтян название Нехаб, а у греков—Эйлетия. Между многочисленными погребальными гротами, вырытыми в соседних скалах, особенно замечателен один, где представлены победы Ахмеса или Амозиса над царями, пастухами и над племенами Эфиопии.
Ниже, долина Нила расширяется, и на левом его берегу тянется, между полями и садами, город Эсне, Латополь греков, сохранивший еще свое первоначальное название Сни. Эсне, главный административный пункт провинции и промышленный центр, где фабрикуют синия бумажные материи, шали, охладительные сосуды для воды и другие гончарные изделия, есть один из торговых городов Верхнего Египта; плантации сахарного тростника занимают часть равнины; здесь показываются еще кое-где пальмы дум; но ниже, вдоль реки, видишь уже только финиковые пальмы. Население Эсне очень смешанное: к коптам-христианам и феллахам-мусульманам здесь присоединяются жители пустынь, нубийцы, беджасы различных племен; сюда же, в Эсне, были высланы из Каира Могаммедом-Али альмеи (танцовщицы и певицы), и в этом городе они и теперь еще более многочисленны, чем в других местах Египта. Древний храм в Сни, посвященный Кнефу, «душе мира», был частию откопан, в 1842 г., из покрывавших его груд обломков и песков, но он все еще больше походит на подземное святилище или катакомбу, чем на здание, построенное на поверхности почвы, в полном свете; в архитектурном и скульптурном отношении он далеко уступает храму в Эдфу.
Описав большую извилину ниже Эсне и пройдя живописную деревню Эрмент, с сахарными заводами, Нил вступает в равнину, где показываются, на обоих берегах, многочисленные памятники, целые или в развалинах, знаменитой фиванской аггломерации, целый мир дворцов, колоннад, храмов и катакомб: нигде нет такого множества религиозных зданий, собранных в одном месте и представляющих такой великолепный ансамбль. А между тем сохранилась только незначительная часть того огромного города, который носил название стовратных Фив: четыре главные группы существующих еще руин ограничивают пространство, имеющее не более 12 квадратных километров. В те времена, когда Но, «Город» по преимуществу, более известный под названием Па-Амен, «жилище Аммона», был средоточием торговли и могущества Египта, он простирался гораздо далее на север, в равнины, окаймляющие правый берег реки. Во время разлива Нила группы памятников возвышаются в виде островков среди широкой поверхности вод.
Луксор (Эль-Аксорейн), или «два Дворца», самое многолюдное селение, построенное на месте, где стояли древние Фивы, занимает лишь одну искусственную горку, груду обрушившихся обломков; но в этом холме частию погребен прекрасный храм, который теперь откапывают: перед этим памятником стояли два обелиска, носящие надписи в честь Рамзеса II; теперь остался только один; другой—тот самый, который стоит в Париже. Вокруг храма видны только бесформенные груды развалин, да возделанные поля; но по направлению к северо-востоку продолжается широкая аллея, длиной около 2 километров, окаймленная по бокам пьедесталами и кое-где остатками сфинксов, с туловищем льва, с головой женщины, держащих между передними лапами изображение фараона Аменхотепа III. За этим проспектом следует аллея сфинксов с головой овна, и мы находимся уже среди памятников Карнака: пилонов, резных стен, нефов с колоннами, обелисков, сфинксов, статуй. В течение трех тысяч лет, от двенадцатой династии фараонов до последних Птоломеев, храм за храмом последовательно воздвигались на этой священной почве. На каждом шагу встречаешь здесь чудеса искусства и труда; но гордость и славу этого обширного архитектурного музея составляет знаменитая «зала с Колоннами», построенная в царствование фараона Сети I: это—величайшая зала в Египте, вид её производит потрясающее впечатление на зрителя, и воспоминание об этом грандиозном остатке седой старины всегда оживает в памяти, когда переносишь мысль на образцовые произведения человеческого гения. Плафон залы, которая имеет не менее 23 метров (около 11 сажен) высоты в среднем пространстве или нефе, покоится на 134 колоннах, имеющих до 10 метров (14 аршин) в окружности, в центральном ряду. Все колонны покрыты резьбой и ваянием, так же как стены, и между барельефами, украшающими эту залу, некоторые имеют высокую историческую важность, представляя победы фараонов над арабами, сирийцами, гиттитами. Недалеко оттуда, в «большом храме» находится знаменитая «численная стена», страница летописей, часть которой была доставлена в Луврский музей Шамполионом, и которая теперь известна в целом объеме, благодаря раскопкам Мариетта. Этому же исследователю наука обязана открытием географического списка, содержащего 628 имен народов и мест, вырезанных на пилонах: между перечисляемыми в этом списке племенами ученые могли отождествить многие племена Финикии и Палестины, Ассирии и других более отдаленных стран Азии, Эфиопии, области Благовоний, простирающейся на африканском побережье, к югу Красного моря; там разобрали также названия тех дальних стран больших озер, которые в наши дни Спики, Гранты, Бэкеры вновь открыли во второй или в третий раз. По словам Гартмана, тип фунджей можно признать самым точным образом между фигурами эфиопских пленников.
Фивы левого берега были более городом мертвых, чем городом живых; однако, часть равнины, где почва начинает постепенно подниматься по направлению к Ливийским утесам, тоже очень богата памятниками древности, которые, впрочем, имеют погребальный характер. Повышение почвы, носящее арабское название Мединет-Абу, усеяно храмами, где находим исторические картины, частию нарисованные, частию изваянные, представляющие с изумительною точностию типы и костюмы побежденных народов: гиттитов, аморреев, филистимлян, тевкров, данайцев, этрусков, сардов, эфиоплян, аравитян, ливийцев; раз откопанный и очищенный от песку и мусору, храм Мединет-Абу, «книга завоеваний и побед фараона Рамзеса III», этого «господина меча на земле», будет, без сомнения, самым полным, самым интересным и самым драгоценным из всех святилищ древнего Египта. Недалеко оттуда находится храм Дейр-эль-Медине, почти греческой архитектуры, построенный Птоломеем Филопатором, и Рамессеум, с его триумфальным портиком, украшенным четырьмя обезглавленными колоссами: это то самое здание, которое описано у Диодора Сицилийского под именем «гробницы Озиманда»; во дворе храма лежит разбитая статуя Рамзеса II, из розового гранита, некогда монолит в 17 метров высоты, весивший слишком тысячу тонн (около 61.000 пудов), следовательно, более, чем самый тяжелый камень Бальбекских храмов, но на треть менее, чем эрратическая глыба, на которой поставленна конная статуя Петра Великого, в Петербурге. Между Рамессеумом и храмами Мединет-Абу высилось несколько колоссов; из них стоят теперь только два, те самые, которые пользовались в древнем мире такой громкой известностию под именем «колоссов Мемнона», и которые в действительности представляют фараона Аменхотепа II, сидящего в гератической позе, с руками, протянутыми на коленях. Эти две статуи имеют около двадцати метров высоты, вместе с пьедесталами, впрочем, большей частию закопанными в аллювиальную почву. Колосс, на который греки и римляне приходили толпами посмотреть и подивиться, и который они покрыли бесчисленными надписями в стихах и в прозе,—тот, который стоит севернее; это и есть та статуя, потрескавшийся камень которой издавал звук, похожий на звук лопнувшей струны лиры, или даже, по словам некоторых писателей, долго вибрировал, производя гармонические вздохи, в момент, когда солнечные лучи обращали в пар утреннюю росу. Но с тех пор, как Септимий Север велел грубо починить или, лучше сказать, замазать известкой статую, в надежде сделать ее более звучною, колосс онемел. Теперь путешественник напрасно старался бы подслушать на рассвете звук некогда говорившей статуи; более счастлива будет попытка этого рода в Карнакском храме: там глыбы гранита вибрируют переплетающимися звуками в момент, когда их осветят лучи восходящего солнца.
На севере и на западе от Рамессеума и от храма Сети, стоящего на Курнахском пригорке, высятся скалы и отрываются овраги, сплошь усеянные подземными храмами и катакомбами. Холм пирамидального вида, с гигантскими параллельными ступенями, иссеченными самой природой, высоко поднимается над равниной. По мнению Нестора, эта характеристическая форма и послужила образцом для искусственных пирамид, воздвигнутых на могилах царей: так исполнились, в Мемфисе, как и в Фивах, слова ритуала, произносимые богом ада: «я дал тебе жилище в горах Запада». Извилистое и разветвляющееся ущелье, идущее вокруг скал, носит название Бибан-эль-Молук, или «Врата царей»; его голые утесы, изрезанные вертикальными трещинами, придают ему сурово-величавый вид: с той и другой стороны этих ворот смерти открываются бесчисленные царские могилы. Почти у самой оконечности ущелья мы проникаем в погребальный склеп фараона Сети I, открытый исследователем Бельцони, в 1818 году; это одна из самых любопытных царских усыпальниц по украшающим ее барельефам, из которых один представляет «четыре расы мира»: рету, аму, нагесу и тамагу, то-есть египтян, азиатов, негров и ливийцев, шествующих в процессии на похоронах Сети. При входе в ущелья, между Курнахским и Ассасифским холмами, Мариетт открыл, в 1859 году, мумию царицы Аагготеп, вероятно, матери царя Ахмеса или Амозиса, драгоценные украшения которой, хранящиеся теперь в Булакском музее, возбуждают удивление необыкновенным изяществом и тонкостию отделки; современные ювелиры объявили даже, что они не могли бы имитировать это чудо искусства. Вероятно, что папирус Эберса, «герметическая» книга, содержащая египетскую фармакопею времен Тутмеса, тоже извлечен на свет Божий из какой-нибудь могилы в холме Ассасиф. К западу от главного холма, и недалеко от другой горки, Шейх-Абд-эль-Курнах, изрытой подземными галлереями, точно нора дикого зверя, погребальная капелла Деир-эль-Бахари, вероятно, служившая церковью христианам, занимает ряд спускающихся уступами террас: на её полуразрушенных стенах Мариетт открыл очень интересные изваяния, представляющие разные исторические сюжеты, между прочим, морскую экспедицию, посланную царицей-регентшей Гачопситу в страну Пунт, то-есть в южную Аравию или область сомалиев. В другой усыпальнице, где было похоронено тело Бехмары, также изображены этнографические сцены, относящиеся к стране Пунт. Один соседний грот недавно доставил гг. Масперо и Бругшу, которые давно искали эту катакомбу, целую серию царских мумий, в том числе мумии Амозиса I, Тутмеса III, завоевателя Передней Азии, Рамзеса II, легендарного Сезостриса греков, Сети Первого, строителя знаменитой «залы Колонн», о которой говорено выше. Целые коллекции египетских древностей, которыми обладают различные музеи Европы, происходят из катакомб стовратных Фив. С высоты гор обломков взор обнимает всю совокупность памятников «из вечных камней», воздвигнутых Рамзесами и Сети.
Большая дуга, описываемая Нилом к востоку ниже Фив, и широкие проходы, открывающиеся с этой стороны через «Аравийския» горы в направлении Красного моря, естественно должны были обеспечить этой части долины первостепенную торговую важность; но рынок, возникший здесь уже в раннюю эпоху, не оставался постепенно на одном и том же месте: разоряемые войной или даже разрушаемые до основания завоевателями, города должны были возрождаться каждый раз в некотором расстоянии от предшествующего местоположения. В этой области, Кубти, Коптос греков, обратившийся ныне в бедную деревню Гуфт или Кофт, был первый торговый город, пять тысяч лет тому назад, при царях двенадцатой династии; он был даже соперником Фив, как царская резиденция; до избиения христиан, имевшего место в царствование императора Диоклетиана, он оставался складочным пунктом товаров, привозимых в Египет через Красное море и порт Вереники. В 1883 году Масперо открыл в селении Коптос, разыскивая храм Изиды, два четыреугольных камня из черного базальта, носящие отрывки очень любопытной надписи, относящейся к сооружению римскими легионерами цистерн на дорогах из Коптоса в порт Вереники и в Миос-Гормос. Кус или Гус, Аполлинополь Малый (Apollinopolis Parva) древних, лежащий тоже на правом берегу реки, в 9 километрах выше Коптоса, был преемником последнего, как складочное место товаров, и сделался самым богатым городом Верхнего Египта во времена калифов и мамелюкских султанов. В настоящее время Кенех, Кайнополь или «Новый Город» греков, заменил Кус, как транзитный пункт для торгового обмена между долиной Нила и Чермным морем; в то же время это административный центр провинции. Из золы растения альфа и сладкой глины, которую внезапные воды уади Кенех приносят во время редких ливней, гончары этого рода фабрикуют водоохладительные сосуды, считающиеся лучшими в Египте; каждый год сотни барок спускаются к Каиру, нагруженные этими глиняными изделиями.
Открытие Суэзского канала, имевшее следствием перемещение торговых мест, в сильной степени уменьшило значение Кенеха, как складочного места товаров между Нилом и Аравийским заливом, а вместе с тем и приморский порт Коссеир, служащий связующим пунктом для этой торговли и пристанью, где садятся на суда пилигримы, отправляющиеся в Мекку, потерял значительную долю своей торговой деятельности и своего населения. Однако, караваны знают еще дороги через пустыню между этими двумя городами, и все еще идут толки о постройке рельсового пути, длиною около 200 километров, который, имея исходным пунктом Кенех, сделался бы истинным торговым устьем Нила: пароходы принимали бы грузы в Коссеире, и таким образом сберегались бы расходы по перевозке товаров почти через все протяжение Египта до Александрии. В 1882 году англичане проектировали сооружение более длинной железной дороги, именно от города Кенеха до древнего порта Вереники, которая, т.е. дорога, следовала бы почти по направлению римской дороги: благодаря этому железному пути, парусные суда были бы избавлены от трудного и опасного плавания в северной части Аравийского залива.
Нынешнее местечко Коссеир расположено на берегу с едва заметным изгибом в сторону материка, вследствие чего суда, стоящие на якоре, выставлены действию ветров, дующих с открытого моря; барки арабов находят себе пристанище возле самого берега, где они защищены от волнения с севера и с северо-востока коралловой мелью. Старый, полуразрушенный форт, господствующий над городом, был построен французами во время их экспедиции в Египет. Коссеир очень беден источниками, а следовательно и растительностию. Единственная истинно пресная вода—та, которая получается из Нила, но почти все жители довольствуются жидкостью слегка серного вкуса, за которой нужно отправляться в пустыню, в места, отстоящие от города более, чем на день ходьбы. Холмы и равнины в окрестностях Коссеира почти совершенно голые, лишенные всякой растительности, и вдоль морского берега повсюду видишь только пески, глины и кораллы, постепенно поднимающиеся над уровнем моря. Старый Коссеир, лежащий в 6 километрах к северо-западу, теперь уже недоступен для судов: шеб, или лабиринт коралловых рифов и мелей, растущий перед берегом, до такой степени съузил вход в порт, что моряки боятся проникать туда. Неизвестно, где именно—в Коссеире или севернее, на бухте Абу-Сомер, находилось местоположение древнего Миос-Гормоса, одного из наиболее посещаемых портов Красного моря во времена римского владычества. Могилы, надписи и другие остатки седой старины встречаются в большом числе в окрестностях и в соседстве колодцев, на дорогах «Аравийской пустыни». На севере, по близости мыса Рас-Эль-Гимсак лежащего против мыса Рас-Магомет, на Синайском полуострове, разработывали, еще недавно, пласты гипса, очень богатые залежами серы.
Напротив Кенеха, на левом берегу Нила, зеленеющие равнины, окружающие Тендерах, Тентериду древних греков, составляют яркий контраст с желтоватыми горками мусора развалин и с тройной оградой тройного святилища. Тентериты славились в древности своим искусством ловить и очаровывать крокодилов, которых они употребляли в качестве верховых животных; в наши дни нет уже никаких крокодилов в водах Дендераха. Обширный храм, построенный на фундаментах античных памятников зодчества, принадлежит эпохе относительно новой, как о том свидетельствуют медальоны Клеопатры и римских императоров до Антонина Пия, но по своему архитектурному плану и по характеру украшений он воспроизводит собою более древние храмы, хотя под очевидным влиянием эллинского искусства; богиня Гатор, которой поклонялись в Дендерахе, была понята платониками Александрийской школы совершенно иначе, чем ее понимали во времена фараонов. Очень хорошо сохранившийся, храм Гаторы есть один из самых богатых важными религиозными документами, каковы: программы церемоний, географические таблицы городов и областей, тексты молитв и заклинаний, календарь праздников, медицинские рецепты, списки лекарственных снадобий. В Дендерахе же находился драгоценный зодиак, перевезенный в Национальную библиотеку в Париже. Мариетт посвятил большое сочинение описанию этого храма, «каменного Талмуда», который он помог дешифрировать и которого он открыл несколько страниц; но эта литургическая поэма отличается гораздо большим единством, чем Талмуд: в совокупности египетского памятника развертывается во всех своих деталях представление древнего ритуала, и зритель видит перед собой последовательно все церемонии, переходя из залы в залу, до святая святых, где царь, проникавший туда один, встречался лицом к лицу с самим богом.
В самой широкой части Нильской долины, ниже Дендераха, две скромные деревни Гарабат-эль-Мадфуне, то-есть «Гарабат Закопанный», и Эль-Харге, расположились на развалинах Абидоса. До недавнего времени полагали, что здесь находился древний Тис (Тинис), пользовавшийся некогда большею славой, чем Фивы и Мемфис; однако, Мариетт предлагал искать остатки этого античного города ниже по реке, не ближе как в Гирге или по соседству с ним: теперь достоверно известно, что Тис и Абидос занимали различные места. В Тисе родился Мена или Менес, называемый основателем египетской монархии; в этом же городе, по сказанию легенды, тело Озириса, перенесенное впоследствии на остров Филы, было похоронено за сотни тысяч лет перед тем; там возникла египетская нация, и выработалась та самобытная цивилизация, от которой, через посредство древней Эллады, произошла в большей части и наша собственная культура. Храм, к которому стекались пилигримы со всех концов страны, как в наши дни паломники христианского мира направляются к Гробу Господню, не существует более; но в песке, пропитанном селитрой, отыскали большое число гробниц и надгробных памятников, которые там воздвигали себе знатные особы Египта, желавшие покоиться подле своего бога: по словам Масперо, гораздо больше половины стелей (четыреугольных колонн с надписями), хранящихся в музеях, происходят из Абидоса. Нагромождение древних могил, дотого высокое, что оно приняло вид вулканической горы, известно под именем Ком-эль-Султан или «Царская гора»: производимые там раскопки открывают все более и более древние могилы, по мере того как спускаешься далее в глубь земли, так что сам собой напрашивается вопрос: не откроют ли рано или поздно входа в катакомбу, которая вела в усыпальницу бога? За этим античным святилищем следовал, на том же месте, памятник, который, хотя он появился гораздо позднее храма Озириса, принадлежит, однако, к числу древнейших памятников Египта: это Мемнониум, который велел построить фараон Сети I, чтобы напомнить грядущим поколениям о славе его царствования, но который сын его, Рамзес II, заставил служить гораздо больше для сохранения в потомстве своей собственной славы. На нижних стенах этого храма Сети были изваяны географические списки. Британский музей обладает так называемой «Абидосской таблицей», искаженным списком царей, взятым из храма Рамзеса II; но раскопки Мариетта извлекли на свет новую «Абидосскую таблицу», содержащую полный список семидесяти шести фараонов, от Менеса до Сети.
Ниже Абидоса, по течению Нила, античные памятники исчезли по большей части; встречаются только города и местечки, если и не нового происхождения, то по крайней мере не имеющие уже сколько-нибудь интересных обломков предъидущих веков. Первая значительная группа населения в этом направлении—Гирге или Герга, главный город провинции, стоящий на левом берегу реки, который в этом месте постепенно размывается напором течения; воды Нила, прежде ударявшиеся о правый берег, вдруг бросились влево и теперь подтачивают высокий берег, на котором построен Гирге: целая половина города исчезла уже вместе с мечетями и минаретами. Сохаг и промышленный город Ахмин, древний Хемно, Панополь греков, стоят друг против друга, один на правом, а другой на левом берегу реки; затем следуют один за другим, в западной равнине, два города Тахта и Абутиг, в соседстве которых находится ущелье, посещаемое пилигримами, обожателями священного змея; это та область Египта, где коптский язык всего дольше сохранялся. Далее, в соседстве того же берега, но внутри материка, а во время наводнения между двух водных пространств, обрисовывается живописный профиль большого города, который еще сохраняет свое древнее имя Саут, слегка видоизмененное в Сиут или Ассиут: это Ликополь греков или «Город Волков», названный так потому, что он был посвящен Анубису. В этом городе родился Плотин. Сиут, административный центр всего Верхнего Египта,—торговый и промышленный город: там фабрикуют любопытные глиняные изделия, черные и белые, а его знаменитые трубки находят сбыт даже вне Египта; базар его в изобилии снабжен произведениями Дарфура и оазисов; порт Гамрах дополняет город своими амбаркадерами и набережными пристани. Недалеко от Сиута есть деревня Зауйэт-эль-Дейр, где коптские монахи еще не так давно занимались, под покровом специальной привилегии, гнусным ремеслом оскопления мальчиков, для того, чтобы продавать их впоследствии в качестве стражей гаремов. Могаммед-Али однажды сделал этой братии заказ на поставку трехсот штук евнухов. Копты ткут полотна и холсты, производство которых составляет одну из специальностей промышленности Верхнего Египта.
Сиут более, чем всякий другой египетский город, имеет непосредственные сношения с оазисами, цепь которых тянется в виде обширного полумесяца, параллельно кривой, образуемой течением Нила на юге, на западе и на северо-западе. «Большой Оазис», называемый также Южным или Харгехским, не самый многолюдный, но он имеет важное значение, как место прохода дарфурских караванов. В главном его городе, Эль-Харге, который не менял места, по крайней мере в исторические времена, сохранился храм Аммона, воздвигнутый в царствование Дария, «сына Изиды и Озириса»; широкая аллея пилонов предшествует святилищу, барельефы которого представляют чрезвычайное разнообразие лиц: в этом отношении храм Дария—единственный в своем роде. Все скалы в окрестностях этого храма изрыты подземными погребальными галлереями, где христианские гробницы очень многочисленны; в оазисе Берис, на юге, тоже сохранился египетский храм римской эпохи. Кругом нынешнего оазиса находят много развалин—доказательство, что возделанные земли занимали в старину более значительное протяжение: все эти пространства могли бы быть вновь завоеваны у пустыни, так как большинство колодцев засыпаны песком, и воды, утилизируемые в рисовых полях, образуют там и сям болота, распространяющие вредные испарения. Жители, немного чернее египтян и, вероятно, смешанные с нигрицийцами, имеют по большей части цвет лица, как у мертвеца; в то же время они очень бедны, и во многих местах принуждены уплачивать налоги корзинами, сплетенными из пальмовых листьев. Внутри города Эль-Харге строения опираются одно на другое, и лабиринт узеньких улиц проходит внизу сводообразными галлереями; в редких местах отверстие, подобно отверстию колодца, пропускает в эти темные подземелья сноп ослепительного света. Таков способ постройки во всех городах Сиваха, так же как во многих других местечках оазисов: этот род архитектуры встречается даже в Нубии.
Оазис Дахель или Дахле, то-есть Внутренний, называемый также Западным оазисом, Уах-эль-Габриех, гораздо более населен, хотя он едва упоминается древними; подобно оазису Харге, он имеет свой храм Юпитера Аммона, находящийся в соседстве его главного города, называемого Эль-Каср или «Замок»: это, вероятно, то самое святилище, которое хотел посетить Камбиз во время своей неудачной экспедиции. Население, состоящее из феллахов, имеющих такие же нравы, ведущих такой же образ жизни, как и феллах Нильской долины, еще гуще скучено, чем на берегах великой реки; каждый комок годной к культуре земли возделывается самым тщательным образом; финиковые пальмы, за которыми ухаживают с величайшей заботливостию, дают обильные и превосходные плоды. «Фрагмент, оторванный от Египта», оазис Дахель отличается от него, однако, своей растительностию; он имеет прекрасные плантации масличных, лимонных и апельсинных деревьев, в перемежку с пальмовыми рощами, которые дают лучшие в оазисах плоды. Жители Дахеля имеют нескольких лошадей, но верблюдов они не могли развести, причиной чему была ядовитая муха, составляющая бич страны в летнее время, и ужаление которой смертельно для животного. Недостатку верблюдов и приписывают главным образом совершенное неведение туземцев относительно пустыни, простирающейся на запад. Берег песков для них то же самое, что берег океана для народа, не имеющего кораблей.
Маленький оазис Фарафре, лежащий в 300 километрах от Сиута по прямой линии, находится в точности под тою же широтой. Протяжение его очень незначительно, и население, состоящее из нескольких сот человек, могло бы, в случае надобности, укрыться в ограде касра, господствующего над главным местечком. Посещенный только два раза европейскими исследователями, в 1819 году Фредериком Кальо, и в 1874 году Рольфсом и его спутниками, Фарафре не очень дружелюбно принимает у себя «неверных», особенно потому, что братство сенусиев приобрело там большое число приверженцев; эти мусульманские миссионеры, пришедшие чуть не нищими, теперь самые крупные землевладельцы оазиса, и можно сказать, все население находится у них в порабощении; взамен того, они учили своих крепостных стихам из Корана; благодаря их стараниям, все дети выучились читать и писать. Оазис Бахарие, более близкий к долине Нила и более богатый бьющими из земли водами, чем Фарафре, также и гораздо более населен: это, вероятно, «Малый Оазис» древних, и там можно еще видеть несколько памятников римского владычества: величественную триумфальную арку, подземные водопроводы, укрепления.
Наиболее отдаленные от Нила оазисы, по своему положению и естественным условиям принадлежащие скорее к Киренаике, чем к области великой реки, составляют группу Сивах, прославившуюся в древности оракулом Аммона, который, по сказанию Геродота, родился «в одно время с оракулом Додоны». Два главных города, Сивах и Агерми, построены из раковистого известняка и из камней нечистой соли, каждый на скатах скалы; по расположению своих внешних стен и своих террас, они представляют из себя какие-то странные крепости, впрочем, очень живописного вида. Крепость Сивах, в ограде которой около пятнадцати ворот, имеет всего только 380 метров в окружности; она увенчана высокими башнями, круглыми и четыреугольными, различающимися формой и размерами: это словно дома, поставленные один на другой и скрывающие внутри целую сеть подземных галлерей; город растет в вышину, прежде чем расширяться по поверхности земли. Храм Юпитера Аммона, куда приходил Александр Македонский, чтобы выслушать из уст оракула о предназначенной ему роли властителя мира, еще виден в окрестностях Агерми, а в расстоянии километра оттуда находятся развалины другого храма, окруженные пальмами; иероглифы, вырезанные на этих руинах, еще не были разобраны. Одна из острововидных скал, возвышающихся в низменности Сиваха, гора Джебель-эль-Мутах, изрыта во всех направлениях подземными галлереями древнего некрополя.
Главное богатство Сиваха составляют финики. Путешественник Иордан пытался вычислить производительность финиковых пальм оазиса по кубическому объему плодов, сложенных в кучи, для отправки в места сбыта, на складочной площади, пространством около 3 гектаров, расположенной близ большого каравансарая; по этому приблизительному исчислению, сто тысяч пальм вокруг города Сиваха доставляют около 3 миллионов килограммов фиников, и почти столько же пальмы другого города, Агерми; кроме того, общественные пальмовые рощи, небрежно содержимые, дают плоды более низкого качества, которые идут в корм скоту. Сивахская соль высокого достоинства, была встарину предназначена для некоторых религиозных культов, и ее вывозили даже в Персию для царского стола. Большие домоседы, жители Сиваха сами не вывозят своих произведений, а ждут, пока к ним явятся скупщики фиников и контрабандного табаку, привозимого через прибрежье Киренаики. Очень некрасивые лицом и, вероятно, весьма смешанного происхождения, они не походят на феллахов, но так же худощавы и истощены лихорадкой, как и жители Эль-Харге; язык их берберского происхождения; однако, большинство из них понимают арабский диалект и кое-как, с грехом пополам, говорят на нем. Они в высшей степени ревнивы; неженатые, молодые люди или вдовцы, должны жить вне города, составляющего как бы общий гарем племени; им указано для жительства отдельное поселение, нечто в роде крепости, по наружному виду похожее на метрополию, и посещение города разрешается им только днем. Новобрачные тотчас же после свадьбы устраивают себе гнездо в городе, где старшие члены патримониальной семьи уступают им верхний этаж своих домов, построенных в форме пирамиды; различные поколения распределены в этих жилищах по порядку возраста, от нижнего яруса к верхнему. Деревня Тара, в оазисе того же имени, имеет, как и Сивах, вид феодальной крепости.
Население оазисов в 1894 году:
| Годной к культуре земли, квадр. километров | Население, челов. | Среднее число жителей на 1 кв. километр | |
| Харге | 8,56 (по Швейнфурту) | 6.166 | 737 |
| Дахель | 60 (по Иордану) | 15.293 | 255 |
| Фарафре | 2,5 „ | 446 | 178 |
| Бахарие | 8,42 (По Кальо) | 6.176 | 734 |
| Сивах | 15 „ | 4.147 | 278 |
| Тара | ? | 40 | ? |
| Фаредга | ? | 2.006 | ? |
Жители оазисов Сивах и Гара еще большие фанатики, не столь ярые, однако, как обитатели оазиса, лежащего дальше, в направлении к заливам Сирт, и называемого Фаредга. Там, на отлогостях плоскогорья, возвышающагося к северу от низменности, находится родительский дом секты сенусиев, Иеркбуб или Джарабуб, основанный в 1861 году, и резиденция главы или гроссмейстера ордена, Сиди-Мохамеда эль-Махди; при этом монастыре, население которого, в 1883 году, состояло из 750 человек, уроженцев Алжира, Марокко и других мусульманских стран, есть маленький арсенал и оружейные мастерские. Готфрид Рот отзывается о фарегдском махди, как о «благодетеле бедуинов», которые обязаны ему основанием в африканской пустыне более пятидесяти станций, где караваны находят воду и провизию.
От Сиута до Каира все города, соединенные между собой железной дорогой, следуют один за другим на левом берегу реки, единственном, который окаймлен широким поясом возделанных равнин. За городом Манфалут открывается канал Ибрагимие, отведенный из Бахр-Юзефа; поля перерезаны во всех направлениях ирригационными каналами и канавками. Эта плодородная область Египта некогда была усеяна значительными городами. У подошвы «Аравийской» цепи находится обширный некрополь Телль-эль-Амарна, где все мертвые поставлены под покровительство семитского бога Атена (Адон или Адонай), «лучезарного Диска». Ашмунейн, близ станции Рода и большого сахарного завода, занимает местоположение древнего Хмуну, который греки и римляне называли Большим Гермополем (Hermopolis magna), и некрополь которого, вырытый в ливийских холмах, содержит множество мумий ибисов и павианов. На востоке, на правом берегу, против города Меллаве-эль-Ариш, пальмовые рощи, окружающие Шейх-Абадех, усеяны руинами, остатками древнего Антиноэ, построенного императором Адрианом в память Антиноя. Многочисленные памятники этого римского города, между прочим, великолепные колоннады, дорические и коринфские, существовали еще в половине настоящего столетия; они были сломаны ради получения известки и камня для современных построек. Скалы «Аравийской» цепи изрыты, как решето, погребальными гротами. На север от Шейх-Абадеха, береговые утесы тоже изобилуют подобными склепами, из которых многие насчитывают около пяти тысяч лет существования. Эти подземелья, называемые Бени-Гассан, по имени соседней деревни, содержат самые интересные из усыпальниц древнего Египта, интересные именно потому, что они посвящены не царям и не высокопоставленным лицам оффициального мира. Картины на стенах имеют менее условной помпы и представляют менее погребальных обрядов, мистических церемоний, но зато они рисуют перед нами самую жизнь народа: его битвы, его работы всякого рода, семейную жизнь, его развлечения и игры, как-то игру в бирюльки, в жгуты, в мяч и даже в криккет. Разрисованные барельефы этих гробниц показывают нам египтян древнего времени, какими они были на войне, на полях, в мастерской, в часы отдыха и увеселений; они раскрывают нам все секреты их фокусов, основанных на ловкости и проворстве рук.
Миние или Миниет, сменивший собою древний Мунат-Хуфу, или «Кормилицу Хеопса», есть один из больших городов Египта и главный город провинции; он ничего не сохранил из своих старинных памятников, но в тени его больших сикомор собирается значительный рынок, а его сахарный завод—один из самых деятельных в стране. Близ Миние, на утесе правого берега, расположен знаменитый «монастырь с блоком», Деир-эль-Бакара, получивший такое название от веревки, намотанной на блок, по которой спускаются коптские монахи при проходе путешественников, чтобы плыть впереди барок, выпрашивая милостыню или бакшиш. Во внутренней части «Аравийской» пустыни, но гораздо ближе к Красному морю, чем к Нилу, находятся две другие обители «Нижней Фиваиды»: монастырь св. Антония и монастырь св. Павла. Первый, населенный десятками пятью монашествующей братии, есть древнейший из христианских монастырей в Египте и во всем свете: тот и другой имеют тенистые сады, расположенные в той же ограде из каменных стен, как и сами монастыри.
Город Абу-Гирг, неподалеку от Нила и при железной дороге, сменил, по степени важности, Бехнесе, лежащий к северо-западу, на Бахр-Юзефе, среди руин древнего Памсжата, известного у греков под именем Оксирринхос или город «острорылой рыбы». Далее следуют города Магхага и Фешн, затем Бени-Суэф, административный центр провинции и торговый город, имеющий несколько ткацких фабрик; в этом же городе находятся в большом числе существующие с незапамятных времен печи для искусственной выводки циплят, составлявшей в течение многих веков специальную промышленность Египта. Бени-Суэф наследовал древнему Гераклеополю, который был столицей в эпоху девятой и десятой династий, и развалины которого виднеются на западе, вокруг деревни Ахнас-Эль-Медине; из Бени-Суэфа или с соседних станций в направлении к Каиру, из Буш-Кора и Эль-Уаста, отправляются путешественники, желающие посетить Файюм. Из Эль-Уаста они проникают прямо в центр провинции по железнодорожной ветви; из двух же более южных станций они вступают в Файюм через брешь, которою следуют воды Бахр-Юзефа, и по сторонам которой стояли памятники, воздвигнутые фараонами.
У самых ворот ущелья, близ деревни Эль-Лагун (Иллагун), сохранившей свое старое египетское имя Ло-Гун, «Устье канала», виднеются остатки шлюзованной плотины, задерживающей воды Меридова озера; далее высится пирамида, ныне бесформенный холм, построенная, как полагают, фараоном Аменемхой III, в царствование которого сооружался этот обширный озерный резервуар. Другая пирамида, высотой около тридцати метров, известная под именем Говары, стоит по ту сторону входного дефилея, уже в кругообразном бассейне Файюма, называвшагося в древности «страной моря». Пирамида эта, состоящая из каменного ядра, обложенного снаружи слоями кирпичей из нильского ила, имеет теперь, как и пирамида иллагунская, вид натуральной горки; но она хорошо сохранилась, в сравнении с дворцом, в котором Лепсиус, как он полагает, отыскал знаменитый в древности «Лабиринт, состоявший из двух этажей, каждый с полутора тысячью комнат, где посетитель терялся в бесконечных поворотах». От пышных строений Лопарогуна, или «Храма при устье канала», если верно, что он находился в этом месте, остались только груды обломков, развалившиеся кирпичные стены, следы порталов, редкие фрагменты изваяний из гранита или известняка; там открыли также голову царственного сфинкса, в роде тех, какие найдены в Сане; гиксы, следовательно, проникали даже в эту часть Египта. Один папирус, хранящийся в Булакском музее, в Каире, описывает с мельчайшими подробностями это древнее здание и служит путеводителем археологам, старающимся восстановить его план. Обширный бассейн, около семи километров шириной, знаменитое Меридово озеро, обнесенное плотинами, отделяло некогда Лабиринт от одного из больших городов Египта. Па-Себак, или «Город Крокодилов», известный во времена Птоломеев под именем Арсиноэ, занимал огромную площадь; уцелевшие стены, разбитый обелиск, разные другие остатки древности доказывают, что этот город был раскинут по меньшей мере на пространстве 8 километров, по направлению с севера на юг; в некоторых могилах, рассеянных в окрестностях, открыли в высшей степени интересные папирусы на разных языках: египетском, еврейском, греческом и даже на языке пельви; греческие манускрипты дают варианты Фукидида, Аристотеля, четырех евангелий.
Нынешняя столица края, Мединет-эль-Файюм, бывшая любимой летней резиденцией мамелюкских султанов, есть один из самых оживленных и самых оригинальных городов Египта, также один из самых красивых и живописных; сады его доставляют в изобилии плоды и цветы, между прочим, те великолепные розы, которые составляют гордость и славу, так же как и один из источников богатства Файюма, потому что копты утилизируют их для выделки настоящей розовой эссенции. К северу от Мединета лежит Сенгурес, тоже один из важных городов Файюма. Окружающие равнины богатой «страны моря», отвоеванной некогда у Тифона, т.е. у пустыни, благодетельным Озирисом, символическим богом вод Нила, производят много хлеба, хлопка, кукурузы, сахарного тростника, и целая сеть рельсовых путей соединяет сахарные заводы этого бассейна с главной железнодорожной сетью; но некоторые поля и плантации пришлось забросить, по причине возрастающей солености почвы, недостаточно выщелачиваемой ирригационными водами. Виноградники, покрывавшие часть территории семи селений, в семнадцатом столетии, давно исчезли. Близ южной оконечности бассейна Биркет-Эль-Керун, «Озера Рогов» или «Озера Веков», в котором скопляются излишния воды оросительных каналов, постепенно насыщающиеся солью, виднеются развалины храма, называемого Каср-Керун, или «Замок Рогов»; полагают, что это святилище занимает место, где стояла деревня Дионисиада. На юг от озера равнина простирается далеко к Уади-Рейяну, некоторые части которого, отделенные порогом «озера Рогов», лежат на 83 метрах ниже входа Бахр-Юзефа в Эль-Лагун. В этой низменности Коп-Уайтгоуз ищет место нахождения Меридова озера.
Почти непосредственно к северу от входа в Файюм стоит Мейдумская пирамида, которая начинает собою ряд памятников этого рода, оканчивающийся за Мемфисом: окруженная могилами, пирамида вздымает среди холма из обломков развалин свою башню с наклонными стенами, оканчивающуюся наверху двумя ступеньками; теперешняя высота её 60 метров слишком. Этот странный памятник, известный у туземцев под именем «лжепирамиды», не имеет за собой такой глубокой древности, какая ему приписывалась до недавнего времени; по мнению Масперо, который открыл его, он относится к эпохе одиннадцатой династии. Далее, возле нынешней деревни Матание, стоят две пирамиды, из которых одна имеет классическую форму, тогда как другая, более наклонная к вершине, чем в нижней части, имеет вид гигантского кристалла. Затем, в соседстве Нила, высятся четыре пирамиды, известные под названием Дашурских, из которых одна достигает 99 метров: это третья по высоте между египетскими пирамидами и лучше всех сохранившая наружную облицовку из полированных камней. Семнадцать других пирамид, расположенных правильным рядом на краю ливийского горного берега, над деревней Саккара, все превзойдены в высоте знаменитой пирамидой с пятью ступенями, которую большинство египтологов считают древнейшею из пирамид; самая форма её, воспроизводящая форму многочисленных скал Ливийской цепи, была, кажется, первоначальным типом памятников этого рода; сооружение её Мариетт приписывает первой династии фараонов, царствовавшей за шесть с половиной тысяч лет до нашей эпохи. Многие из Саккарахских пирамид, недавно открытые, были исследованы вполне; они заключали в себе гробницы государей шестой династии. На краю ливийских утесов высятся четыреугольные здания, в форме огромных могильных камней: это так называемые мастабы, воздвигнутые над усыпальницами, высеченными в скале. Самая большая из этих погребальных построек, называемая арабами Мастаба-эль-Фараун, была, как гласит легенда, престолом, с высоты которого государи Египта возвещали народу свою волю; раскопки доказали, что это была гробница Унаса, принадлежащего к пятой династии. Гробницы этого громадного некрополя разделены правильными, пересекающимися под прямым углом, улицами, и Масперо полагает,, что пирамиды тоже были распределены по известному порядку. Пирамиды первых династий высятся на севере; в Файюме мы видим пирамиды двенадцатой династии; нужно ожидать, что между этими двумя группами современен будут найдены царские могилы промежуточных династий, от шестой до двенадцатой, и тогда пополнится тот «большой пробел», на который указал Мариетт в каменных памятниках египетской истории.
У подножия откосов, на верху которых высятся Саккарахские пирамиды, неровности почвы обозначают местоположение и остатки знаменитого Мемфиса; маленькая деревня Бедрешейн расположена на южной оконечности этой обширной области руин, а селение Мит-Рахине занимает её центр. Пальмовый лес простирается на большей части некогда обитаемой площади. Город, основанный Менесом, покрывал огромное пространство, судя по остаткам плотин, окаймляющих реку, и по горкам обломков, которыми усеяна равнина; но не испытав никакого вражеского нашествия и разгрома, он был основательнее разрушен действием времени и сам собою пришел в упадок, вследствие неблагоприятно сложившихся обстоятельств. Основание Александрии, затем возникновение Каира на правом берегу реки, с такими же географическими выгодами, какие представляло положение Мемфиса, сделали бесполезным существование этого города; его мраморы и граниты были перевезены в Александрию: менее ценные материалы пошли на постройку соседних городов; он раздробился на множество феллахских деревень. От пышной столицы фараонов остались только имя, даваемое горке Телль-Монф, и недалеко от этой горки две колоссальные статуи Рамзеса II. Громадный Мемфисский некрополь, занимающий площадь в несколько сот квадратных километров, принял в себя миллионы мумий людей и животных.