V.
Алжирская флора, мало отличающаяся от флоры западного Туниса, между границею и мысом Бон представляет, однако, более определенные деления в своих различных областях, по причине преград, противопоставляемых горами и плоскогорьями распространению растений. В прибрежной зоне и на северной покатости краевых гор растительные виды, приносимые водами, ветрами, людьми, составляют самую многочисленную и самую богатую флору, благодаря разнообразию почв, положения в отношении стран горизонта, местных климатов. Там встречаются еще леса, хотя пожары и варварская эксплоатация сильно уменьшили их протяжение. В лощинах по берегам рек, осина, тополь, ясень, соединенные в один массив сетью лиан, образуют непроницаемые чащи; на скатах гор леса состоят преимущественно из алепской сосны (pinus halepensis), можжевельника и других деревьев, принадлежащих к семье хвойных. Различные породы дуба—пробковый, quercus mirbeckii—также образуют большие леса, особенно в восточных частях алжирского прибрежья. На вершинах растут кедры, простая разновидность ливанского, от которого они отличаются только тем, что иглы у них немного короче; впрочем, они еще больше похожи на кипрский кедр. В молодости или в оврагах алжирский кедр часто принимает пирамидальную форму, тогда как на скатах он широко раскидывает свои ветви в виде короны; можно подумать, что это два разных дерева. Ботаники не указывают особых древесных пород, свойственных исключительно Алжирии, но они встречают там и сям заблудших представителей отдаленных флор. Так, в соседних с Ла-Калле лесах сырая почва по берегам озера Эль-Гут производит ольху, какую мы видим в сырых местностях Франции; там же встречается крушина (rhamnus frangula), ничем не отличающаяся от растущей в Бретани. В сырых и лесистых горах Тлемсена ботаник Кремер открыл один древесный вид, евфратский тополь (populus euphratica), который встречается только в Марокко и в Азии, на берегах Иордана и Евфрата; таким образом две половины области произрастания этого дерева разделены громадным пространством равнин, скал и гор, которое тянется через все побережье Средиземного моря, от Суэзского залива до Оранской бухты. Точно также дуб с листьями каштана (quercus castaneaefolia), который до сих пор известен был только на Кавказе, распространен между городами Ла-Калле и Бужи, в горах Бабор, где он образует высокоствольные леса, не уступающие лучшим лесам Франции. Каштан встречается в диком состоянии только на горе Эдуг, близ Боны. Вмешательство человека обогатило алжирскую флору многими другими древесными породами, происходящими из отдаленных стран: так, рощи и шпалеры эвкалипта уже изменили вид полей почти во всей северной Алжирии; к сожалению, не ограничились насаждением этих дерев в сырых землях, требующих осушения: их разводят также во многих местах на сухой почве, которую они еще больше ухудшают, лишая ее влаги, находящейся в нижних слоях.
Большинство алжирских лесов усеяны кустами, принимающими форму порослей, называемых в Корсике маки (от итальянского macchia, чащи деревцов, как лавр, мирт и пр.), чащей кустарника, характеризующих средиземную область растительности. Прежде это были настоящие леса, как их и теперь еще называют, и для того, чтобы они снова приняли свой лесной характер, достаточно было бы защитить их от пожара и пастьбы скота. Лес повсюду обнаруживает стремление разрастаться: вокруг каждого кедра весною видны сотни молодых побегов; но проходящая корова разом уничтожает несколько будущих деревьев. Уже опустошенные римлянами, истреблявшими целые леса в поисках драгоценного citrus, жизненного дерева (thuya articulata), пни которого так высоко ценились за их красивые прожилки и волнистые полоски, леса Алжирии, выросшие после того на горах, теперь снова уничтожаются угольщиками и сдиральщиками коры: опустошители срубают целые деревья, чтобы вырезывать трости из их ветвей. В настоящее время обширные «леса», простирающиеся на пространстве сотен квадр. километров, не содержат более ни одного дерева: они представляют лишь низкие деревянистые растения и кустарники, высотою от одного до трех метров, каковы: мастиковое дерево, крушина, ююба, земляничное дерево, мирт, вереск; бобовые, как, например, шильник и испанский дрок, там так же многочисленны, как в андалузских чащах кустарника; встречаются также пучки тапсии (thapsia garganica), пользовавшейся некогда такой славой в Киренаике под именем сильфия (silphium), и очень ценимой также алжирцами, которые называют ее бунафа, «отец полезнаго». Низкорослые пальмы, приводящие в отчаяние колонистов-распахивателей своими бесконечно переплетающимися корнями, но волокна которых употребляются в иных местах для выделки корзин, веревок, растительного конского волоса, образуют почти одни обширные лесные чащи. Обыкновенно кустарник придает горам Алжирии печальный и монотонный вид, он скрывает под своею курчавою растительностью чистый профиль холмов, под его однообразной пеленой исчезают все выступы, все неровности рельефа почвы; но весною горы, покрытые цветущим дроком, кажутся одетыми в золотой плащ. Степи тоже убраны цветами, ослепительным ковром, который скоро сменяется серым колоритом растений, спаленных солнцем: только очень немногие из травянистых видов выносят жару и сохраняют свою зелень в продолжение всего лета.
Из 2.964 видов, составляющих, по Коссону, алжирскую флору (2.993, по Мэтью), 1.537 специально средиземных и 1.316 принадлежат к испанской флоре; 896 схожи с сицилийскими растениями. Точные статистические данные позволяют констатировать аналогию растительности на алжирском побережье с соответственными частями берегов Европы. Так, средиземная область провинции Константины своими растительными формами напоминает в особенности Сардинию, Сицилию, Италию и Мальту; флора Алжирской провинции соответствует физиономии растений северо-восточной Испании, Балеарских островов, южной Франции; флоры Орана и Мурсии, разделенные лишь узким рукавом моря, представляют большое сходство между собою. В алжирской флоре первое место занимают сложноцветные, составляющие около восьмой части всей растительности; за ними следуют бобовые и злаки.
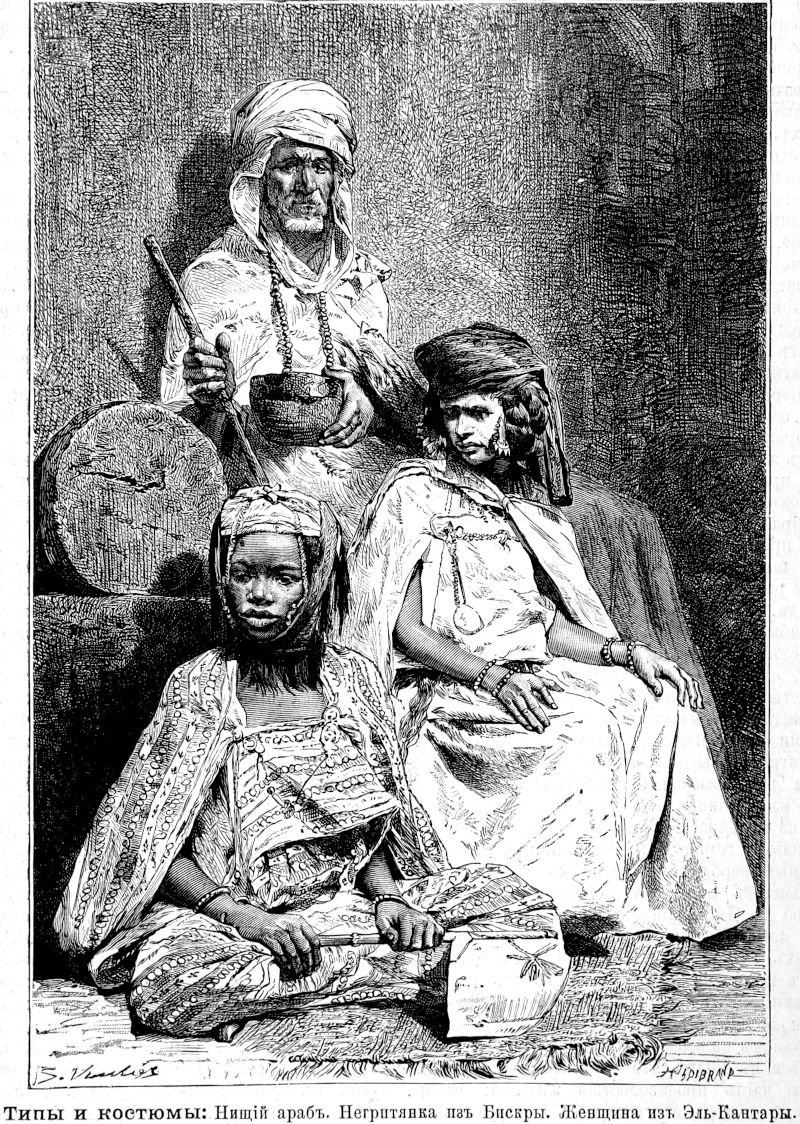
Выше береговой области и по ту сторону краевых гор растительность меняется, не столько по причине изменения высоты над уровнем моря, сколько вследствие положения местности относительно стран горизонта и содержания в воздухе водяного пара. Маслина, характеристическое плодовое дерево прибрежной области и горных склонов, обращенных к Средиземному морю, не проникает в пояс плоских возвышенностей или, по крайней мере, встречается там лишь в виде кустов; однако, она растет еще в Джебель-Ауресе, на сахарской покатости этих гор, и в оазисах, лежащих у их подошвы. Пробковый дуб и алепская сосна исчезают на той же высоте, как и оливковое дерево: дуб quercus mirbeckii не показывается на склонах, омываемых недостаточно влажным воздухом; выше 1.600 метров не видно более зеленых дубов. В Джурджуре кедр начинает образовать целые леса на различных высотах, от 1.050 до 1.200 метров, и поднимается по склонам выше, чем другие древесные породы; по мере того, как поднимаешься в гору, дубы постепенно исчезают на северном склоне, а сосны—на южном, уступая место кедрам. В соседстве краевых гор растительность высот продолжается на плоскогорьях авангардом смелых деревьев: сосны, можжевельника и ясеня; но их приземистый, искривленный ствол, их скудная растительность свидетельствуют о трудности акклиматизации: они являются как бы чужеземцами во враждебном им климате. Единственное дерево, встречающееся на плоскогорьях, вдали от гор, и вполне освоившееся с этой средой сильных ветров, сухого воздуха и крайностей температуры, это—бетум, род терпентинного или фисташкового дерева (pistacia atlantica), издали похожий на дуб; он стоит одиноко и своею черною листвой прерывает однообразие сероватой поверхности бесконечной равнины. Некоторые виды тамариска растут в падях, на краю оврагов, в которых бегут быстрые воды после таянья снегов; по краям редких дагия, в которых сохраняется влажность впродолжении нескольких месяцев, появляются различные растения европейского типа. За исключением терпентинного дерева, тамариска, редких древесных видов, живущих в лощинах, и пород, насажденных колонистом вокруг станций военных или гражданских,—в области высоких плато нет ни деревьев, ни кустарников; большие зонтичные, виднеющиеся там и сям на возвышениях почвы, словно вырезанные на небе, кажутся деревьями гигантских размеров. Характеристическую растительность составляют жесткия травы. Высокие части плоскогорья, на пространстве около 4-х миллионов гектаров, покрыты большими злаками рода ковыль (stipa) и особенно видом, хорошо известным в промышленности под именем альфы (stipa tenacissima), но долины заключают другое растение, ши (artemisa herba alba), тот вид чернобыльника, сухие листья которого арабы курят, как табак, и который населяет обширные пространства северной Африки, от мароккского Атласа до принильских пустынь. На всем оранском юге, контраст между двумя площадями растительности, артемизией и альфой, указывает в то же время контраст высот в общем рельефе страны. На высоких восточных плато, именно в равнинах, по которым кочуют племена немемша и гаракта, господствующее растение—гетаф (atriplex halimus), очень любимый верблюдами; маленькие пучки его покрывают почву на необозримое пространство. Дис (ampelodesmus tenax), похожий на альфу,—тоже одно из самых обыкновенных растений на плоскогорьях; арабы кроют им свои хижины и вьют из него веревки. Между тайнобрачными белый трюфель, или терфас (tuber niveum), так распространен на высоких оранских плоскогорьях и в Годне, что составляет значительную часть продовольствия жителей; вскоре после дождей, этот клубень обнаруживается маленьким вздутием почвы, и, чтобы собирать его, нужно только разрыть землю на небольшую глубину. Кое-где на земле около пучков травы стелется лишай, называемый солдатами «manne», а у ботаников известный под именем parmelia esculenta (canora).
Сахарская область не есть страна, лишенная всякой растительности, как обыкновенно думают; не говоря уже об оазисах, где подлесье пальм состоит из плодовых деревьев различных пород и многочисленных трав, сотни растений развиваются на глинистых, каменистых, песчаных или болотистых пространствах пустыни; как и на высоких плато, бетум или фисташковые деревья с широким зонтиком, с могучим стволом, откуда вытекает смола, похожая на хиоссую мастику, показываются там и сям, покрывая серую землю черною тенью, к которой направляются стада; в этой области дерево представляет более поражающий предмет, чем гора. Но растения с европейскою физиономиею довольно редки в Алжирской Сахаре; сахарская флора не представляет почти никакого сходства с итальянской; более всего сродства замечается с флорами Египта, Палестины, Аравии, южной Персии. Коссон, излагая закон последовательности растительных видов с севера на юг Алжирии, говорит, что по мере удаления от морского побережья по направлению меридиана, приближаешься менее к тропическому поясу, чем в зоне Востока. В целом сахарская флора, заключающая 560 видов, в том числе около сотни особенных, исключительно ей свойственных, отличается однообразием видов на больших пространствах. Большинство этих растений многолетния, тощие, усаженные иглами или узкими листьями, и живут особняком, уединенными пучками. Тамариск и дрок—почти единственные деревья; но легко было бы увеличить их число, и европейцы уже сделали успешные попытки насаждения разных древесных пород в соседстве бьющих из земли ключей. Даже пески могут покрываться растительностью. Различные растения, прозябающие в диком состоянии, родятся на дюнах и способствуют укреплению, если не верхней части, которая движется, смотря по направлению ветра, то, по крайней мере, нижних её скатов: постепенное прикрепление песчаного бугра и преобразование его в постоянный холм происходит от основания к вершине. Разные виды дрока являются единственными представителями древесной растительности на дюнах и образуют в промежуточных узких долинах или оврагах округлые и редко разбросанные кусты. Травянистые растения также встречаются в сыпучих песках, которые они скрепляют своими корнями: таков злак, называемый дрин (arthratherum pungens), семена которого заменяют ячмень во время голодовки, для прокормления людей и скота: в среднем, три меры зерен дрина обмениваются за одну меру ячменя.
Фауна Алжирии, как и её флора, составляет часть средиземной зоны, свидетельствуя о существовавшей в прежния времена непрерывности материков. Мавританские животные принадлежат не к континенту Африки, но к Европе. Почти все виды общи—или, по крайней мере, прежде были общи—двум странам, которые в настоящее время разделены водами Внутреннего моря. Однако, по мере того, как подвигаешься к югу, удаляясь от морского побережья, аналогия уменьшается и, наконец, совсем исчезает, сначала для млекопитающих, затем для птиц; в южной области замечается даже между алжирскими видами и видами Нубии, Абиссинии, Сеннаара все более и более разительные сходства. Несмотря на существование пустыни, которая, впрочем, прежде была менее обширна и более богата растительностью, многие животные виды могли переселяться из Центральной Африки в Мавританию и таким образом придавать некоторое сходство местным фаунам; но что касается раковин, которые перемещаются медленно и могут переходить лишь узкия пространства, неблагоприятные их развитию, то нормальное распределение видов сохранилось до сих пор; между малакологической фауной Алжирии и Судана замечается полный контраст. Один только вид раковин, общераспространенный в пустыне, melania tuberculata, не принадлежит ни к какому из центров европейской системы и происходит из собственно африканского центра; но этот вид можно считать почти космополитом: его находят в Египте, в Передней Азии и даже в Индии и на Маскаренских островах; он составляет единственное звено, связующее малакологические фауны Северной и Центральной Африки. Нельзя также делать сближения между раковинами Алжирии и раковинами островов Атлантического океана, Канарских и Мадеры: единственные виды, общие этим двум областям,—это прибрежные формы космополиты, встречающиеся повсюду, где влияние Средиземного моря могло быть ощутительно в каком-либо геологическом периоде. Таким образом, по происхождению своих животных видов, Алжирия совершенно отграничена на юге и на западе; во внутренней своей части она также делится на области, ясно обособленные климатом: по Бургинья (Bourguignat), в алжирской территории с севера на юг следуют одна за другою шесть параллельных фаун: прибрежная, горная, затем фауна плоских возвышенностей, за которой следуют вторая горная и вторая прибрежная, то-есть фауна исчезнувшего моря; далее идет фауна пустыни. Из всех этих фаун горная обнимает наибольшее число видов. Некоторые фауны занимают площадь, точно обведенную течением рек: так, одна ящерица водится только в треугольном пространстве, ограниченном с одной стороны Сигом, с другой—Шелифом.
Для одних и тех же форм установился некоторый контраст между Алжирией и средиземным побережьем Европы. Однородные виды разнятся величиной, именно алжирские вообще мельче, что, без сомнения, зависит от их вынужденной большей умеренности в пище: в Алжирии природа скупее на счет корма, но она дает им более блестящее одеяние; более яркий свет отражается даже в шерсти зверей, исключая те области, где животное, чтобы не отличаться окраской от окружающего сероватого пространства, приняло, в силу миметизма, угрюмый колорит пустыни. Периоды воспроизведения и линяния наступают у алжирских млекопитающих и птиц позднее, чем у их европейских родичей, хотя, казалось бы, должно быть наоборот: причина тому—опасности, которым иначе подвергались бы во время весенних дождей новорожденные и животные, лишенные теплой зимней одежды.
С тех пор, как алжирская фауна отделена от европейской морскими пространствами, та и другая изменились, не столько вследствие образования новых разновидностей, сколько по причине исчезновения многих старых видов. Из двух половин средиземной области Европа, ранее заселенная и распаханная в большей части своего протяжения, конечно, потеряла сравнительно больше видов из своей первоначальной фауны; но и в Мавритании число животных пород уменьшилось, даже в исторические времена. Не подлежит сомнению, что слон жил две тысячи лет тому назад в лесах Нумидии; охотники ловили его там, чтобы везти в Рим, где он участвовал в боях цирка. Теперь неизвестно даже, к какой разновидности принадлежал этот представитель больших толстокожих, но, по всей вероятности, он был той же породы, как слоны Мальты и Испании, кости которых находят в пещерах: на скале эль-Хенга, между Гельмой и Уэд-Зенати, иссечены грубые барельефы, изображающие слонов и еще какое-то бесформенное животное, как полагают, страуса. Медведь не встречается более в Алжирии, как в высоких гористых областях западной Европы, где он мог найти себе убежище против охотников равнин; но многочисленные легенды и предания недавнего происхождения доказывают, что этот зверь существовал еще в эпоху завоевания в местных массивах, где берет начало Сейбуза; Шау и Пейсонель упоминают о нем, как о животном, водившемся в их время в лесах Алжирии; Орас Верне видел свеже препарированную шкуру; еще недавно называли охотников, ходивших на медведя. Оленю, о котором неизвестно с достоверностью, принадлежит ли он к древней мавританской фауне, тоже грозит опасность истребления, и охотники встречали его только в пустынной пограничной полосе, отделяющей землю хумиров от территории бени-салахов и других алжирских племен. Семейство обезьян представлено в Мавритании одним только видом—мартышкой, pithecus innuus, которая встречается в Европе, на Гибралтарской скале. На африканской территории это четырерукое является лишь беглецом: оно держится вдали от человеческих жилищ, прячась в углублениях скал или даже в соседстве снегов; колонии его существуют еще в горах Большой Кабилии и в ущельях, сжатых между крутых стен; но как много оврагов и скал, называемых «Обезьяньими долинами» и «горами», где путешественники тщетно стараются увидеть мартышек, забавные прыжки которых описывались их предшественниками! Джурджурские кабилы не убивают обезьян, которых предание называет братьями гештулов, то-есть таких же, как они, аборигенов; но когда им случится поймать мартышку, они наряжают ее в красную жакетку или привязывают на шею гремушку, затем отпускают в поле: подруги, устрашенные видом своего переодетого товарища, не осмеливаются более бродить вокруг деревень. Главные враги обезьян в Кабилии—орлы и пантеры.
Всего ожесточеннее преследует человек больших хищных зверей: оттого большинство их исчезли из Европы, тогда как в Африке, менее населенной, они еще сохранились. Так, лев, пантера, сервал или тигрокот (felis serval), гиена, шакал, золотистая лисица, виверра варварийская водятся еще в Мавритании, тогда как палеонтологи разыскивают их кости в пещерах южной Франции. В провинции Константине, где, благодаря более обильной влажности воздуха, леса представляют густые чащи, львы и пантеры еще более многочисленны, нежели в других областях Алжирии: в некоторых местах эти страшные звери бродят вокруг деревень, и путники нередко были пожираемы на больших дорогах. Недалеко от города Бужи, на побережье, один почти непроницаемый густой лес, перерезанный болотами и топями, служит излюбленным логовищем хищных зверей, так что под вечер пешеходы остерегаются проходить в одиночку этими лесными чащами. Из всех диких зверей самый страшный—барс, или пантера; однако, льву все еще дают титул «царя» за его силу, и шкура его считается самым славным из трофеев. Особенно много львов еще близ границ Туниса и в гористой и лесной полосе, которая тянется к югу от Шелифа, вокруг массива Уарсенис; но, нет сомнения, царь зверей скоро исчезнет в этой области и во всей Алжирии, как он исчез уже почти во всех местностях морского побережья, так как его беспощадно преследуют охотники, которых привлекает либо приманка премии, либо желание сильных ощущений. Истребление хищных зверей в Алжирии за восемь лет, с 1872 по 1880 г., по статистике выданных премий, представляло следующие цифры: убито львов, львиц, львенков—181, пантер—988, гиен—1.483, шакалов—22.619 шт.
Впрочем, статистические данные неполны, потому что колонисты убивают много опасных животных, не требуя премии. Во многих округах истребление больших зверей влечет за собой важные неудобства в смысле нарушения равновесия между животными видами. В пограничной с Тунисом области львы и барсы питаются главным образом дикими кабанами и вепренками, которыми кишат лесные чащи. Они редко нападают на людей и их стада, так как находят достаточно дичи для утоления голода; но с тех пор, как охотники объявили беспощадную войну «царям лесов», кабаны сильно размножились и делают страшные опустошения на полях: из этих двух врагов землевладелец предпочитает иметь дело с первым и требует, чтобы премия, платимая убивателю львов, была перенесена на истребителя кабанов.
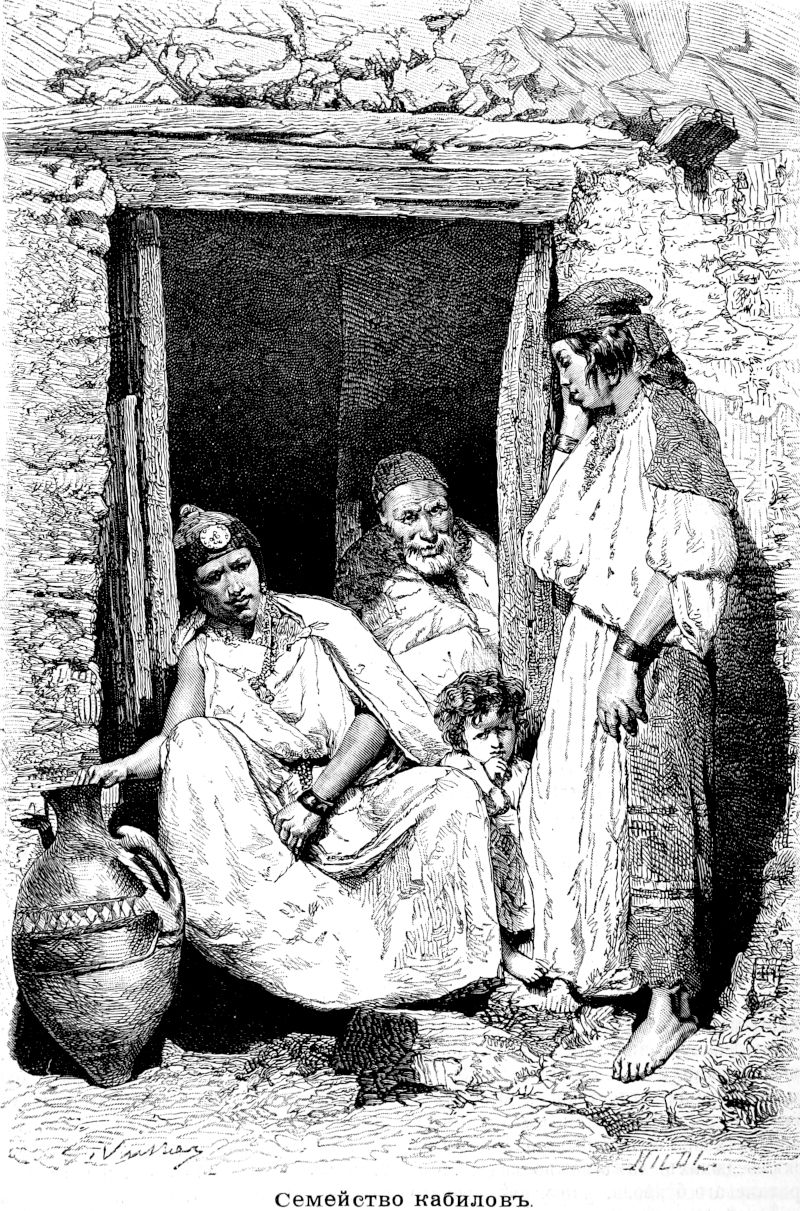
Фауна высоких плоскостей отличается от фауны морского прибрежья и краевых гор: это область бегающих животных, которые проходят огромные расстояния в поисках пастьбы и воды. Эта страна служит еще местом большой охоты, хотя и там дичь стала уже заметно реже. Некоторые виды даже совсем исчезли. Когда французы совершали свои первые экспедиции на высокие плато, дикие страусы паслись там стадами и, не пугаясь еще соседства белого человека, подходили к самым палаткам; теперь же их тщетно ищут: охотники не успокоились до тех пор, пока не истребили всех до последняго. Сомнительно даже, удастся ли птицеводам сохранить эту породу в домашнем состоянии, ибо алжирский страус, более ценный, чем канский по красоте перьев, принадлежит к разновидности, разведение которой гораздо труднее, и на птичьих дворах он скоро вымирает. Драхва повывелась, хотя ее и приручили. Дикий кабан тоже довольно редок и встречается почти только на крутых горных массивах, господствующих над высоким цоколем плоскогорья. Газели, принадлежащие к трем различным видам, стараются держаться подальше от человека и спускаются с плоскогорий к сахарским пустыням; но иногда недостаток воды заставляет их возвращаться на высоты. Недавно, когда еще охоты в больших размерах не опустошили плоских возвышенностей, можно было встретить стада в двести или триста газелей, так тесно скученных, что иной раз они мешали друг другу бежать, и сталкивающиеся рога их «производили шум, напоминавший барабанную дробь». Тушканчики живут еще мириадами в своих подземных галлереях; на восточных плато, в окрестностях Тебессы и Хеншелы, встречается грызун того же рода, очень похожий на степного зайца: это—гунди.
Хотя высокие плато уже перестали быть главным местом охоты, однако, там все еще сохраняются традиции высшего звероловного искусства. Феодальные фамилии края держат ловчих соколов из породы балабана (falco laniarius), и имена славнейших из этих «пернатых охотников» переходят из уст в уста на всем пространстве Алжирии. Прекрасные борзые, или «слуги», тоже высоко ценятся, имеют своих льстецов и историографов, тогда как другие собаки, презираемые мужчинами, избиваемые женщинами, остаются в полудиком состоянии: как большинство кошек, они привязываются к месту, а не к хозяину, и бродят вокруг шатров, наводя страх на путешественников. Из всех товарищей алжирского охотника ни один не пользуется такою любовью, как его конь, и, действительно, во всем севере нет лошади, которая превосходила бы алжирскую статностью, ретивостью, кротостью, умеренностью и неприхотливостью в пище, неутомимостью и выносливостью к переменам температуры.
Зоология, как и ботаника, ясно указывают на сродство южной Алжирии с Востоком в отношении животного и растительного царств. Газели, встречаемые иногда на высоких плоскогорьях, принадлежат к тем же видам, как газели Аравии; египетский заяц, lepus isabellinus, водится также в Сахаре; меха, нубийская антилопа addax, была найдена и в алжирских дюнах; там можно видеть также африканского буйвола, уаш, называемого «варварийской коровой», у которого глаза помещены по бокам и как бы назади его длинной головы; феннек, canis zerda, подкрадывающийся к хижинам оазисов в уэде Риг, ничем не отличается от своих родичей, обитающих в Нубии и на скатах абиссинских гор. Гадюка рогатая (vipera cerastes) и многие другие виды пресмыкающихся общи Египту и алжирской Сахаре. Огромная ящерица уаран, называемая также египетским караульщиком (monitor), часто встречается в Сахаре и даже в проходах, поднимающихся к плоскогорьям; попадаются экземпляры, достигающие метра в длину и похожие на маленьких крокодилов. Туземцы очень боятся этой ящерицы, которой они приписывают волшебную силу: сложилось поверье, что от удара её хвоста женщина становится бесплодною, а мужчина импотентным; оттого кто хочет овладеть этим опасным животным, употребляет величайшие предосторожности, чтобы не подвергнуться фатальному удару. Рассказывают, что уаран сосет коз и овец, обвивая свой хвост вокруг их задних ног, и даже усиленные толчки жертвы не могут заставить его выпустить добычу. Подобно хамелеону, уаран, говорят, смертельный враг гадюки рогатой, и когда эти два гада встретятся, бой между ними оканчивается не иначе, как смертью одного из борцов. Другой замечательный вид того же семейства—добб, или пальмовая ящерица, нежное мясо которой употребляется в пищу жителями юга, а из кожи её выделывают саше и коробки. По рассказам туземцев, в знойной области, отделяющей оазисы и краевые горы от плоскогорья, водится несметное множество змей. Один из видов, описываемый арабами, но еще не виденный натуралистами, походит на найю индусов или очковую змею, судя по тому, что рассказывают о раздувании её шеи под влиянием гнева; арабы называют ее «тамой». Пифоны тоже, говорят, очень многочисленны в этой сахарской мархии. Что касается крокодила, которого считали совершенно исчезнувшим из Мавритании с исторической эпохи, то он еще существует в текучих и стоячих водах пустыни. Окапитэн первый открыл этого зверя в русле уэда Джедди, а после того его находили в верхних притоках Игаргара.
Насекомоядные птицы, которых охотники преследуют только в окрестностях городов, чрезвычайно многочисленны, так что в некоторых местах полеты их, словно тучи, застилают небо. Обилию этих птиц и следует приписывать редкость гусениц и бабочек. Саранча (adipoda cruciata), этот величайший бич Алжирии, бывший одною из главных причин страшного голода 1867 года, кишит мириадами только в исключительные годы; обыкновенно же размножение сдерживается аистами, этими «провидениями земледельца». На плоскогорьях Сетиф иногда видали тысячи аистов, выстроившихся в боевую линию и клювами пробивающих движущуюся стену саранчи.